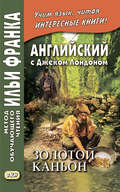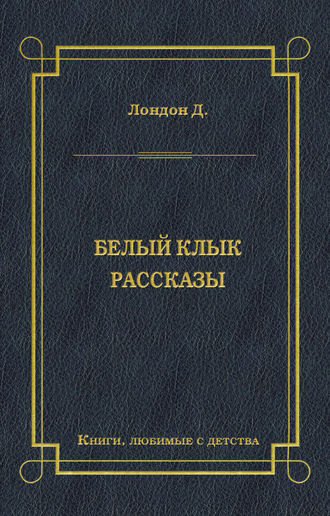
Джек Лондон
Белый Клык. Рассказы
Глава 3
Песнь голода
День начался благополучно. За ночь не пропало ни одной собаки, и путники бодро двинулись в путь, углубляясь в безмолвие, мрак и холод. Билл, казалось, позабыл свои ночные предчувствия и даже шутил с собаками, когда те опрокинули сани.
Это была досадная неловкость. Сани перевернулись и застряли между стволом дерева и большим утесом. Билл и Генри были вынуждены снять с собак постромки. Наклонившись над санями, они старались поставить их прямо, когда Генри заметил, что Одноухий несколько отдалился.
– Назад, Одноухий! – крикнул он собаке.
Но Одноухий бросился бежать, волоча постромки. А там, где оставались их колеи, выйдя из-за сугробов, ждала его волчица. Пес приблизился к ней и вдруг насторожился, замедлил шаги и остановился. Он смотрел на нее внимательно и недоверчиво, хотя и похотливо. Она же, казалось, улыбалась ему, скаля зубы скорее благосклонно, нежели угрожающе. Она игриво сделала несколько прыжков и остановилась. Одноухий двинулся за ней медленно и осторожно, подняв хвост и уши, вытянув морду. Он попытался обнюхаться с ней, но она игриво отпрыгнула. На каждый шаг вперед с его стороны она отвечала шагом назад. Она заманивала его, шаг за шагом уводя от защиты людей. Вдруг как будто неясное подозрение остановило его, он оглянулся и посмотрел на опрокинутые сани, на своих товарищей по упряжке и на людей, подзывавших его. Но если мысль об опасности и зародилась у него в мозгу, она быстро была рассеяна волчицей, которая подбежала к нему на мгновение, обнюхала его и возобновила игру, уводя его все дальше.
Между тем Билл вспомнил о ружье, но оно было придавлено опрокинувшимися санями, и пока Генри помогал ему поправить груз, Одноухий и волчица оказались слишком близко друг к другу, чтобы стрелять с такого расстояния.
Слишком поздно Одноухий понял свою ошибку. Еще не догадываясь, в чем дело, оба человека заметили, что пес повернулся и бросился назад. И тут они увидели, что десяток тощих серых волков несутся по снегу под прямым углом к пути наперерез Одноухому. Сразу окончились заигрывания волчицы. С рычанием она прыгнула на Одноухого, но он отбросил ее плечом; видя, что прямая дорога назад отрезана, и все еще надеясь добраться до саней, он бросился к ним по кругу. Но волков прибывало все больше и больше, и все они участвовали в погоне. Волчица была ближе всех, на расстоянии прыжка позади Одноухого.
– Куда? – вдруг крикнул Генри, схватив товарища за плечо, но Билл стряхнул его руку.
– Хватит! – сказал он. – Больше они не получат ни одной собаки.
С ружьем в руках он бросился в кустарник, окаймлявший дорогу. Его намерение было ясно. Приняв сани за центр круга, по которому бежал Одноухий, он рассчитывал пересечь круг в точке, ближайшей к преследователям. С ружьем да еще среди бела дня можно было напугать волков.
– Билл! – крикнул ему вслед Генри. – Будь осторожен! Не рискуй!
Генри присел на сани и стал ждать – больше ему ничего не оставалось. Билл уже скрылся из виду, но меж кустов и елей то тут, то там можно было видеть Одноухого. Собака явно понимала опасность, но она бежала по внешнему кругу, в то время как стая волков по внутреннему, более короткому. И напрасно было думать, что Одноухий настолько опередит своих преследователей, что сможет прорваться сквозь них и добежать до саней.
Их пути скоро должны были сойтись. Генри знал, что волки, Одноухий и Билл встретятся где-то в снегах, скрытые от его глаз деревьями и кустами. Все произошло быстро, гораздо быстрее, чем он ожидал. Он услышал выстрел, затем еще два, быстро последовавших друг за другом, и понял, что все заряды у Билла вышли.
Послышались громкое рычание, лай и визги, и он узнал голос Одноухого, полный ужаса. Слышал он и волчий вой, говоривший, что зверь ранен. Потом все смолкло. Прекратилось рычание, замер вой. В безлюдной пустыне водворилась тишина.
Долго сидел Генри на санях. Незачем было идти и узнавать, что случилось. Он знал все, словно это произошло перед его глазами. Вдруг он поднялся и поспешно достал топор. Но снова сел и надолго застыл в оцепенении, а две оставшиеся собаки жались к его ногам и дрожали от страха. Наконец он устало поднялся, словно вся гибкость покинула его тело, и стал запрягать собак. Он перекинул одну постромку через плечо и потащил сани вместе с собаками. Но шли они недолго. Когда начало темнеть, Генри остановился и заготовил как можно больше топлива. Накормил собак, сварил себе еду, поужинал и устроил постель подле костра.
Однако ему не удалось насладиться сном. Он еще не закрыл глаза, а волки уже подошли очень близко. Они расположились вокруг, и Генри мог отчетливо видеть их при свете пылавших сучьев, лежащих, сидящих, подползающих на животе или бродящих взад и вперед. Многие даже спали. Он видел их, свернувшихся, как собаки, в клубок и наслаждающихся сном; сам он теперь не смел позволить себе задремать ни на минуту. Он поддерживал костер, потому что знал, что только это и было преградой между его телом и голодными клыками волков. Обе собаки жались к нему, надеясь на защиту, выли, рычали, а по временам отчаянно визжали и лаяли, когда какой-нибудь волк подбирался ближе других к огню.
В минуты, когда собаки визжали и лаяли, весь круг приходил в возбуждение, волки вскакивали, прыгали, порываясь вперед, и поднимался яростный хор рычания и воя. Затем все успокаивалось, и волки вновь погружались в прерванный сон.
Но круг сжимался все теснее. Иногда он становился так узок, что звери оказывались почти на расстоянии прыжка. Тогда Генри выхватывал из костра головню и бросал в стаю. Следовало поспешное отступление, сопровождаемое яростным визгом и испуганным рычанием, если горячая головня попадала в цель.
Утро застало Генри угрюмым и осунувшимся, с безумными от бессонницы глазами. Он приготовил себе в темноте завтрак и в девять часов, когда с рассветом разогнал стаю, принялся за работу, которую обдумал в течение долгих часов ночи. Срубив молодые деревья, он устроил платформу и прикрепил ее ремнями высоко к стволам елей. Употребив ремни от саней как подъемный канат, он с помощью собак втащил гроб на платформу.
– Они сожрали Билла и могут сожрать меня, но никогда не достанут тебя, молодой человек, – сказал он, обращаясь к мертвецу, погребенному высоко среди еловых крон.
После этого Генри пустился в путь, и собаки быстро потащили пустые сани, потому что тоже понимали, что спасутся они, только прибыв в форт Мак-Горри. Волки преследовали их теперь совершенно открыто; они бежали с невозмутимым видом рысью сзади и по обеим сторонам саней, с высунутыми красными языками, с резко выступающими при каждом движении ребрами. Они были настолько истощены, что кожа висела мешками, лишь мускулы проступали, как веревки. Генри удивлялся, что они до сих пор еще не попадали в изнеможении на снег.
Он теперь не осмелился идти до самой темноты. В полдень солнце не только окрасило горизонт, но даже выглянуло оттуда бледным золотым ободком. Генри принял это как добрый признак. Дни удлинялись. Возвращалось солнце. Но едва померк приветливый свет, он остановил собак. Оставалось еще несколько часов серого дневного света и мрачных сумерек для того, чтобы нарубить как можно больше сучьев.
Вместе с ночью к нему пришел ужас. Остервенелые от голода волки становились все смелее, к тому же на Генри сказывалась и предыдущая ночь без сна. Он дремал, присев у огня с одеялами на плечах, с топором между колен и с плотно жавшимися к нему собаками по бокам. Раз он проснулся и увидел футах в двенадцати перед собою огромного серого волка, одного из самых больших в стае. И, даже встретившись взглядом с Генри, зверь продолжал осторожно потягиваться, точно ленивая собака, зевая ему прямо в лицо и посматривая на него как на свою собственность, потому что человек был добычей, которую он непременно съест в недалеком будущем.
Такую уверенность выказывала и вся стая. Генри насчитал два десятка волков, жадно посматривавших на него или спокойно спавших в снегу. Они напоминали ему детей, собравшихся за накрытым столом и ожидавших позволения приступить к еде. И он был тем блюдом, которое они скоро съедят.
Ему хотелось знать, как и когда начнется обед.
Подбрасывая дрова в огонь, Генри открыл, что его тело очень дорого ему, а раньше он этого никогда не замечал. Он наблюдал за работой своих мускулов и очень заинтересовался искусным механизмом пальцев. При свете костра он сгибал их то медленно, то быстро, то по одному, то все вместе, то растопыривая, то сближая. Он изучал строение ногтей и царапал ими кончики пальцев то сильно, то слабо, определяя чувствительность нервов. Это восхищало его, и он внезапно преисполнился нежной любовью к этому прекрасному телу, которое работало так чудесно, так легко, так ловко. Он бросил боязливый взгляд на кольцо из волков, выжидательно расположившихся вокруг него, и вдруг его поразила мысль, что это прекрасное тело не что иное, как мясо, пища, добыча прожорливых зверей, которые разорвут и раздерут его своими клыками; такая же пища для них, какою для него часто были лоси и зайцы.
Он очнулся от дремоты, которая переходила в кошмар, и увидел перед собой рыжую волчицу. Она сидела на снегу, в каких-нибудь шести шагах, и нетерпеливо смотрела на него. Обе собаки скулили и рычали у его ног, но волчица не обращала на них никакого внимания. Она смотрела на человека, и некоторое время он тоже смотрел на нее.
В ней не было ничего свирепого. Скорее, в ее взгляде была страшная тоска, которая, он знал, говорила о таком же страшном голоде. Он был пища и возбуждал в ней лишь вкусовые ощущения. Ее пасть была раскрыта, оттуда текла слюна, и волчица облизывалась, предвкушая насыщение.
Безумный страх овладел Генри. Он быстро протянул руку за головней, чтобы бросить ее в зверя. Но прежде чем он успел схватить ее, волчица отпрыгнула в темноту, и он понял, что она когда-то привыкла к тому, что в нее бросали чем попало. Отпрыгнув, она огрызнулась и до корней оскалила белые клыки, а ее пристальный взгляд горел такой кровожадной злобой, что он содрогнулся. Держа головню, он невольно посмотрел на свою руку и заметил всю ловкость своих пальцев: их приспособляемость к неровной поверхности, их способность охватывать грубое дерево, чувствительность, с какою мизинец машинально отстранялся от горящего места; в то же время ему ясно представилось, как белые зубы волчицы раздробят и раздерут эти нежные пальцы. И никогда не любил он так свое тело, как теперь, когда увидел всю непрочность своего существования.
Всю ночь Генри отбивался горящими головнями от голодной стаи. Когда его одолевала дремота, визг и рычание собак будили его. Настало утро, но на этот раз свет не рассеял волков. Тщетно ждал человек, чтобы они ушли. Волки тесным кольцом расселись вокруг огня с дерзостью, от которой он содрогнулся.
Генри попытался отправиться в путь, но едва он вышел из-под защиты костра, как самый смелый волк бросился на него. Генри отпрянул назад и этим спас себя: челюсти зверя щелкнули в шести дюймах от его бедра. Тут уже вся стая ринулась к нему, и он с трудом отогнал их, бросая горящие ветви.
Даже днем не смел он оставить костер, чтобы нарубить дров. Огромная засохшая ель возвышалась в двадцати шагах. Он потратил полдня на то, чтобы протянуть свой костер до этого дерева, ежеминутно кидая горящие ветки в своих врагов. Добравшись до ели, он осмотрелся, чтобы свалить дерево к тому месту, где было больше сухого хвороста.
Следующая ночь была повторением предыдущей, за исключением того, что он уже не мог бороться со сном. Собаки лаяли не переставая, а его притупившееся от усталости сознание уже не реагировало на их возбуждение. Раз он проснулся в испуге: волчица была меньше чем в ярде от него. Машинально он бросил головню и попал прямо в открытую пасть; она отскочила, завизжав от боли, и он испытал наслаждение от запаха горелого мяса и шерсти, видя, как она трясет головой и злобно рычит уже шагах в двадцати.
На другую ночь, чтобы не задремать, он привязал горящую сосновую ветвь к правой руке. Едва закрывались на минуту его глаза, как боль от ожога будила его. Несколько часов провел он таким образом. Всякий раз, просыпаясь, он отгонял волков головнями, подкладывал дров и снова прикреплял ветку к руке. Все шло хорошо, но в одно из пробуждений он привязал ее плохо, и ветка выпала из руки, когда он спал. Ему снилось, что он прибыл в форт Мак-Горри. Было тепло и уютно, и он играл с фактором в криббедж. Но ему казалось еще, что форт осаждают волки, которые воют у самых ворот, и что по временам он и фактор отрываются от игры, чтобы послушать вой и посмеяться над напрасными усилиями зверей ворваться в форт. И вдруг – какой странный сон! – раздался треск. Дверь распахнулась, и огромная стая волков ворвалась в казармы форта. Они вот-вот набросятся на него, их вой стал невыносимым… Сон становился чем-то знакомым, но ужасный волчий вой мешал ему понять, чем именно.
Он проснулся и наяву услышал вой и рычание. Волки окружили и бросились на него. Клыки впились ему в руку. Инстинктивно он прыгнул в костер и в этот миг почувствовал острую боль в ноге от полоснувших по ней зубов. Началась битва. Толстые рукавицы защищали его руки, он швырял горячие угли во все стороны, и скоро костер стал походить на вулкан.
Но это не могло продолжаться долго. Он обжег себе лицо до волдырей, опалил брови и ресницы, ноги нестерпимо пекло. С пылающими головнями в руках он прыгнул на край костра. Волки отступили. Повсюду, куда падали горячие уголья, шипел снег, и там и сям, наступая на них, отскакивали и визжали звери. Расшвыряв головни в ближайших врагов, он сбросил в снег дымящиеся рукавицы и стал топтаться в снегу, чтобы охладить ноги. Обе собаки исчезли, и он хорошо знал, что они послужили очередным блюдом на этом затянувшемся обеде, который начался несколько дней назад с Толстяка и закончится на нем самом на следующий день.
– Нет, вы еще не сожрали меня! – кричал он, бешено грозя кулаками голодным зверям; и от звуков его голоса волновалась вся стая, волчица же кралась к нему по снегу и жадно следила за ним голодными глазами.
Новая идея пришла ему в голову, и он принялся за ее исполнение. Он разложил костер большим кольцом вокруг себя и растянулся внутри на тающем снегу на одеяле. Когда таким образом он исчез за стеною пламени, вся стая волков с любопытством окружила костер, чтобы узнать, что с ним случилось.
До сих пор он мешал им подходить к огню, теперь же они расселись у костра тесным кольцом, как собаки, моргая, зевая и потягиваясь тощими телами в непривычном тепле. Вдруг волчица, подняв голову и уставившись на звезды, завыла. Один за другим стали подтягивать ей и волки, и наконец вся стая, задрав морды к небу, принялась оглашать воздух голодным воем.
Рассвело. Костер догорал. Дрова кончились, и надо было возобновить их запас. Генри сделал попытку выйти из своего огненного круга, но волки поднялись ему навстречу. Теперь головни заставляли их только отскакивать немного в сторону, они уже не отбегали, как он ни силился прогонять их. Когда же он, потеряв всякую надежду, перестал это делать, какой-то волк прыгнул на него, но промахнулся и попал всеми четырьмя лапами на горячие уголья. Волк завыл от страха и боли и пополз обратно с обожженными лапами.
Человек же, сгорбившись, сидел на одеяле. По бессильно опущенным плечам, по наклоненной покорно голове видно было, что у него не осталось сил бороться. Порою он поднимал голову и тупо смотрел на догорающий костер. Круг пламени и горящих углей был уже кое-где разомкнут. Свободные от огня проходы в нем все расширялись, а пламя уменьшалось.
– Что ж, можете теперь меня сожрать, – бормотал он, – теперь мне все равно, я засну… Я не могу больше…
Он проснулся и прямо перед собой увидел волчицу, не сводившую с него глаз.
Через несколько минут, хотя ему они показались в полудреме часами, он снова пришел в себя. Таинственная перемена произошла за это время, настолько таинственная, что он вдруг очнулся. Что-то случилось, но что? Он не мог понять. Волки исчезли. Оставались только их следы на истоптанном снегу, показывающие, как близко они к нему подобрались.
Сон снова начал одолевать его. Голова склонилась на колени… вдруг он вздрогнул и прислушался. Где-то вдалеке послышались голоса людей, скрип саней и взвизгивание собак. Четверо саней тянулись между деревьями от реки к его стоянке. Группа людей окружила человека, ползавшего в центре угасающего костра. Они трясли и теребили его, пытаясь привести в себя, но он смотрел на них, как пьяный, и вяло бормотал сонным голосом:
– Рыжая волчица… приходила к собакам во время кормежки… Сначала ела собачий корм… Потом собак… Потом Билла.
– Где же лорд Альфред? – кричал ему в уши один из прибывших, грубо тряся его.
Он медленно покачал головой:
– Нет, его она не сожрала… он на дереве, где была последняя стоянка.
– Мертвый? – вскричал первый.
– Да, и в гробу, – ответил Генри.
Он сердито высвободил плечо из тисков спрашивавшего.
– Слушайте! Убирайтесь!.. У меня голова налита свинцом… Спокойной ночи всем…
Его глаза закрылись, подбородок упал на грудь. И как только его положили на одеяла, в морозном воздухе раздался его храп.
Но слышались и другие звуки. Это был далекий и тоскливый вой голодной волчьей стаи, направлявшейся за другой добычей после того, как человек ускользнул от их зубов.
Часть II
Глава 1
Битва клыков
Волчица первая уловила звуки человеческих голосов и повизгивание собак, запряженных в сани, и она же первая отбежала от человека, загнанного в кольцо из угасающего пламени. Стая вовсе не была расположена отказываться от затравленной добычи, и несколько минут волки медлили, прислушиваясь к новым звукам, но вскоре и они бросились вслед за убегавшей волчицей.
Впереди стаи бежал крупный серый волк, один из ее вожаков. Он-то и направил стаю по следам волчицы, угрожающе рыча на молодых и даже кусая их, когда те, забывшись, пытались обогнать его. Он же ускорил бег, когда увидел волчицу, трусившую рысцой по снегу.
Она побежала с ним рядом, как будто это было ее привычное место, и больше не покидала стаю. Волк не огрызался на нее, не скалил зубов, если ей случалось опередить его. Напротив, он казался благосклонно расположенным к ней, настолько благосклонно, что это ей не нравилось и она рычала и обнажала клыки, если он пытался бежать слишком близко. Она даже при этом иногда кусала его за плечо. Но и тогда он не выказывал гнева. Он только отбегал в сторону и несколькими неловкими прыжками опережал ее, напоминая своим видом и поведением смущенного деревенского парня.
В этом и заключались все его неприятности во время бега; ее же одолевали другие заботы. С другого бока бежал тощий, старый, седой волк, отмеченный шрамами многих битв. Он все время бежал с правой стороны. Это объяснялось тем, что он был крив на правый глаз. У него тоже было стремление прижиматься к ней, и его морда, покрытая рубцами, дотрагивалась до ее бока, плеча или шеи. Как и от бегущего слева вожака, она встречала эти знаки внимания лязганьем зубов; когда же они оба выражали внимание одновременно, грубо тесня ее, она отгоняла обоих ухаживателей быстрыми укусами. Тогда оба самца, скаля клыки, угрожающе рычали друг на друга. Их соперничество должно было бы привести к битве, но из-за крайнего голода всей стаи поединок откладывался до более удобного случая.
После каждого такого отпора, когда старый волк быстро увертывался от острых зубов предмета своих вожделений, он сталкивался плечом с молодым трехлетком, который бежал со стороны его слепого глаза. Этот молодой волк вполне возмужал и, принимая во внимание голодное положение стаи, выделялся силой и пылом. Тем не менее он бежал, приотстав от одноглазого. Если же он пытался поравняться с ним (что бывало редко), ему доставались укусы и рычание. Временами, однако, он осторожно втирался между старым вожаком и волчицей. И за это ему доставалось вдвойне и даже втройне. Когда волчица рычанием выражала свое неудовольствие, старый волк налетал на трехлетка; иногда она присоединялась к нему, а иногда и молодой вожак, бежавший слева от нее.
В таких случаях, при виде трех оскаленных пастей, молодой волк круто останавливался и садился на задние ноги, сильно упираясь передними, угрожающе скалясь и ощетиниваясь. От этого нарушался бег всей стаи. Задние волки наталкивались на остановившегося молодого и выражали неудовольствие, злобно кусая его за ляжки и за бока. Его положение становилось опасным, так как голод озлобил стаю. Но с безграничной самоуверенностью молодости он повторял свои попытки, хотя они явно не имели никакого успеха и доставляли ему одни неприятности.
Попадись сейчас добыча, тотчас же начались бы любовь и соперничество и стая рассеялась бы. Но положение волков оставалось по-прежнему отчаянным. Они были изнурены продолжительным голодом и бежали далеко не так быстро, как обычно. В хвосте еле плелись самые слабые – очень молодые и очень старые; сильнейшие были впереди. Все они походили скорее на скелеты, чем на настоящих волков. Тем не менее, за исключением хромавших, в движениях зверей не было заметно ни усилий, ни усталости. Их мускулы, казалось, обладали неистощимой энергией. Всякое сокращение стального мускула сменялось новым сокращением, повторялось еще и еще и казалось бесконечным.
Много миль пробежали волки в этот день. Они бежали и ночью. И следующий день застал их все также бегущими по замерзшей пустыне. Здесь не было и признака жизни. Они лишь двигались и были живыми существами в этом царстве смерти. Они лишь неутомимо рыскали в поисках других живых существ, чтобы пожрать их и тем продолжить свою жизнь.
Много долин, холмов и низин пришлось им пересечь, прежде чем их поиски увенчались успехом. Первой их добычей стал крупный лось-самец. Это была жизнь, не охраняемая ни таинственными огнями, ни летающим пламенем. Волкам были знакомы и раздвоенные копыта, и ветвистые, широкие рога, но они отбросили теперь свое обычное терпение и осторожность. Борьба была короткая, но жестокая. На лося напали со всех сторон. Он бил их рогами и разбивал им черепа сильными ударами копыт. Распарывал бока и давил, катаясь в снегу. Но участь его была предрешена, и он, наконец, упал. Волчица жадно впилась в его горло, а зубы других волков стали рвать его, когда он был еще жив и продолжал бороться.
Пищи оказалось вдоволь. Лось весил более восьмисот фунтов, и на каждую пасть досталось по двадцати фунтов мяса; в стае было около сорока волков.
Волки умели голодать, но не менее поразительно могли и есть, и вскоре от великолепного, полного сил животного остались лишь разбросанные там и сям обглоданные кости.
Теперь можно было отдохнуть и выспаться. Набив желудки, молодые самцы завели ссоры и драки между собою; эти ссоры продолжались все те немногие дни, пока стая не рассеялась. Голод на время кончился. Волки попали в страну, богатую дичью, и хотя они все еще охотились стаей, теперь они делали это с осторожностью, отбивая от небольших лосиных стад лишь беременных самок и больных самцов.
И вот в этой стране изобилия настал день, когда волчья стая разбилась на две, разошедшиеся в разные стороны. Волчица, молодой вожак, бежавший с ее левой стороны, и кривой старик, бежавший справа, повели свою часть стаи через реку Маккензи на восток, в страну озер. С каждым днем эта стая убывала в числе. Волки разбегались парами, самец с самкой. Иногда самца-одиночку выгоняли из стаи острые зубы противников. Наконец, осталось только четверо: волчица, молодой вожак, одноглазый старик и дерзкий трехлеток.
За это время волчица стала очень свирепой. Все три ее ухаживателя носили следы ее зубов, но сами никогда не отвечали ей тем же, никогда не защищались. Они лишь подставляли плечи для наиболее жестоких укусов и, виляя хвостом и семеня, пытались смирить ее гнев. Но если по отношению к ней они были воплощенной кротостью, то друг к другу проявляли крайнюю свирепость. Трехлетний волк стал чрезвычайно отважным в своей ярости. Он бросился на кривого с той стороны, где у того не было глаза, и в клочки разорвал ему ухо. Хотя седой старик видел лишь одним глазом, но против молодости и силы он имел многолетнюю мудрость и опытность. Вытекший глаз и рубцы на морде свидетельствовали о том, как приобрел он эту опытность. Он пережил слишком много поединков, чтобы позволить себе хоть на мгновение задуматься о том, что ему нужно делать.
Драка честно началась, но нечестно кончилась. Нельзя сказать, какой она имела бы исход, если бы третий волк не присоединился к старику и если бы они вдвоем не напали на дерзкого трехлетка, которого им и удалось прикончить. Клыки его прежних товарищей рвали его с обеих сторон. Были забыты дни, когда они вместе охотились, гонялись за добычей и вместе страдали от голода. Все это было делом прошлого, теперь же о своих правах заявила любовь, всегда более жестокая и непреклонная, чем голод.
Между тем волчица, виновница драки, терпеливо сидела и наблюдала. Это был ее день. Нечасто случалось, когда шерсть у самцов поднималась щетиной, клыки ударялись о клыки, резали и рвали податливую кожу, и все из-за того, чтобы обладать ею. И трехлеток, который впервые испытал такое влечение, отдал жизнь за любовь.
Над его телом стояли соперники. Они не сводили жадных глаз с волчицы, улыбавшейся им, стоя на снегу. Но старый предводитель стаи был опытен, очень опытен как в делах любви, так и в делах битвы. Зализывая рану на плече, молодой вожак повернул голову загривком к сопернику. Своим единственным глазом старик увидел этот благоприятный случай. Стрелой он предательски кинулся на противника и полоснул клыками по горлу. Осталась длинная, глубокая рана, кровь хлынула из разорванной вены. Старик отскочил.
Молодой вожак страшно зарычал, но рычание постепенно перешло в судорожный кашель. Истекая кровью и кашляя, уже пораженный насмерть, он прыгнул на старика, но жизнь уже угасала в нем: ноги его подкосились, глаза затуманились, и последний прыжок был короток.
А волчица сидела и улыбалась. Она, по-видимому, была довольна зрелищем этой битвы, потому что это был тоже вид ухаживания в Северной пустыне, а трагедия была только для того, кто умер. Для того же, кто остался живым, это было торжеством, осуществлением желания.
Когда молодой вожак вытянулся на снегу, Одноглазый гордо направился к волчице. Его обхождение с нею было смесью торжества и осторожности. Он простодушно ждал сопротивления с ее стороны и так же откровенно удивился, когда она не оскалила на него зубы. Впервые волчица встретила его ласково. Она обнюхалась с ним и даже начала прыгать вокруг него, играя с ним, совсем как щенок.
А он, забыв свой почтенный возраст и мудрую опытность, вел себя так же игриво и даже еще более глупо. Побежденные соперники и кровью написанная на снегу повесть любви были забыты; раз только Одноглазый вспомнил о них, когда остановился на минуту, чтобы зализать свои раны. Тогда из его пасти вырвалось грозное рычание, шерсть на шее и на плечах поднялась дыбом, и лапы стали судорожно взрывать снежную поверхность, но в следующий момент все было забыто, и он уже бежал за волчицей, которая игриво манила его в лес.
А затем они бежали друг подле друга, как добрые друзья, пришедшие наконец к взаимному соглашению. Дни проходили, и они не расставались, вместе охотясь и деля добычу. Но некоторое время спустя волчица сделалась беспокойной. Она, казалось, искала что-то и не могла найти. Ее привлекали впадины под деревьями, и она проводила много времени, обнюхивая расселины в утесах, наполненные до краев снегом, и береговые пещеры.
Одноглазый не интересовался этими ее странностями, но послушно следовал за ней и, если ее поиски затягивались, ложился и терпеливо ждал ее возвращения.
Не оставаясь подолгу на одном месте, они блуждали, пока не вернулись к реке Маккензи; тогда они медленно направились вниз, следуя течению реки, забегая иногда для охоты на берега ее небольших притоков, но всегда неизменно возвращаясь к ней. Иногда они встречали других волков, обыкновенно парных; ни с той, ни с другой стороны не выказывалось ни дружелюбных отношений, ни радости встречи, ни желания снова собраться в стаю. Попадались им одинокие волки. Обычно это были самцы, настойчиво желавшие присоединиться к Одноглазому и его подруге. Одноглазый раздражался, и, стоя плечо к плечу с ним, волчица тоже щетинилась и скалила зубы; тогда навязчивый волк отступал, поджимал хвост и продолжал свой одинокий путь.
Раз лунной ночью, когда они пробегали по тихому лесу, одноглазый волк внезапно остановился. Его морда задралась, хвост замер в напряжении, ноздри расширились, нюхая воздух. Одну лапу он даже поднял на манер собаки. Он тревожно втягивал воздух, силясь определить опасность, которую сулил непонятный запах.
Потянув носом, волчица уверенно побежала дальше, подбадривая старика. И хотя он последовал за нею, но все еще нерешительно. Волчица осторожно вышла на край широкого открытого пространства между деревьями. Несколько времени она оставалась там одна. Потом Одноглазый, ползя на брюхе, весь насторожившись, присоединился к ней. Они стояли рядом, наблюдая, прислушиваясь и принюхиваясь.
До их слуха донеслись звуки собачьей драки, гортанные крики мужчин, пронзительные голоса ругающихся женщин и плач детей.
Среди очертаний больших вигвамов, сделанных из кож, трудно было рассмотреть что-нибудь, кроме пламени костров, поминутно заслоняемого двигавшимися фигурами, да еще и дыма, медленно поднимавшегося в спокойном воздухе. Однако ноздри волков ловили тысячи запахов индейского лагеря, которые ничего не говорили Одноглазому, но были хорошо знакомы волчице. Ею овладело странное возбуждение, и она втягивала и втягивала ноздрями воздух все с большим наслаждением. Одноглазый сомневался, обнаруживал признаки страха и сделал попытку уйти. Волчица обернулась, ткнулась мордой в его шею с целью ободрить его и снова стала смотреть на лагерь. Опять жадность засветилась в ее глазах, но это была не жадность голодного зверя. Она вся дрожала от желания пробраться в лагерь, поближе к огню, вмешаться в драку с собаками, побродить между людьми, увертываясь от их неосторожных ног.
Одноглазый нетерпеливо топтался около нее; но ее уже охватило прежнее беспокойство и настойчивое желание найти то, что она так упорно искала. Она повернулась и не спеша побежала в лес, к большому облегчению Одноглазого, который бежал впереди нее, пока они снова не очутились под защитой деревьев.
Скользя бесшумно, как тени в лунном свете, они напали на тропинку, протоптанную в снегу. Оба носа немедленно уткнулись в снег. Следы были свежие. Одноглазый осторожно побежал по ним вперед, его подруга не отставала, и вскоре оба неслись своей широкой, мягкой, как снег, побежкой. Одноглазый рассмотрел что-то, смутно белеющее среди белого пространства. Его скользящая побежка была всегда невероятно быстра, но ничто не сравнилось бы с той быстротой, с какою он летел теперь. Он различал какой-то белый комок, прыгающий впереди и притягивающий его с необъяснимой силой.