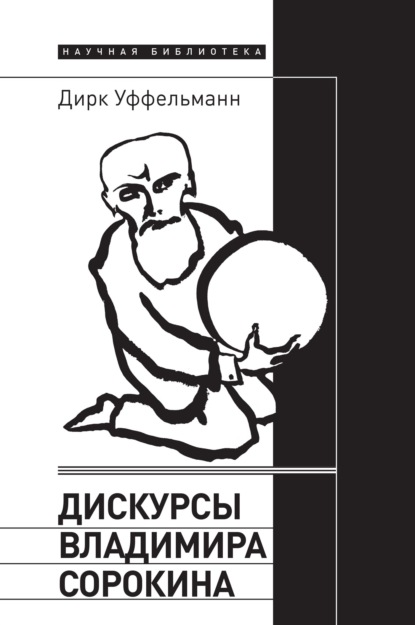
Полная версия:
Дирк Уффельманн Дискурсы Владимира Сорокина
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Дирк Уффельманн
Дискурсы Владимира Сорокина
Благодарности
Замысел этой книги возник благодаря Томасу Зейфриду, который предложил мне написать о Владимире Сорокине для серии Companions to Russian Literature («Путеводители по русской литературе») и советы которого стали большим подспорьем в работе над рукописью. Игорь Немировский из американского издательства Academic Studies Press поддержал идею русского перевода только что вышедшей книги Vladimir Sorokin’s Discourses[1]. Стен Азтлан Мортенсен, полностью прочитавший черновой вариант английского оригинала, в значительной мере помог мне отточить свои идеи. Анонимный рецензент высказала ряд ценных замечаний, на которые я опирался при доработке рукописи. Моника Хильберт и Валентина Федорова внимательно сличили все цитаты, ссылки и библиографические данные и составили указатель упоминаемых в книге имен. Благодарю также переводчицу этой книги Татьяну Пирусскую за ее кропотливый труд и хорошие идеи и редактора издательства «Новое литературное обозрение» Татьяну Тимакову и корректора Ольгу Панайотти за усовершенствование русской версии.
Особую благодарность следует выразить Владимиру Сорокину, предложившему поместить на обложку его рисунок «Достоевский с шаром», поэтому настоящее издание можно назвать не только книгой о Сорокине-писателе, но и в какой‐то мере книгой Сорокина-художника.
Я посвящаю «Дискурсы Владимира Сорокина» своему глубоко уважаемому научному наставнику Игорю Павловичу Смирнову, который впервые познакомил меня с произведениями Сорокина – тогда еще не изданными – в виде машинописных копий. Без его вдохновляющего участия и искренней поддержки моих первых шагов в науке я никогда не смог бы прийти к написанию этой книги.
При написании третьей и десятой глав я использовал части ранее написанной англоязычной статьи о «Норме» и «Дне опричника»[2]. Девятая глава содержит несколько переработанных фрагментов из моей статьи о периодизации творчества Сорокина[3], а в двенадцатой главе собраны идеи, сформулированные в работе о «Теллурии» и евразийстве[4]. В восьмой главе я опираюсь на свою статью о «Голубом сале» из сборника, изданного по итогам конференции, посвященной творчеству Сорокина[5], а в четвертой и одиннадцатой главах использую работы о «Тридцатой любви Марины»[6] и «Метели»[7].
Отказ от ответственностиПроизведения Владимира Сорокина известны сценами насилия, секса и поедания всяческих мерзостей. Хотя понимать такие эпизоды буквально было бы заблуждением, – скорее их следует интерпретировать как реализацию лежащих в основе русской обиходной речи метафор (см. главу третью), обнажающую принуждение, на котором строится политическая и культурная жизнь (см. главу пятую), – литературоведу, взявшемуся за написание книги о Сорокине, ничего не остается, кроме как приводить в работе образы политического и культурного насилия, непристойные сцены и заимствованные из сниженной русской речи метафоры, которые писатель материализует в своих сюжетах. Поэтому неподготовленный читатель книги 18+ неизбежно будет на первых порах шокирован стилистическим регистром исследуемых текстов, однако исследователь снимает с себя всякую ответственность за подобные побочные эффекты работы над стоявшими перед ним аналитическими задачами.
Глава 1. Позднесоветская культура и московский творческий андеграунд
Пятого марта 1953 года, когда умер Сталин, десятки тысяч советских граждан оплакивали диктатора в припадке массовой истерии и выстроились в очередь к его гробу[8]. Однако вскоре эта парадоксальная реакция уступила чувству облегчения, вызванному ослаблением террора и репрессий[9]. При преемниках Сталина тоталитарная мобилизация, присущая сталинскому режиму и принуждавшая каждого гражданина с готовностью следовать вездесущим идеологическим предписаниям[10], сменилась авторитарным правлением, которое было нацелено прежде всего на самосохранение режима и в значительной мере открыло возможность для «приватизации советского общества»[11]. Хотя в 1960‐е и 1970‐е годы идеология марксизма-ленинизма сомнению не подвергалась, от граждан требовали всего лишь рутинного участия в политических ритуалах, унаследованных от мобилизованного общества эпохи сталинизма (таких как первомайские демонстрации), и воспроизведения стандартизованных речевых актов (например, самокритики на собрании производственной бригады) на публике[12].
В пришедшие на смену сталинской диктатуре периоды оттепели (1953–1964) и застоя (1964–1982) те, кто – в отличие от малочисленной группы диссидентов – не протестовал против советского режима публично, а относился к политике с «вежливым безразличием», могли надеяться, что государство оставит их в покое[13] и не будет вмешиваться в их частную жизнь, которую они пытались построить[14]. Если открытое выражение инакомыслия по-прежнему влекло за собой наказание, к непубличному «разномыслию» стали относиться терпимо[15]. Эта негласная уступка привела к формированию полуприватных пространств и практик: кухонных разговоров, квартирных выставок[16], выездов на природу в компании, неформальных кафе, – которыми и ограничивалась относительная свобода самовыражения[17]. Разговорное слово «тусовка» отражало попытки неофициальной культуры так или иначе отгородиться от остального общества[18] и дух «полуприватной» сферы, отчасти свободной от диктата официальной идеологии. Одним из таких замкнутых полуприватных пространств была студия художника Ильи Кабакова, известного своими инсталляциями[19]. Среди собиравшихся там художников, поэтов и прозаиков одним из самых молодых был Владимир Георгиевич Сорокин.
Владимир Сорокин родился 7 августа 1955 года в подмосковном поселке Быково в семье интеллигентов. Его отец, Георгий Сорокин, был профессором металлургии. Родители поощряли интерес сына к музыке, литературе и изобразительному искусству; он посещал курсы живописи при Пушкинском музее[20]. Разнообразные творческие наклонности, в том числе театральные – он пародировал, например, генсека Брежнева, – помогли Сорокину справиться с заиканием[21]. В особенности литература служила ему щитом, за которым он мог спрятаться. Примечательно, что первый опыт в прозе тринадцатилетний Сорокин замаскировал под перевод с английского, не признаваясь в своем авторстве[22].
О ранних годах будущего писателя приблизительно до 1985 года[23] известно мало, потому что Сорокин советского периода резко разграничивал свою отчасти публичную литературную деятельность и частную жизнь. В его произведениях почти нет ничего автобиографического – по крайней мере, как позже отмечали критики, за ними стоит некий «безличный» повествователь[24]. Когда биографы заинтересовались истоками его художественных замыслов, Сорокин отнесся к их психобиографическим интерпретациям с явной иронией[25]: так, для подготовленного австрийскими и немецкими исследователями сборника «Психопоэтика» (Psychopoetik)[26] Сорокин написал статью, в которой комически свел движущие его творчеством сложные факторы к небольшому происшествию из детства – в квартире родителей он упал с батареи, зацепившись затылком за торчащий штырь[27]. Биографы, принимающие за достоверные рассказы о собственной жизни[28] этот и другие эпизоды отстраненного психоаналитического мифа, который Сорокин создает о самом себе[29], например слова о том, что заикаться он начал из‐за угрозы кастрации[30], недооценивают интерес, который Сорокин питает к шаблонным повествовательным ходам, предпочитая их какой бы то ни было «уникальной биографии»[31].
Большее доверие вызывают рассказы Сорокина о ранних столкновениях с жестокостью в советском обществе: в 1995 году, давая интервью Серафиме Ролл, он вспомнил, как ребенком в Крыму оказался свидетелем насилия[32], – эпизод, который его биограф Константин Кустанович[33], опять же, сразу же связал с вымышленным изнасилованием десятилетней девочки собственным отцом в романе Сорокина «Тридцатая любовь Марины».
Сорокин посещал разные школы в Подмосковье, а в 1977 году окончил Московский институт нефтяной и газовой промышленности имени Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина), получив диплом инженера-механика. В студенческие годы в институтском журнале «За кадры нефтяников» вышла первая непретенциозная публикация Сорокина. Кроме того, Сорокин стал любительски иллюстрировать книги. Оба эти факта свидетельствуют о том, что поступление в нефтяной институт было продиктовано скорее желанием избежать службы в армии, чем интересом к профессии инженера[34]. Если допустить, что Сорокин исходил именно из таких соображений, вряд ли мы сильно удивимся, узнав, что после окончания института он решил заняться литературой в широком смысле слова. Начинал он как редактор журнала «Смена», откуда его уволили за то, что он не вступил в комсомол. В силу умеренно антисоветских взглядов в 1970‐е и 1980‐е годы Сорокин зарабатывал на жизнь, занимаясь книжной иллюстрацией и графикой. Некоторое время Сорокин сам продолжал рисовать (в конце 1980‐х в Москве прошли небольшие выставки его работ), но позже оставил живопись и в двадцать три или двадцать четыре года[35] начал свой путь в литературе[36]. К живописи Сорокин вернулся лишь в ноябре 2014 года, представив свои картины на Венецианской биеннале в 2015 году, а также организовав выставки в Берлине и Таллине.
Сорокин вошел в круг московских концептуалистов в середине 1970‐х годов[37] – очень образованный, привлекательный, но сдержанный молодой человек. Его сопровождала жена, красавица Ирина, преподавательница музыки, на которой он женился в 1977 году, в год окончания института. Картину идиллической семейной жизни довершило рождение девочек-близнецов Анны и Марии в 1980 году. Соратники-концептуалисты, в частности Иосиф Бакштейн и Павел Пепперштейн, позже вспоминали, как они были удивлены, когда этот сдержанный молодой человек заявил о себе в кружке неслыханным надругательством над все еще официально существующими советскими эстетическими нормами[38].
После Первого съезда Союза советских писателей, состоявшегося в 1934 году, вся официальная литература должна была следовать принципам социалистического реализма – новой доктрины, которая направляла прежние разнообразные эстетические течения, от авангарда до постсимволизма, и литературные объединения в общее русло обязательной парадигмы, соответствие которой бдительно контролировали советские государственные институты, отвечающие за цензуру, редактуру, публикацию, популяризацию и преподавание литературы. Соцреализм с его нормативными постулатами – партийностью, отражением действительности, типичностью, революционным романтизмом, положительными героями и народностью[39], которые в совокупности были направлены на создание воображаемой картины социалистического строя и морального кодекса, какими они должны быть[40], – превратился в ритуальную практику, скрывающую истинные недостатки советского общества. Соцреалистические романы выполняли иллюзорную педагогическую задачу, воспитывая из непокорных молодых людей самоотверженных членов коллектива под руководством старшего наставника[41]. Изображая положительного молодого героя (или героев) на фоне отрицательных представителей старого порядка, такие романы противопоставляли советское поведение антисоветскому. Однако жесткие моральные установки соцреализма лишь продолжали прежнюю традицию, закрепившую за русскими писателями репутацию нравственных авторитетов.
Принудительная унификация советской литературы достигла апогея в последние годы жизни Сталина, в губительную для культуры эпоху ждановщины (1948–1953)[42]. Последующая либерализация, кульминацией которой стала речь, произнесенная Никитой Хрущевым в 1956 году и сводившая весь сталинский террор к культу личности самого Сталина, вызвала и критику лакировки действительности, присущей социалистическому реализму[43]. Хрущев пошел еще дальше, лично поддержав публикацию в 1962 году в журнале «Новый мир» повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» о советских исправительно-трудовых лагерях, которые до тех пор оставались запретной темой.
Но поскольку сам Хрущев сформировался внутри сталинского бюрократического аппарата с его традиционалистской (реалистической и морализаторской) эстетикой, выставка при участии художников-авангардистов, состоявшаяся в московском Манеже 1 декабря того же 1962 года, привела его в бешенство. Авангард в публичном пространстве так и остался под запретом. После смещения Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС в 1964 году соцреализм снова утвердился как эстетическая норма, политическая задача которой состояла в том, чтобы перекинуть мост над пропастью, разделявшей революционные идеалы коммунизма и реальность социалистического государства. Новый генсек Брежнев, как и Хрущев, не понимал авангардного искусства. Разгром так называемой Бульдозерной выставки в 1974 году напугал неофициальных художников[44] и побудил двух ее организаторов, Александра Глезера и Оскара Рабина, уехать в эмиграцию. В 1978 году группа авторов, издавших неподцензурный альманах авангардной литературы «Метрополь», подверглась разного рода преследованиям.
Враждебность эстетического климата позднесоветской эпохи способствовала вытеснению художников-нонконформистов на периферию – иногда насовсем, как в случае с созданной по инициативе Рабина группой «лианозовцев», живших в деревянных бараках далеко от центра Москвы, а иногда на некоторое время, как это было, например, с акционистской группой «Коллективные действия», которая с 1976 года устраивала «поездки за город», где и проводила свои перформансы.
Вынужденная маргинализация неофициального искусства наложила отпечаток и на групповое сознание московских концептуалистов[45]. У них, как у неофициальных художников, не было другого выбора, кроме как затаиться и уйти в подполье. Но все же полуприватные пространства, в которых уединились московские концептуалисты, были не настолько периферийными, как то, которое выбрали для себя лианозовцы. В отличие от своих предшественников, концептуалисты регулярно собирались в квартирах участников группы недалеко от центра Москвы, где, как правило, было очень тесно, поэтому сидеть приходилось почти вплотную друг к другу. Это создавало уютную атмосферу, которую Кабаков с любовью вспоминает, например, в своей «Кухонной серии» (1982). После переезда в дом на Фестивальной улице в 1975 году регулярные встречи перетекли в совместную жизнь и работу. Художники жили коммуной, что побудило Виктора Тупицына говорить о «контрактуальной коммунальности»[46].
Коммунальная реальность андеграунда позволила его представителям сосредоточить свою интеллектуальную и эмоциональную энергию в узком пространстве. Подобно возникшим в 1960‐е и 1970‐е годы литературным кафе, таким как «Дерзание» или «Сайгон»[47], кружок концептуалистов функционировал как один из способов «внутренней эмиграции», характерной для повседневной жизни в позднесоветский период[48]. Этот кружок составляли не диссиденты, стремившиеся донести антисоветские политические убеждения до широкой публики, а аполитичные художники, которых интересовало «приватное искусство»[49]. Андеграунд относился к тем слоям общества, которые создавали особую «детерриториализованную» реальность, несводимую «к бинарной логике поддержки системы или оппозиции ей»[50]. Это третье пространство, обитатели которого не позиционировали себя ни как приверженцы советской, ни как сторонники антисоветской идеологии, позволяло им, как отметил Алексей Юрчак в монографии о последнем советском поколении, существовать одновременно «внутри и за пределами системы»[51].
В число постоянных участников концептуальной группы, которая собиралась в кооперативе на Фестивальной или на частных квартирах, входили художники Эрик Булатов (род. 1933), Виктор Пивоваров (род. 1937) и Илья Кабаков (род. 1933), художники-акционисты и писатели Дмитрий Пригов (1940–2007) и Андрей Монастырский (род. 1949), теоретики, в том числе Борис Гройс (род. 1947), и писатели, такие как Лев Рубинштейн (род. 1947), Владимир Сорокин (род. 1955) и Павел Пепперштейн (род. 1966), сын Пивоварова. Московским концептуалистам несвойственно было проводить границы внутри группы по принципу принадлежности к разным поколениям[52], но члены кружка, составлявшие его ядро, отделяли себя от других его участников, которые сами не были связаны с концептуальным искусством, как, например, философ Михаил Рыклин (род. 1948)[53], – всего их было около сорока человек[54]. Тем не менее все они воспринимались как члены «своего круга». Это была группа единомышленников с собственными внутренними механизмами самоканонизации и узнаваемой (псевдо)терминологией[55], словарь которой составил Андрей Монастырский[56] и в которой чувствуется явный элемент стеба: так, Монастырский указывает, что Сорокин был одним из авторов концепции «Гнилые Буратино»[57].
Когда московские концептуалисты не общались исключительно между собой, устраивая устные – если говорить о литературе – выступления в узком кругу, на кухнях и в студиях[58], и ограничиваясь написанием текстов «в стол», они прибегали к неофициальным средствам публикации – самиздату. Тексты печатали в основном на пишущей машинке, на которой можно было с помощью копировальной бумаги или ротатора отпечатать сразу несколько экземпляров[59]. Предполагалось, что текст, набранный таким образом, никогда не попадется на глаза цензору, и это открывало путь для альтернативной, неподцензурной советской литературы.
Именно в виде машинописных самиздатовских копий другие концептуалисты познакомились с рассказами Сорокина. Реже случалось, что его тексты просачивались в самиздатовские журналы, как, например, рассказы «Кисет», «Дорожное происшествие» и «Землянка», опубликованные в «Митином журнале»[60]. Годом ранее шесть рассказов вышло и в тамиздате – в парижском «неофициальном журнале русского искусства» «А – Я»[61]. Крупнейшим достижением на пути литературного признания стала публикация «Очереди», первой книги Сорокина, эмигрантским издательством «Синтаксис» в Париже в 1985 году[62]. За тамиздатовские публикации Сорокина вызвали на допрос в КГБ, но поскольку профессиональная деятельность этой организации клонилась к закату, опыт личного столкновения с органами госбезопасности оказался не слишком болезненным[63]. Так как КГБ в любой момент мог конфисковать рукописи и самиздат, андеграундные писатели искали «холодильник» – человека, который мог бы хранить у себя их рукописи, оставаясь или вне подозрений, или вне досягаемости КГБ. В случае Сорокина эту функцию выполняла мюнхенская квартира ученого-эмигранта И. П. Смирнова. Я сам хорошо помню, как в 1993 году, когда я учился в Констанцском университете, мне в руки впервые попали тексты Сорокина – фотокопии машинописных страниц с его ранними произведениями, хранившимися в «холодильнике Смирнова».
Это обстоятельство говорит о том, что московские концептуалисты поддерживали связи с учеными-эмигрантами, такими как Игорь Смирнов и Михаил Эпштейн (Атланта, Джорджия), западными славистами (Сабиной Хэнсген, Георгом Витте) и несколькими западными дипломатами, которые проявляли к ним интерес. На ту же аудиторию ориентировалось и ЁПС: Ерофеев – Пригов – Сорокин, трио, основание которому было положено на квартире у Виктора Ерофеева (род. 1947) в 1982 году и которое продолжало свою деятельность, читая собственные тексты тщательно отобранным слушателям в других неформальных публичных пространствах. Тройка позиционировала себя как «первый круг подполья»[64], поэтому строилась на своего рода инициации для интересующихся посторонних. Позже они расширили аудиторию своих чтений, куда в итоге умудрялись проникнуть и американские дипломаты, и сотрудники КГБ. Учитывая, с какой гордостью Ерофеев в предисловии к антологии «ёпс» (сама аббревиатура, составленная из начальных букв трех фамилий, звучит малоприлично), изданной в 2002 году, пишет, что группа привлекала студенток[65], постепенный выход группы к городской, интеллектуальной, альтернативной публике был явно сознательным.
Пусть внутри самого кружка московских концептуалистов и не было принято деление ни по возрасту, ни даже по принадлежности к тому или иному поколению, творческие практики круга и стоявшие за ними концепты со временем претерпели явные изменения. Члены группы считали себя продолжателями международного художественного движения, связанного с западным концептуальным искусством, как, например, Флюксус[66] или Джозеф Кошут, к словам которого отсылал Сорокин, сказав в 1992 году: «…в концептуализме актуальна не вещь, а отношение к этой вещи. Концептуализм – это дистанционное отношение и к произведению, и к культуре в целом»[67]. В тексте, который можно назвать манифестом «Московского романтического концептуализма» и который был опубликован в 1979 году в журнале «А – Я», теоретик группы Борис Гройс тоже опирался на американское концептуальное искусство[68], но попытался обозначить разницу, добавив эпитет «романтический», впоследствии отброшенный[69]. В контексте попытки русских художников отчасти влиться в международное движение, а отчасти отделить себя от него[70] Гройс определяет концептуализм как метарефлексию над условиями и способом создания и восприятия искусства:
…Можно понимать его [концептуализм] более широко. При широком понимании «концептуализм» будет означать любую попытку отойти от делания предметов искусства как материальных объектов, предназначенных для созерцания и эстетической оценки, и перейти к выявлению и формированию тех условий, которые диктуют восприятие произведений искусства зрителем, процедуру их порождения художником, их соотношение с элементами окружающей среды, их временной статус…[71]
Первый пример из русского концептуализма, который приводит Гройс, – картотека Льва Рубинштейна. Такой способ записывания текстов был навеян работой Рубинштейна в библиотеке: на протяжении многих лет он писал на перфокартах, размышляя о структуре бюрократических текстов и делая акцент скорее на внешних условиях их производства, нежели на содержании. Яркий пример – «Очередная программа» Рубинштейна (1975):
Номер первый,говорящий сам за себя;Номер второй,намечающий основные понятия;Номер третий,продолжающий намечатьосновные понятия;Номер четвертый,продолжающий намечатьосновные понятия;Номер пятыйгде продолжают намечатьсяосновные понятия;Номер шестой,уже оперирующий некоторымииз основных понятий;Номер седьмой,отмеченный внезапный[м]эффектом узнавания ‹…›[72]В этом тексте, лишенном каких-либо специфически русских примет, не говоря уже о советской идеологии, Рубинштейн размышляет, из чего складывается текст. Такие тексты становятся литературой именно за счет содержащейся в них рефлексии над самим устройством текста.
На Сорокина, которого изначально больше интересовало визуальное искусство, а не литература, по его собственному признанию, повлиял художник Эрик Булатов[73]. У Булатова мы видим семиотическую рефлексию над языком как средством смыслообразования. На его картине 1979 года «Севина синева»[74] созвучные слова «синева» и «Севина» записаны по вертикали, в виде двух конусов (верхний – белый, нижний – темно-синий), зеркально наложенных друг на друга на фоне синего неба с белыми облаками. Подобно трубке Рене Магритта, которая, как гласит подпись, вовсе не трубка (1929), картина Булатова намекает на взаимосвязь слов и образов, которые говорят о чем-то за их пределами, – у Булатова это синий цвет и облачное небо, частично закрытое не только облаками, но и расположенными на переднем плане буквами. Как и в случае с карточками Рубинштейна, на этой картине ничто, кроме кириллических букв, не указывает на русский и уж тем более советский контекст: перед нами лишь небо, которое на земле видно с любой точки, и отношения между означающим и означаемым в целом.
В других работах, где Булатов обращается к советским лозунгам, он исследует советский порядок, не противопоставляя ему диссидентских, антисоветских взглядов. В таких случаях мы имеем дело уже не столько с абстрактным, метасемиотическим концептуализмом, как в только что приведенном примере, сколько с другим подходом, направленным на осмысление не условий художественного творчества и восприятия в целом, а определенных форм культурного производства – таких, как социалистический реализм. Я предлагаю называть эту вторую тенденцию в московском концептуализме интертекстуальной и концептуализмом соц-арта.
История «интертекстуального» периода в московском концептуализме восходит к началу 1970‐х годов, точнее к своего рода «социальному повороту», который, по мнению Кабакова, произошел в творчестве Булатова в 1972 году[75], когда он оставил свои ранние («метафизические», «абстрактные») попытки уловить «белизну» и «пустоту»[76]. «Социальный поворот» наглядно иллюстрирует картина Эрика Булатова «Единогласно» (1987)[77], написанная на холсте в традиционном стиле соцреализма и изображающая членов Верховного Совета СССР, чья функция в условиях мифической советской демократии сводилась к тому, чтобы аплодировать – единогласно – решениям узкого круга власть имущих, Центрального Комитета КПСС. Хотя эта отсылка к политическим реалиям, казалось бы, намекает на полемику, в работе Булатова не заметно насмешки, при этом очевидно, что выразительным средством ему служит тщательная имитация стилистики реалистичных живописных полотен и советских лозунгов. И только явно избыточное сочетание обоих жанров противоречит внешнему одобрению официальной идеологии и точному воспроизведению ее изобразительных канонов.

