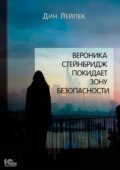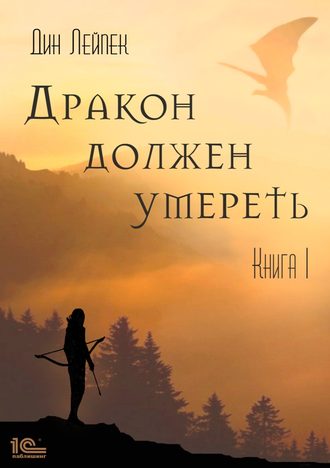
Дин Лейпек
Дракон должен умереть. Книга I
Чужие люди
Холодное жемчужное море переливалось в лучах зимнего солнца. Вода лениво выплескивалась на пустынный пляж, ненадолго покрывая твердый песок тонкой переливчатой пленкой. Потом волна отступала – песок темнел, забывая короткое мгновение света и неуверенную мягкость, подаренные морем.
Вдруг на поверхности воды появилась черная точка. Она как будто и не приближалась – но постепенно стало видно, что это голова человека, а затем и он сам поднялся над волнами и побрел к берегу, медленно разгребая тягучую воду, разлитую над отмелью.
Чайка, наблюдавшая за человеком, возмущенно вскрикнула и взлетела.
Выйдя на берег, человек не бросился на песок, как это обычно бывает с чудом спасшимися людьми. Он не лежал ничком без сил, откашливаясь и с трудом хватая ртом воздух. В этом не было необходимости.
Джоан не устала ни в первый день, ни во второй, и даже неделя пути ничем не навредила ей – так с чего было падать сейчас, когда под ногами была твердая земля, а вокруг – воздух, который можно было вдыхать, не рискуя вместо него набрать в легкие жгучей, холодной и соленой воды.
Джоан пересекла пляж, усеянный корягами. Поднявшись на верх дюны над границей полосы прибоя, остановилась и обернулась к морю. Было светло, хотя солнце уже клонилось к горизонту за размытыми, как будто замороженными перистыми облаками. Джоан опустилась на песок и стала смотреть на солнце, медленно катившееся к горизонту.
Она не знала, сколько времени просидела так. Солнце вставало за спиной и садилось под ее внимательным сосредоточенным взглядом. И все время, что Джоан смотрела на море, все время, что она слушала шум волн и тихий шелест песка, – все это время ветер, дувший от воды, вырезал в ее душе и сердце большие впадины и впадины поменьше, щели и лакуны, сглаживал углы и обнажал твердые породы, скрывавшиеся под мягким и податливым слоем нестойкого песчаника. Как скульптор, ветер умело работал резцом, проявляя новые черты, – и вместо лица девочки, потерявшей весь мир, постепенно проступало лицо человека, которому уже нечего было терять.
И тогда Джоан встала, спустилась с дюны и пошла вдоль моря на юг. Каждое утро солнце освещало ее с левой стороны – и каждый вечер последний луч подсвечивал красным ее правую щеку, но она смотрела только вперед – и шла, шла, шла.
Спустя несколько дней она добралась до первой деревни – небольшого рыбацкого поселения. На берегу играли дети, женщины ждали своих мужей с промысла. При виде Джоан они замолчали и как будто стали чуть ближе друг другу. Джоан сначала почувствовала враждебность, исходящую от них, и только потом действительно заметила, что на берегу много людей.
Людей.
Она замерла в растерянности.
Маленькая девочка, самая маленькая из тех детей, что уже бегали по пляжу вполне самостоятельно, кинулась к Джоан. Одна из женщин громко предостерегающе крикнула, но девочка лишь побежала быстрее.
Но когда она остановилась перед Джоан, на большие карие глаза навернулись слезы, и она пробормотала, невнятно и обиженно:
– Ты не он!
Джоан продолжала стоять как вкопанная. Она пыталась что-то ответить, но не могла вспомнить как. Как говорить.
Девочка шмыгнула носом, не спуская с Джоан глаз.
– Кто ты? – спросила девочка с легкой тенью любопытства.
– Я… Джоан, – смогла наконец выговорить Джоан, и звук ее собственного голоса неприятно резанул по ушам.
Глаза девочки слегка расширились.
– До’ хан! – Она вдруг улыбнулась, взяла Джоан за руку и потянула за собой: – Идем, До’ хан!
И именно этот жест радости и доверия, искренний и бесхитростный в своей простоте, пробил все заслоны, выросшие вокруг души Джоан, в своем молчании и отрешенности почти ставшей душой дракона. Ее лицо вдруг страшно исказилось, она упала на колени – и разрыдалась.
Девочку звали Кэйя.
* * *
Приплывшие мужчины отнеслись к случившемуся с подобающим их полу и ремеслу добросовестным равнодушием. Девушка, чудом спасшаяся с потонувшего корабля, выглядела так, как и положено выглядеть человеку в этом случае – изможденной, худой и молчаливой. Она не говорила, а если и выдавливала из себя полслова, то только и исключительно с Кэйей. Способ связи был не самый надежный, так как Кэйя и сама владела всего несколькими десятками слов, но общаться с кем-либо еще девушка категорически отказывалась. Она просто смотрела на спрашивающего такими глазами, что у того слова застревали в горле, и он тут же звал на помощь Кэйю.
Девочка была щедро вознаграждена за свою должность парламентера и переводчика. Каждый вечер девушка вручала ей очередную игрушку, вырезанную из разбросанного по берегу плавника. Игрушки были сделаны с любовью и искусством – никто в деревне никогда раньше не видел такой работы. Сначала на поделки странной девушки смотрели с удивлением – пока одной из женщин не пришло в голову, что из этого можно извлечь всеобщую пользу. Однажды утром она пришла к дому, где приютили девушку, и попросила ее вырезать нательный оберег – небольшую рыбку, чешуя которой должна была складываться в имя человека, который его носил. Такие обереги носили все рыбаки – невзирая на то, что люди тонули вне зависимости от того, был у них оберег или нет, – но никто в деревне не владел искусством резьбы, равно как и искусством письма, и за оберегами приходилось ездить в соседнее село на ярмарку. Женщина объяснила это все молчаливой девушке. Та долго только смотрела в ответ, так долго, что женщина уже почти совсем убедилась в том, что девушка действительно ненормальная. Она сердито вздохнула и хотела уже уходить, когда Джоан тихо, с видимым трудом спросила:
– Какое имя?
Женщина замерла на месте. Смерила девушку взглядом, но та не поднимала голову, а смотрела на песок перед крыльцом, на котором она сидела.
– Хенрик.
Того, что случилось потом, женщина никак ожидать не могла, хотя и знала наперед, что говорит с сумасшедшей. Девушка вскочила – нет, в один момент оказалась на ногах, а в следующий – уже была в нескольких шагах от женщины. Она стояла в странной, неестественной позе, подняв руки, как будто держась за голову, но между руками, сжатыми в кулаки, и висками было расстояние в пол-ладони. Женщина видела, как на призрачно тонких предплечьях вздулись вены.
Она стояла, оцепенев, не в силах пошевелиться и издать хотя бы звук, а сумасшедшая девушка стала тихо то ли шипеть, то ли даже рычать. Женщина похолодела от ужаса, не сводя с той глаз, как вдруг она резко бросила руки, выпрямилась и в то же мгновение обернулась.
Женщина шумно вздохнула. Никогда в жизни она не видела таких пронзительно желтых глаз.
Джоан стояла, выпрямившись, чувствуя, как боль – та самая бесконечная, вселенская, непрекращающаяся боль, которая гнала ее по небу быстрее солнца, – проходит через нее насквозь, сверху вниз, и уходит в песок у нее под ногами, и снова появляется где-то глубоко внутри, и снова разливается по всему телу, и снова, окатив волной, спускается вниз. Она ждала, когда это произойдет – когда она превратиться в дракона, и только жалела, что эта женщина стоит так близко от нее. На таком расстоянии у нее не было никаких шансов спастись.
– До ’хан! – раздался крик у нее за спиной. Она знала этот крик. В нем не было ничего страшного, только удивление, радость и восторг. Просто Кэйя опять хотела что-то ей показать.
Джоан закрыла глаза.
«Нет».
«Не сейчас».
«Ты не доберешься до меня сейчас».
Мне не нужно добираться до тебя, Johaneth. Я и так всегда с тобой.
«Тем более».
Неужели ты не хочешь перестать чувствовать это?
«Нет».
Почему?
«Потому что прямо передо мной стоит человек. Я не смогу ее не задеть».
Умница, прошелестело в голове.
Она открыла глаза.
– До’ хан! – Кэйя подбежала к ней, как обычно, врезаясь на скорости прямо ей в ноги. – Пойдем, пойдем со мной!
Джоан послушно протянула руку. На ходу обернулась к застывшей в ужасе женщине:
– Я вырежу оберег.
* * *
С того дня странная девушка стала разговаривать. Нельзя сказать, чтобы она делала это часто и охотно, но теперь на прямой вопрос можно было рассчитывать получить прямой ответ. Мужчины, которым женщины рассказали о случившемся, не повели бровью. Что удивительного в том, что девица теперь разговаривает? На то у нее и язык, чтобы им трепать.
Прошло два месяца с тех пор, как Джоан пришла в деревню.
Она целыми днями сидела на песке, смотрела на море и вырезала игрушки для Кэйи и других детей, обереги для взрослых, строгала ложки и прочую домашнюю утварь. Волосы, спутавшиеся так, что их невозможно было расчесать, пришлось остричь. С короткой стрижкой Джоан стала совсем похожей на мальчика.
Однако по мере того, как она постепенно обретала способность смотреть на людей вокруг и видеть их, по мере того как люди вокруг превращались в самостоятельных и неповторимых личностей, Джоан все сильнее чувствовала, что эти люди ей совершенно чужие. Они были доброжелательны к ней, да что там – неоправданно добры, но Джоан не могла больше находиться среди них. Нужно было идти дальше – неизвестно куда, но идти, идти к чему-то, кому-то, просто идти, только бы не чувствовать, что ждать нечего.
Что ничего не осталось.
Она решила поговорить с хозяйкой дома Ингрид, днем, когда мужчины были в море, а дети играли на улице. Та замешивала тесто для праздничного воскресного блюда – пышного пирога, в котором, в отличие от остальных дней, никогда не было ни грамма рыбы или иных даров моря. Джоан долго смотрела, как Ингрид вливает перемешанные яйца и молоко в муку, а потом мнет и мнет тесто руками, пока то не превращается в теплую однородную массу.
– Ингрид?
– Да, Джоан? – ответила та, не поднимая головы и не отрываясь от процесса.
– Мне кажется… – Джоан запнулась. Она не знала, как сказать о своем уходе, не рискуя показаться неблагодарной.
– Все, что кажется, – призрак наших собственных мыслей, – сухо ответила Ингрид поговоркой.
Джоан слегка усмехнулась:
– В таком случае мои мысли настойчиво крутятся вокруг того, что я уже слишком долго здесь нахожусь.
– Долго – относительное понятие.
– Но здесь – абсолютное.
Ингрид бросила на нее короткий взгляд.
– Ты опять говоришь непонятно, девушка.
Джоан собралась с духом:
– Я очень благодарна за то, что вы для меня сделали. У меня нет слов, чтобы выразить, как сильно я чувствую вашу доброту. Если у меня есть возможность за нее расплатиться, я с радостью это сделаю. Но я не могу продолжать увеличивать этот долг.
– Ты уже расплачиваешься, – спокойно заметила Ингрид, разминая тугое тесто тонкими пальцами.
– В смысле?
– Ты помнишь, что случилось в тот день, когда ты пришла к нам?
Джоан вздрогнула. Конечно, она помнила. И конечно же, хотела этот день забыть.
Кажется, в ее жизни не осталось дней, которые ей не хотелось бы забыть.
Ингрид выжидающе смотрела на нее. Джоан вместо ответа медленно кивнула.
– Тогда Кэйя приняла тебя за Олава. Это мой старший сын. Осенью он ушел от нас – сказал, что хочет видеть большой мир на больших кораблях. Я не могла его остановить. Он – свободнорожденный.
Джоан еле заметно вздохнула. Традиция свободнорожденных детей здесь, на западе, была куда сильнее, чем в ее стране. Там, под консервативным влиянием Империи, она постепенно заменялась более суровым и однозначным отношением к семье и браку. Здесь же до сих пор существовал этот обычай.
Испокон веков способность к деторождению считалась главным достоинством женщины при вступлении в брак. И испокон веков же считалось, что проверить это наверняка можно только одним способом – на деле. Из этого выросла традиция – девушка, достигнув совершеннолетия, получала право на полную свободу в своей личной жизни. Она имела право встречаться с кем угодно и как угодно, до тех пор, пока не наступала беременность. С этого момента девушка снова попадала под абсолютную власть семьи – вернее, своей матери, и до самых родов не могла даже перекинуться словом ни с кем посторонним.
Если роды проходили благополучно, мать и дитя оставались в семье ее родителей, а ребенок назывался свободнорожденным. С этого момента – и только с этого – молодая мать становилась потенциальной невестой, и тут уже всякий мог к ней свататься. Если женихом был отец ребенка, то последний утрачивал звание свободнорожденного и становился просто старшим сыном или дочерью.
Однако иногда случалось, что замуж женщину звал вовсе не тот, кто был с ней до этого. В таком случае будущий отец семейства не имел никакой власти над свободнорожденным сыном. До совершеннолетия этот ребенок обязан был во всем беспрекословно слушаться мать, а после становился хозяином своей судьбы и имел право распоряжаться своей жизнью, как ему заблагорассудится.
Свободнорожденный ребенок обладал поразительными возможностями. Если отец был ему известен и признавал ребенка, как своего, последний мог по достижении совершеннолетия перейти в дом отца и продолжать его дело. Имел он также право уйти из дома и выбрать себе совершенно другую жизнь – родители не могли препятствовать ему в этом. Часто бывало, впрочем, что свободнорожденный сын признавал отцом своего отчима – и тогда, опять-таки, терял свое право свободнорожденности, приобретая права наследника. Как бы то ни было, свободнорожденными было подавляющее большинство путешественников, ученых, изобретателей, поэтов и просто искателей приключений.
Но многие, многие матери были оставлены позади, в какой-нибудь глухой и заброшенной деревне, не имея никаких известий о любимом сыне и истово молясь в ночи о его возвращении домой.
Олав, старший сын Ингрид, ушел из дома, как только ему стукнуло шестнадцать. В этих краях он уже считался мужчиной и был таковым во всем, что требовали от него родная деревня и родное ремесло. Но он хотел большего. Его настоящий отец не отказался от него – он погиб за несколько недель до его рождения, оставив на лице Ингрид глубокую вертикальную морщину между бровями. Олав, принадлежащий к этому миру ее скорби и тоски, а не к миру спокойной размеренной жизни с отчимом, отчаянно хотел вырваться из него – и потому еще в детстве решил уйти из дома, как только станет достаточно взрослым. Ингрид знала об этом – но не возражала, не потому, что не могла, а потому, что не хотела. Ей казалось, что с Олавом уйдет последняя, слабая, неискоренимая боль. Но то, что нам кажется – лишь призраки наших мыслей. Она думала лишь о том, чтобы боль ушла – она не догадывалась о том, что на ее место придет новая. Морщина залегла глубже.
Хуже всего было то, что Кэйя – единственная дочь в семье, – была привязана к Олаву больше, чем к своим родным братьям. Было ли дело в том, что он был чуть чутче их, как был чутче его отец, или просто в том, что он был самым старшим и самым мудрым из всех, – но девочка скучала по нему чуть ли не так же сильно, как и его мать, ждала его каждый день из моря и каждый день расстраивалась, когда он не возвращался. Сейчас, спустя полгода, она уже не бросалась всякий раз к морю при виде лодок, но Ингрид видела разочарование на ее личике каждый раз, когда Олава не было среди рыбаков.
До того дня, как к ним не пришла Джоан.
– Ты заменила ей Олава, – тихо сказала Ингрид. – За это я буду кормить и одевать тебя, обогревать и защищать ровно столько, сколько ты этого захочешь. Но ни днем дольше. Ты имеешь право уйти, когда пожелаешь. Только предупреди Кэйю, как следует. Олав решил, что лучше не прощаться. Но он был не прав. Всегда лучше прощаться.
Джоан медленно кивнула и вышла на улицу, не говоря ни слова. Был вечер, с моря дул ветер, кидавший в лицо мелкий песок. Джоан села на краю дюны, как садилась уже много дней подряд, и застыла в абсолютной неподвижности. Этим умением она овладела в совершенстве – застывать.
Она услышала топот ног, визг и писк задолго до того, как дети показались на пляже. Пришлось встать и спуститься на берег – она знала, что Кэйя все равно потребует от нее идти играть. Дети подбежали, закрутились вокруг нее, как чайки вокруг выступающих над водой скал. Кэйя, как обычно, уткнулась в ноги, но общая игра была слишком интересной, и она тоже закрутилась вместе со всеми, и крутилась до тех пор, пока Джоан не взяла ее за руку и не повела домой.
– У тебя есть для меня подарок? – спросила Кэйя бесхитростно и совершенно бескорыстно.
Джоан слегка улыбнулась и покачала головой.
– Нет. Но я надеюсь сделать тебе самый лучший подарок.
– Какой? – пискнула Кэйя возбужденно.
– Увидишь.
* * *
Она стояла и смотрела, как набегающие волны растекаются жидким золотом по мокрому песку, изредка касаясь ее босых ступней мимолетным холодом. Солнце уже медленно опускалось в воду – куда правее, чем в тот раз, когда Джоан впервые наблюдала его здесь. Но и тогда, и сейчас в движении светила была неотвратимая медлительность, величие предопределенности.
Солнце всегда будет садиться в эти воды. Все закончится, песок превратится в пыль, камни станут новым песком – и все равно волны будут жадно ждать, когда красный диск растворится на их поверхности, растекаясь последним неверным теплом по холодной глади…
«Глупости, – подумала Джоан, прерывая саму себя. – Когда пасмурно, ничего нигде не растекается. Темнеет – и все».
Она вздохнула, распрямила плечи и попробовала сосредоточиться.
Так, как учил Сагр.
Сосредоточиться – и одновременно отпустить свои мысли. Потянуться следом за умирающим солнцем, над бесконечной темнеющей водой, и там, за тысячу миль от берега, услышать…
…как воздух застывает над морем бесконечной толщей ночной тишины…
…как тяжело вздыхают киты, на мгновение протекая над волнами темным всплеском плоти…
…как колышутся на глубине водоросли, пропуская сквозь себя серебристые косяки рыб…
Johaneth.
Голос дракона зазвенел в голове, распадаясь на сотни смыслов и значений. Джоан вздрогнула, инстинктивно пытаясь спрятаться от этого многозвучия. Ей понадобилось усилие воли, чтобы не ослабить концентрации и не разрушить связь.
«Мне нужна твоя помощь».
Плохо. Ей плохо давалась речь драконов. Каждое слово звучало грубо, топорно, однозначно.
Но дракон как будто и не заметил этого. Джоан могла ошибаться, но ей показалось, что в его сознании она почувствовала… дружелюбие?
Я слушаю тебя, Последняя.
И снова она не смогла сразу даже понять, что он говорил. Там было и согласие, и интерес, и знание, о чем она хочет просить, и понимание, что ей нужно сказать это самой.
Джоан сжала зубы. Сосредоточиться. Ее просьба многогранна – у нее может быть тысяча возможных последствий. Тысячи сущностей одного решения. Ее – и его решения.
Это уже две тысячи, усмехнулась про себя Джоан – и почувствовала, как теперь вздрогнул дракон.
«Драконы не любят шуток», – вспомнила она. И сразу думать стало проще.
«Я хочу научиться превращаться. Ты должен помочь мне».
Вздох, тяжелый вздох отяжелевшего вечного сознания. Мысли дракона закрутились вокруг, прошелестели по песку тихой поземкой, всколыхнули усталые волны.
Тебе не нужно учиться. Ты уже это умеешь.
«Но я не знаю как!»
Знаешь. Вспоминай. Почему ты превращалась до этого?
Она вздрогнула. И впервые не отшатнулась от многообразия значений, а потянулась за ними, пытаясь укрыться, спрятаться, не позволить себе понять, о чем он говорил.
О ком он говорил.
Мысли дракона крутились тихим настойчивым вихрем, нашептывая одно и то же, одно и то же, одно и то же…
Имя.
Другого способа нет, прошелестел дракон.
Джоан посмотрела на розовое холодеющее небо, раскинувшееся над бесконечной водой. Глубоко вздохнула. И потянулась мыслью, не формулируя в слова, а лишь осторожно прикасаясь ко всему, что похоронила в себе глубоко-глубоко, пока плыла день и ночь к берегу, пока сидела неподвижно у моря, пока молча слушала рассказы маленькой девочки. И в тот момент, когда огромное черное нечто внутри зашевелились, заклубилось, пытаясь вырваться наружу, Джоан почувствовала, как по всему телу пробегает огонь, белое ослепительное пламя знания и спокойствия. Пламя играло и резвилось, растекаясь по венам, распускаясь в ладонях силой, расправляя спину уверенностью и решимостью.
И наконец Джоан почувствовала, как медленно раскрываются за спиной огромные крылья. Мгновение она простояла так, на грани превращения, а перед глазами раскрывался мир во всей своей неисчислимой красоте.
А затем Джоан снова потянулась к тому, что сидело внутри, к своей боли, делавшей ее человеком, – и все исчезло.
Остались только море и песок. И холодное небо, впитавшее в себя последние капли солнечного света.
Джоан с шумом выдохнула – и чуть не упала, пошатнувшись от внезапно навалившейся реальности. Отступила на пару шагов от линии прибоя – и тяжело опустилась на песок.
«Спасибо», – подумала она мягко.
Ответом ей была тишина – и только спины китов мягко перекатились по бескрайней поверхности океана.
* * *
Олав устроился юнгой на «Среброокую» осенью. Ему крупно повезло – многие мальчишки околачивались в порту месяцами. Но он был настойчивее других, соглашался на ничтожные условия и мечтал лишь об одном – поскорее попасть на борт. Капитан был суров, но не жесток – разрешил парню подняться на судно, оговорив с ним нулевую оплату и предельно мизерный паек. Олав был счастлив. Через три дня «Среброокая» отошла от берега, и все утро Олав драил палубу в полуобморочном состоянии от охватившей его эйфории. Он на корабле! Настоящем корабле с мачтами, нет, с фоком, гротом и бур… брут… Не важно! Все это не важно. Все это он выучит и будет говорить так, что сам капитан будет завидовать ему. Да что там! Он сам однажды станет капитаном, и будет бесстрашно вести свой корабль вперед, навстречу волнам и ветру…
Волны и ветер повстречались очень скоро, и несколько раз Олава чуть не смыло с палубы. Это несколько вернуло его к реальности, но не умерило энтузиазма. Лишь к концу недели, чувствуя, что желудок начинает подводить от голода, а вокруг по-прежнему одни и те же волны безо всяких изменений, он подумал, что жизнь на корабле не так уж и прекрасна, как ему казалось. Через месяц он решил, что эта жизнь ничем не лучше любой другой. Через два он ее возненавидел.
Но Олав продолжал, сжав зубы, скрести палубу, выслушивать насмешки и выносить пинки – потому что вернуться домой означало сдаться, признать свое поражение, а этого он никак не мог допустить. Поэтому, когда «Среброокая» вернулась в порт, он, вместо того чтобы сойти со всеми на берег, остался на борту. Капитан, увидев его там, пошутил, что Олав сросся душой с кораблем, – и юноше нечего было возразить. Корабль был его мечтой – отказаться от него означало отказаться от всей своей жизни.
«Среброокая» перезимовала в Дельте. Олав мог бы за это время дойти до дома и навестить свою семью – но не пошел. Корабль стал его домом, команда – семьей. Весной он вместе со всеми снова вышел в море – теперь уже в качестве матроса. Удача снова улыбнулась ему.
Но хорошее начало часто предвещает быстрый конец – не успев отплыть от Дельты и ста миль, «Среброокая» попала в шторм и потерпела крушение, разбросав часть команды среди бушующих волн и увлекая вторую часть за собой в пучину. Олав был среди первой счастливой части – судьба подарила ему еще несколько лишних мгновений бессмысленной борьбы. Он отчаянно барахтался в волнах, чувствуя, как постепенно ноги и руки немеют, а сознание заволакивает туман, как вдруг неведомая сила выдернула его из воды и потащила наверх сквозь ледяные струи дождя. Олав уже успел испытать достаточно на тот момент – свист крыльев и цепкую хватку огромных когтей его сознание услужливо заменило на мягкую и уютную черноту обморока.
Очнувшись у себя дома, он в первое мгновение решил, что на самом деле еще не очнулся, а в следующее – что уже умер. Потом он услышал голос отчима – приглушенный голос человека, который боится кого-нибудь разбудить.
– Удивительно! Только вчера ушла Джоан – а сегодня утром Олава нашли на берегу. Как его вообще вынесло к нам?..
– Ничего удивительного, – сухо ответила его мать. – Каждый по-своему расплачивается по счетам.