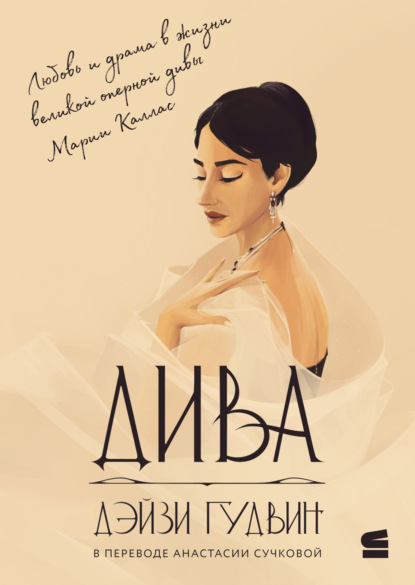
Полная версия:
Дэйзи Гудвин Дива
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
– Надеюсь, вы отказались, мистер Бинг. Если все билеты уже проданы, вам не нужна дополнительная реклама, а я бы предпочла не тратить время на журналистов. Они могут написать обо мне после того, как услышат мое выступление.
Эти слова шокировали Бинга.
– Приглашение сняться для Time – большая честь. Этот журнал продается в каждом газетном киоске страны, и никогда раньше на его обложке не появлялась оперная певица.
В устах директора театра это прозвучало так, словно она отказала ордену Почетного легиона.
– Вы действительно полагаете, – проговорила Мария, сосредоточенно глядя на Бинга, – что Time хочет сфотографировать меня на обложку, потому что я хорошо пою? Вы слышали, какие вопросы задавала пресса? Ни один не касался музыки.
Бинг и глазом не моргнул.
– Они хотят вас, потому что вы – величайшая оперная дива современности. Time предоставляет обложки только самым выдающимся людям. Там появлялись Альберт Швейцер, Сальвадор Дали и Элеонора Рузвельт.
Менегини спросил по-итальянски, о чем говорит Бинг. Мария ответила, что Бинг устроил для нее интервью для журнала Time и фотосессию на обложку, не спросив ее мнения. Тита был весьма впечатлен.
– Сколько они заплатят?
Бинг, свободно говоривший по-итальянски, чуть не рассмеялся, но сдержал улыбку, заметив выражение лица примадонны.
– Они не платят за эти интервью, Тита. Американцы думают, что делают вам одолжение, используя ваш портрет для продажи большего количества экземпляров, – раздраженно ответила Мария.
Джордж, дегустировавший содержимое графина, найденного в мини-баре лимузина, поднял глаза и спросил по-гречески:
– Ты действительно попадешь на обложку Time, Мария? Знаешь, этот журнал ужасно популярен. Он есть даже в моей парикмахерской. Вся округа будет невероятно гордиться тобой.
Бинг не мог понять, что говорит Каллас-отец, но он видел, что его слова убеждают Марию. Через некоторое время она кивнула Бингу:
– Хорошо. Я согласна дать интервью для Time.
II
Кроны деревьев в Центральном парке начинали загораться осенним огнем. Вскоре зеленый цвет листвы сменится желтым, оранжевым и местами красным. Для Марии именно это время года ассоциировалась с Америкой. Она вспомнила, как отец покупал ей хот-доги у уличного торговца в соседнем квартале. Они стояли на тротуаре и поглощали сочные розовые сосиски в пышных булочках, щедро сдобренные желтой горчицей и красным кетчупом. Мария знала, что об этих вылазках не стоило рассказывать матери, считавшей американскую кухню происками дьявола. В то время это было одно из ее самых любимых лакомств. Интересно, у него все тот же восхитительный вкус? Нет, она не собиралась это выяснять. В ее меню больше не входили хот-доги.
Мария повернула обратно в отель. Ее номер был довольно фешенебельным, в нем даже стоял рояль, за которым она занималась. И все же она подозревала, что это были не самые роскошные апартаменты. Отель бронировал Тита, а он терпеть не мог тратить больше необходимого.
В прошлый приезд в Нью-Йорк она спала на диване в квартире своего отца в Вашингтон-Хайтс. Это было двенадцать лет назад, сразу после окончания войны. Она прилетела прямо из Афин в полной уверенности, что в Метрополитен-опере заметят ее талант. Она безупречно пела на прослушивании, но музыкальный директор предложил ей контракт лишь на второстепенные партии горничных и фрейлин. Мария без колебаний отказалась, ведь в Афинах она целых три года исполняла только главные роли. Музыкальный директор заметил, что большинство двадцатитрехлетних певиц из малоизвестных европейских оперных трупп были бы вне себя от радости получить любую возможность спеть в Метрополитен-опере.
Мария ответила, что однажды Метрополитен-опера будет умолять Марию Каллас выступить на его сцене, и ушла. Было весьма приятно сознавать, что она оказалась права.
Зазвонил телефон.
– Мадам Каллас, к вам пришел джентльмен. Говорит, что он из журнала Time.
На мгновение у Марии возникло искушение ответить, что она никого не ждет, но она пообещала отцу – и всегда сдерживала обещания.
Мельком взглянув в зеркало и убедившись, что отражение вполне соответствует образу мадам Каллас – укладка, идеальный макияж и никаких очков, – Мария пошла открывать дверь.
Худощавый мужчина в очках представился Робертом ДеДжерасимо.
Он сгибался под тяжестью массивного катушечного магнитофона.
Мария с тревогой посмотрела на него:
– Надеюсь, вы не собираетесь записывать мое пение?
ДеДжерасимо покачал головой:
– О нет, это для нашего интервью.
Мария приподняла бровь:
– Это так по-американски. В Европе пользуются блокнотом и ручкой.
ДеДжерасимо похлопал по своему аппарату.
– Зато этот малыш передает все сказанное слово в слово.
– На случай, если я решу подать в суд? – спросила Мария.
– Нет, просто с его помощью я не ошибусь, цитируя вас, мадам Каллас.
ДеДжерасимо улыбнулся, и она жестом пригласила его присесть на диван напротив. Между ними расположился гигантский магнитофон.
Интервью началось с обычных вопросов о ее нью-йоркском детстве. Была ли ее семья музыкальной? Помнила ли она первую спетую песню? И так далее. Ей много раз приходилось отвечать на такие вопросы. Она начала расслабляться.
– Не хотите ли чего-нибудь выпить, мистер ДеДжерасимо?
ДеДжерасимо покачал головой:
– Я никогда не пью на работе и подозреваю, что вы не приветствуете курение, – улыбнулся он.
– Вы правы, не приветствую. Дым – мой враг.
– Это ваш единственный враг, мадам Каллас? – спросил ДеДжерасимо, наклонившись к Марии.
– Это единственное, чего я по-настоящему боюсь. Все, что вредит моему голосу, я воспринимаю как угрозу.
Она коснулась горла для убедительности.
– Значит, вы не считаете врагами критиков или неблагодарную публику?
Мария картинно улыбнулась:
– Любое выступление – это битва, мистер ДеДжерасимо. На сцене мне приходится бороться каждую секунду. Обычно я выигрываю, хотя бывают и моменты горьких поражений. Но я не виню зрителей, если мне не удается завоевать их симпатии.
Этот был еще один заученный ответ.
– А как насчет конкурентов? Ходят слухи, что у вас сложные отношения с другими известными сопрано, например с Ренатой Тебальди.
Тебальди – главная соперница Каллас в Ла Скала – имела не меньшую армию поклонников.
Мария звучно рассмеялась:
– Уверяю вас, что мы с Ренатой – сердечные подруги. Возможно, некоторые особо преданные фанаты развлекаются, приписывая нам вражду, но это всего лишь выдумка.
ДеДжерасимо снова заглянул в свои записи.
– Вы родились здесь, в Нью-Йорке, а когда вам исполнилось тринадцать, мать увезла вас обратно в Грецию. Во время войны Афины были оккупированы итальянцами и немцами. Должно быть, это было очень трудное время?
Мария кивнула:
– Вы даже не представляете, насколько…
– Интересно, как вам удалось продолжить учебу в разгар войны? – ДеДжерасимо сделал паузу. – Наверное, решающее значение сыграла поддержка матери?
Мария пристально взглянула на него, словно не поверила своим ушам. Маска мадам Каллас исчезла.
– Моей матери? Моя мать была хуже нацистов, мистер ДеДжерасимо. Она заставляла меня петь на улице за еду. Я смогла продолжать заниматься вокалом во время войны лишь потому, что с раннего детства усвоила: единственный человек, на которого я могу положиться, – это я сама. Видите ли, у меня не было детства. Мать стала пользоваться мной, как только поняла, насколько я талантлива.
ДеДжерасимо наблюдал, как вращается бобина магнитофона, еле сдерживая довольную улыбку. У каждого человека есть болевая точка, и секрет хорошего интервью заключается в том, чтобы найти ее. Изучение биографии Марии показало, что она не общалась с матерью в течение шести лет, – и это было тревожным сигналом. Он сам был родом из Италии и считал, что греки похожи на его соплеменников: родители-англосаксы вполне могли видеться с детьми раз в десять лет, но это было немыслимо для матери-итальянки или гречанки. Он подозревал, что между ними произошла серьезная размолвка, и, когда голос Марии дрогнул, он понял, что был прав. Для каждого существует заветный вопрос, отвечая на который невозможно покривить душой, – и он его задал.
– И, несмотря на все заслуги, я никогда не была ее любимицей. Она всегда предпочитала мою сестру Джеки.
III
Вашингтон-Хайтс, 1931 годКвартира находилась на втором этаже – там всегда было темно, даже в солнечные дни. Спрятавшись от матери под кухонным столом, Мария играла с одной из старых кукол Джеки. У куклы были длинные золотистые волосы и голубые глаза – как у старшей сестры. Каждое Рождество она надеялась, что Санта-Клаус принесет ей ее собственную куклу, с черными волосами и карими глазами. Но мать сказала, что им сейчас не до игрушек, потому что в этой ужасной стране настали тяжелые времена.
Укрывшись под скатертью от посторонних глаз, она слышала, как сестра перебирает клавиши пианино, а мать тихо мурлычет себе под нос от удовольствия – она всегда так делала, когда играла Джеки. Мать беспрестанно повторяла, что Джеки когда-нибудь будет выступать в Карнеги-холле и тогда купит ей норковую шубу. Мария не знала, что такое норка, но понимала, что это, должно быть, что-то очень красивое: мама всегда обнимала себя, произнося это слово, и улыбалась, закрыв глаза от восторга.
Мария видела, как ноги Джеки нажимают на педали пианино. На сестре были новые серые лакированные туфли с двумя ремешками, застегивающимися на две жемчужные пуговки. Накануне их обеих повели покупать обувь. Мать сердилась, потому что Мария больше не влезала в старые туфли Джеки. «Ты похожа на женщин по отцовской линии, Мария. Они все великанши! И ноги у них размером с тыкву. Слава богу, что у Джеки такие же маленькие и изящные ножки, как у меня».
Мария посмотрела на темно-коричневые ботинки на шнурках – единственную обувь ее размера, которая нашлась в магазине, – и в который раз пожалела, что не пошла в мать.
Входная дверь открылась, и Мария услышала шаги отца – он подошел и включил радиоприемник. Звуки пианино сменились тем, что мама называла «американской музыкой». Отец грузно опустился в кресло, старые пружины скрипнули под тяжестью его тела. Он прокричал жене принести пива. Мария знала, что сейчас они начнут ссориться. Ей захотелось оказаться в спальне, которую она делила с Джеки, чтобы не слышать очередную размолвку.
Мария сосредоточенно расчесывала волосы куклы старой зубной щеткой. Ей нравилось, когда мама изредка расчесывала ее волосы перед сном, хоть она при этом и ворчала, что из такой густой шевелюры можно носки вязать.
Мать заявила, что они должны найти для Джеки лучшего преподавателя игры на фортепиано; а отец печально ответил, что не знает, будет ли у него работа на следующей неделе. Мария не выносила, когда в голосе отца звучала грусть. Мать, цокая каблуками, подошла к радиоприемнику.
Мария узнала доносившуюся мелодию. Эту песню они разучивали в школе. Она начала подпевать, и, когда мать выключила радио, Мария почувствовала, как ее мощный голос вырывается из-под стола и заполняет комнату.
Возвращайся же,Когда настанет лето и зацветут лугаИли когда в заснеженной долинеВоцарится тишина.Я буду ждать тебя каждую минутуСолнечного или пасмурного дня.О малыш Дэнни, о малыш Дэнни, я так люблю тебя!Мать Марии резко отдернула скатерть. Стоя на коленях, она изумленно смотрела на дочь.
– Я понятия не имела, что ты умеешь так петь. Почему ты раньше молчала?
Мария не знала, что ответить. Ей и в голову не приходило, что это может привлечь внимание матери. В школе Марии говорили, что она хорошо поет, но ей казалось, что не стоит упоминать об этом дома, потому что все песни, которые она знала, были на английском, а она не хотела, чтобы мама хмурилась из-за того, что не понимает слов.
– Прости, мама.
Губы Литцы растянулись в улыбке, которая больше напоминала оскал.
– Не смей извиняться за то, чем тебя одарил Господь. У тебя совершенно уникальный голос. И если, с Божьей помощью, ты сделаешь что-то достойное из этого драгоценного подарка, каждый день благодари Создателя за его доброту.
– Да, мама.
– Больше никаких американских песен – только настоящая музыка. Ты не Ширли Темпл и не станешь чирикать о леденцах на палочке. Ты будешь блистать в опере, agapi mou.
Мария почувствовала, как по всему телу разливается тепло. Мать никогда раньше не обращалась к ней по-гречески с нежностью и не называла ее agapi mou – любовь моя.
Литца подошла к граммофону и достала одну из пяти пластинок, составлявших их музыкальную библиотеку. Она положила ее на вращающийся диск проигрывателя и, крутя ручку, сказала:
– Вот что ты должна петь, Мария! Однажды ты прославишься на весь мир!
Мария услышала высокий чистый голос, отчетливый, несмотря на шумы. Она не разбирала незнакомых слов, но по музыке поняла, что речь шла о чем-то очень желанном.
Марии всегда хотелось, чтобы мать хоть иногда смотрела на нее как на Джеки – мечтательными глазами, с мягкой полуулыбкой. Она услышала ту же жажду любви в музыке и точно знала, как это спеть.
IV
Когда Мария подъехала к зданию Метрополитен-оперы, на тротуаре уже собралась толпа. Она сняла обычные очки и надела солнцезащитные, но с минусовыми линзами.
Так она могла выглядеть как примадонна, которую все ожидали увидеть, и при этом без труда найти служебный вход в театр. Удивительно, что в день репетиции здесь собралось столько людей. В Милане такого бы никогда не случилось. Интересно, сколько нетерпеливых поклонников, которых она видела в окно автомобиля, слышали ее пение? Она вспомнила, что в Америке слава не была показателем таланта.
Мария улыбалась и раздавала автографы, пробираясь к служебному входу. Пока она ждала, когда откроется дверь, бледный молодой человек протянул ей красную розу.
– Я увидел вас во плоти, мадам Каллас, и могу умереть счастливым, – проговорил он со слезами на глазах.
– Возможно, вам сначала стоит послушать, как я пою, – отрезала Мария и исчезла в театре, передав цветок Тите, который, как обычно, шел на пару шагов позади.
Мария пришла чуть раньше, как и всегда. Она знала, что именитый тенор Марио дель Монако традиционно опоздает, но ей нравилось появляться первой и уходить последней. Эта «Норма» должна была стать совершенством.
На второй день репетиций Мария сорвала второй акт с Марио, который играл ее возлюбленного Поллиона. Режиссер попросил их подойти поближе друг к другу во время исполнения дуэта, и Марио, как обычно небритый и потный, притянул ее к себе.
– Вот так? – спросил он режиссера и положил руку на правую грудь Марии.
Она отпрыгнула, будто ее ужалили, и ударила партнера по лицу.
– Нет, не так, testa di cazzo[4]! – гневно ответила Мария.
Марио отступил, потирая щеку.
– Расслабься, и сможешь попасть в верхнюю до, вместо того чтобы скулить, как умирающая кошка.
Мария занесла руку для еще одной пощечины, но, заметив ДеДжерасимо в углу репетиционного зала, передумала. Она хотела все сделать идеально, а ссора с Марио в этом не помогла бы. Все теноры, с которыми ей доводилось петь, считали, что она находит их неотразимыми. Как они не понимали, что чувства, которые она играла на сцене, не переносились в реальную жизнь? Режиссер примирительно поднял руки вверх.
– Ладно, ребята, остыньте! Объявляю десятиминутный перерыв.
По пути в гримерную Марию догнала Мими, юная меццо-сопрано, исполнявшая партию Адальгизы – соперницы Нормы за сердце Поллиона.
– Марио – просто свинья. Он всегда лапает меня во время дуэта. Спасибо за то, что поставили его на место.
Мария улыбнулась и положила руку на плечо девушки.
– Не потакай ему, Мими. Это все клоунада. Однажды он проделал то же самое на сцене, чтобы позлить меня, потому что завидовал, что меня чаще вызывают на поклоны.
Мими посмотрела на нее с восхищением.
– Он должен быть благодарен за то, что ему посчастливилось петь с вами. Рядом с вами все звучат лучше. Каждый раз, слушая вас, я узнаю что-то новое.
Мария кивнула:
– Это потому, что ты – настоящая артистка. Такие, как мы, учатся друг у друга. А Марио всего лишь исполнитель. Он думает, что управляет музыкой; но мы-то знаем, что служим своим голосам, а не наоборот.
Наклонившись, она обняла Мими, а та сказала:
– Вы совсем не такая, какой я вас себе представляла. Все говорили, что вы просто ужасны.
Мария рассмеялась:
– О, я могу быть и такой, Мими.
Вернувшись в гримерную, Мария услышала стук в дверь. Вошел Бинг, он был хмур и бледен.
– Я слышал о том, что произошло на репетиции. Такому поведению могут потворствовать в Ла Скала, но не здесь.
Он осуждающе посмотрел на Марию. Поняв, что он имеет в виду, она ахнула от негодования:
– Ни в одном театре на земле я не позволю грубо с собой обращаться, мистер Бинг. Если Марио дель Монако ведет себя как придурок, я буду относиться к нему как к придурку.
– Но дать ему пощечину на глазах у всех… – Бинг чуть не погрозил ей пальцем.
– Он неподобающим образом положил руку мне на грудь.
Бинг передернул плечами:
– Марио говорит, что это произошло случайно. Вы могли бы, по крайней мере, усомниться в его мотивах, прежде чем бить по лицу.
Мария повысила голос на полтона:
– Возможно, я бы так и сделала, если бы это случилось впервые. Но Марио уже не раз «случайно» распускает руки, и я этого не потерплю!
Бинг вздохнул:
– Он ждет извинений.
– Как и я.
Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Наконец Мария сказала, не отводя взгляда:
– Я пожму ему руку, если он ее предложит. И хватит тратить мое время впустую.
Бинг вышел из гримерной, а Мария огляделась в поисках чего-нибудь, что можно разбить.
* * *Генеральная репетиция прошла лучше, чем ожидала Мария. Раньше она не выступала на сцене без очков, но, похоже, ее мысленные расчеты были верны. Если дирижер сохранит взятый сегодня темп, она будет точно знать, сколько времени ей потребуется, чтобы добраться от одного края сцены до другого без происшествий. А Марио, несмотря на все его недостатки, был лучшим Поллионом, с которым она когда-либо пела.
Она прикоснулась к иконке Богородицы, которую всегда хранила в гримерной. Думать о том, что все идет хорошо, – плохая примета. Древние греки не без причины порицали заносчивость.
Вошел Тита. Он в последний раз наблюдал за происходящим из зрительного зала – во время спектаклей он всегда стоял за кулисами.
– Ну как?
– Это одно из твоих лучших выступлений, tesoro[5]. Я прослезился, когда ты пела Casta diva[6].
Тита положил руки ей на плечи и поцеловал в шею. Мария сжала его руку.
– Какое счастье, что у меня есть ты, Тита. Я знаю, что ты всегда рядом, что ты присматриваешь за мной.
– Так будет всегда, carissima[7].
Супруги переглянулись в зеркале и улыбнулись друг другу. Они очень сближались перед спектаклем. Баттиста точно знал, как успокоить страхи Марии. Он присутствовал при каждом ее выходе на сцену с тех пор, как они впервые встретились в Вероне. Она знала: он не кривит душой, говоря, что это было одно из ее лучших выступлений.
– Ты пошлешь от меня цветы Мими в честь премьеры?
– Конечно. А Марио?
Мария пожала плечами:
– Как хочешь.
– Помни, Мария, тебе платят гораздо больше, чем ему.
– Еще бы! Публика приходит посмотреть именно на меня.
Баттиста любил лишний раз напомнить Марии о том, каких успехов он достигал в переговорах от имени супруги, а она парировала, что все это заслужила.
Раздался стук в дверь. Мария поняла, что это Бинг. Каждый руководитель по-своему объявлял о своем прибытии. Директор Ла Скала Антонио Гирингелли врывался в гримерную, чуть не выбивая дверь. Бинг же был деликатен, но в его поведении читался некий укор.
В руке он держал нечто яркое. Мария надела очки, чтобы получше рассмотреть, что он принес.
– Это сигнальный экземпляр журнала Time. Завтра он появится во всех газетных киосках.
Мария заметила, что тон Бинга был нарочито спокойным.
Она взглянула на свой портрет на обложке. Фотография была старая, и она с трудом могла себя узнать. В правом нижнем углу было написано: «СОПРАНО КАЛЛАС».
Она открыла журнал на заложенной Бингом странице и прочла: «Оперная дива, ненавидимая коллегами и любимая публикой, как никто другой». Мария посмотрела на Бинга, старательно изучавшего потолок, и фыркнула:
– Меня бы здесь не было, если бы все было наоборот, не так ли?
Менегини, тонко чувствующий настроения жены, даже не понимая ни слова, встревожился.
Мария стала читать дальше, и ее глаза округлились от ужаса. Ее руки так сильно дрожали, что она с трудом могла разобрать слова: «Миссис Каллас вернулась в Афины с Джеки, они бедствовали. В 1951 году она написала Марии письмо – попросила 100 долларов “на хлеб насущный”. Мария ответила: “Не приходи к нам со своими проблемами. Я всю жизнь отрабатывала свои деньги, и ты еще достаточно молода, чтобы работать. Не можешь заработать на жизнь? Выпрыгни из окна или утопись”».
Мария швырнула журнал в Бинга.
– Я никогда ей этого не писала. Она лживая стерва, а виноваты во всем вы, мистер Рудольф Бинг.
Бинг моргнул, но в остальном ничем не выдал своих чувств.
– В статье также говорится, что вы величайшая певица современности.
– И это должно меня утешить? Я действительно величайшая певица современности. А эта статья полна лжи. Я подам на журнал в суд.
Бинг покачал головой:
– Я бы не советовал этого делать. Если любое из этих, эм-м-м, заявлений будет доказано, вы окажетесь в неудобном положении. Что до моей вины, я по-прежнему утверждаю, что появиться на обложке Time – это честь, к тому же артистку вашего уровня не должна волновать критика.
– Но меня оскорбили не как артистку, а как женщину.
Бинг прочистил горло:
– Хорошенько поразмыслив, вы поймете, что эта статья не так уж плоха. Ваше завтрашнее выступление станет триумфом, а все остальное забудется.
Мария покачала головой:
– Вы действительно думаете, что завтра я смогу выйти на сцену, зная, что все сидящие в зале ненавидят меня? Мой голос исходит из сердца, мистер Бинг. Я не машина. Вам придется все отменить.
Бинг не дрогнул: это был не первый случай, когда артист угрожал сорвать выступление.
– Такие решения лучше всего оставлять до утра. – Он посмотрел на Титу и сказал по-итальянски, чтобы его наверняка поняли: – Ваша жена, должно быть, очень устала. Я позвоню завтра.
Взявшись за дверную ручку, Бинг добавил:
– Мадам Каллас, в статье также говорится о том, что вы всегда принимаете бой. Я уверен, что по крайней мере это – чистая правда.
* * *В машине на обратном пути в «Плазу» Мария крепко сжимала руку мужа.
– Отвези меня домой, Тита.
– Именно туда мы и едем, tesoro.
– Я имею в виду Милан. Я не могу здесь оставаться.
Тита вздохнул:
– Бинг подаст на тебя в суд.
Мария вскинула голову:
– На меня уже подавали в суд.
Тита снова вздохнул. Он был почти уверен, что Мария говорит не всерьез, но понимал, что бури не миновать.
– Если ты уйдешь из Метрополитен-оперы, то никогда больше не ступишь на порог этого театра, а это обернется катастрофой для твоей карьеры. Бинг сделает все, что в его силах, чтобы погубить тебя.
– И что? Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем бросить все, вернуться с тобой в Милан, стать синьорой Менегини и носить передник, как твоя мать.
Тита не потрудился ответить. Мария далеко не в первый раз угрожала стать домохозяйкой.
Машина подъехала к отелю. Увидев фанатов, дежуривших у входа, они прервали разговор. Мария надела темные очки и решительно направилась ко входу, толпа ринулась следом. Одной женщине удалось протиснуться мимо швейцара и сунуть ей в лицо блокнот для автографов.
– Простите, мадам Каллас, но это так много значит для меня. Каждый раз, слушая одну из ваших пластинок, я чувствую, что готова ради вас на все.
Женщина была ровесницей ее матери, но у нее было мягкое лицо, и она смотрела с таким восхищением и надеждой, что Мария обуздала гнев, подавила желание поскорее скрыться в отеле, остановилась и дала автограф.
Поклонница ахнула от восторга.
– О, большое вам спасибо. И удачи завтра! – крикнула она ей вслед.
Но Мария уже исчезла за вращающейся дверью.
В номере ее ждала Бруна. Она не видела статью в Time, но, взглянув в лицо Марии, поняла, что хозяйка расстроена.
