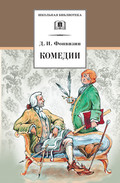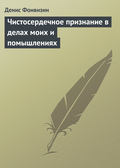Денис Фонвизин
Недоросль (сборник)
Роли Милона и Софьи бледны. Хотя взаимная склонность их одна из главных завязок всего действия, но счастливой развязке ее радуешься разве из беспристрастной любви к ближнему. Правдин чиновник; он разрезывает мечом закона сплетение действия, которое должно б быть развязано соображениями автора, а не полицейскими мерами наместника. В наших комедиях начальство часто занимает место рока (fatum) в древних трагедиях; но в этом случае должно допустить решительное посредничество власти, ибо им одним может быть довершено наказание Простаковой, которое было бы неполно, если бы имение осталось в руках ее. Кутейкин, Цыфиркин и Вральман забавные карикатуры; последний и слишком карикатурен, хотя, к сожалению, и не совсем несбыточное дело, что в старину немец кучер попал в учители в дом Простаковых.
Мне случалось слышать, что Фонвизина упрекали в исключительной цели, с которою будто начертал он лицо Недоросля, осмеивая в нем неслужащих дворян. Кажется, это предположение вовсе неосновательно. Во-первых, Фонвизин не стал бы метить в небывалое зло. Одни новые комики наши стали сочинять нравы и выдумывать лица. Дворянство наше винить можно не в том, что оно не служит, а разве в том, что оно иногда худо готовится к службе, не запасаясь необходимыми познаниями, чтоб быть ей полезным. Недоросль не тем смешон и жалок, что шестнадцати лет он еще не служит: жалок был бы он служа, не достигнув возраста рассудка; но смеешься над ним оттого, что он неуч. Правда, что правило Стародума, по которому в одном только случае позволяется дворянину выходить в отставку – когда он внутренне удостоверен, что служба его прямо пользы отечеству не приносит, слишком исключительно. Дворянин пред самым отечеством может иметь и без службы священные обязанности. Дворянин, который усердно занимался бы благоустройством и возможным нравственным образованием подвластных себе, воспитанием детей, какою-нибудь отраслью просвещения или промышленности, был бы не менее участником в общем деле государственной пользы и споспешником видов благонамеренного правительства, хотя и не был бы включен в списки адрес-календаря. К тому же правило Стародума несбыточно в исполнении: в государстве нет довольно служебных мест для поголовного ополчения дворянства. Должно признаться, что и Правдин имеет довольно странное понятие о службе, говоря Митрофанушке в конце комедии: «С тобою, дружок, знаю что делать: пошел-ка служить!» Ему сказать бы: «пошел-ка в училище!», а то хороший подарок готовит он службе в лице безграмотного повесы.
Успех комедии «Недоросль» был решительный. Нравственное действие ее несомненно. Некоторые из имен действующих лиц сделались нарицательными и употребляются доныне в народном обращении. В сей комедии так много действительности, что провинциальные предания именуют еще и ныне несколько лиц, будто служивших подлинниками автору. Мне самому случалось встретиться в провинциях с двумя или тремя живыми экземплярами Митрофанушки, то есть будто служившими образцом Фон-Визину. Вероятно, предание ложное, но и в самых ложных преданиях есть некоторый отголосок истины. В «Бригадире» есть тоже намеки на живые лица, и между прочими на какого-то президента коллегии, который любил великорослых и по росту определял подчиненных своих на места. Если правда, что князь Потемкин после первого представления «Недоросля» сказал автору: «Умри, Денис, или больше ничего уже не пиши!», то жаль, что эти слова оказались пророческими и что Фон-Визин не писал уже более для театра. Он далеко не дошел до геркулесовых столпов драматического искусства; можно сказать, что он и не создал русской комедии, какова она быть должна; но и то, что он совершил, особенно же при общих неудачах, есть уже важное событие. Шлегель, разбирая творения двух британских драматиков (Бьюмонт и Флетчер), говорит, что они соорудили прекрасное здание, но только в предместиях поэзии, тогда как Шекспир в самом средоточии столицы основал свою царскую обитель. То же скажем и о трудах Фон-Визина, прибавя, что наша столица еще мало застроивается, что если в некоторых новейших зданиях и оказывается более вкуса в архитектуре, лучшая отделка в частных принадлежностях, то в зодчестве Фонвизина более прочности, уютности и приноровки к потребностям и климату отечественным; наконец, что средоточная площадь столицы нашей еще пустынно ожидает драматических чертогов, для коих не родились достойные строители.
Странно, что направление, данное автором нашим, имело мало последователей в литературном отношении: ибо нельзя назвать исследованием ему то, что, сходно с замечанием одного остроумного критика, комедия наша расположилась в лакейской как дома или принесла лакейские нравы и язык в гостиные, потому что Фонвизин и в дворянском семействе нашел Простаковых. Наши комики переняли у него некоторые приемы, положения, местность, думая, что в них-то и заключается вся комическая сила; но она у него потому сила, что не изыскана, а коренная, природная. Напротив же, у его последователей то же самое есть бессилие, потому что оно заимствованное и неестественное.
Я знаю у нас только одну комедию, которая напоминает комические соображения и производство Фонвизина: это «Горе от ума». Сие творение, имеющее в рукописи более расхода, нежели многие печатные книги (что, впрочем, почти неминуемо), при появлении своем судимо было не только изустно, но и печатно двояким предубеждением, равно не знавшим меры ни в похвалах, ни в порицаниях своих. Истина равно чужда Сеидам и Зоилам. Буду говорить о сей комедии беспристрастно; моя откровенность тем свободнее будет, что она не связана прежними обязательствами. Я любил автора, уважал ум и дарования его; вероятно, я один из тех, которые живее и глубже были поражены преждевременным и бедственным концом его; но сам автор знал, что я не безусловный поклонник комедии его; вероятно, даже в глазах его умеренность моя сбивалась на недоброжелательство по щекотливости, свойственной авторскому самолюбию, и по сплетням охотников, всегда ищущих случая разводить честных людей. Комедия Грибоедова не комедия нравов, а разве обычаев, и в этом отношении многие части картины превосходны. Если искать вывески современных нравов в Софии, единственном характере в комедии, коей все прочие лица одни портреты в профиль, в бюст или во весь рост, то должно сказать, что эта вывеска – поклеп на нравы или исключение, неуместное на сцене. Действия в драме, как и в творениях Фонвизина, нет, или еще и менее. Здесь почти все лица эпизодические, все явления выдвижные: их можно выдвинуть, вдвинуть, переместить, пополнить, и нигде не заметишь ни трещины, ни приделки. Сам герой комедии, молодой Чацкий, похож на Стародума. Благородство правил его почтенно; но способность, с которою он ex-abrupto проповедует на каждый попавшийся ему текст, нередко утомительна. Слушающие речи его точно могут применить к себе название комедии, говоря: «Горе от ума!» Ум, каков Чацкого, не есть завидный ни для себя, ни для других. В этом главный порок автора, что посреди глупцов разного свойства вывел он одного умного человека, да и то бешеного и скучного. Мольеров Альцест в сравнении с Чацким настоящий Филинт, образец терпимости. Пушкин прекрасно характеризовал сие творение, сказав: «Чацкий совсем не умный человек, но Грибоедов очень умен». Сатирический пыл, согревающий многие явления, никогда не выдохнется; комическая веселость, с которою изображены многие частности, будет смешить и тех, которые не станут искать в сей комедии зеркала современного. Если она не лучшая сатира наша в литературном отношении, потому что небрежность языка и стихосложения доведены в ней иногда до непростительного своеволия, то по крайней мере она сатира, лучше и живее всех прочих обдуманная. Замечательно, что сатирическое искусство автора отзывалося не столько в колких и резких эпиграммах Чацкого, сколько в добродушных речах Фамусова. Продолжительная ирония утомительна: порицание под видом похвалы скоро становится приторно; но здесь автор так искусно, так глубоко вошел в характер Фамусова, что никак не различишь насмешливости комика от замоскворецкого патриотизма самого Фамусова. Таков, но не в равной степени превосходства, и Скалозуб. По двум этим изображениям можно заключить несомненно, что в Грибоедове таился будущий комик. Он и творец «Недоросля» имеют то свойственное им преимущество, что они прямо, так сказать живьем, перенесли на сцену черты, схваченные ими в мире действительности. Они не переработывали своих приобретений в алхимическом горниле общей комедии, из коего все должно выходить в каком-то изготовленном и заранее указанном виде. Самые странности комедии Грибоедова достойны внимания: расширяя сцену, населяя ее народом действующих лиц, он, без сомнения, расширил и границы самого искусства. Явление разъезда в сенях, сие последнее действие светского дня, издержанного на пустяки, хорошо и смело новизною своею. На театре оно живописно и очень забавно. У нас вообще мало думают об животворении сцены, о сценических впечатлениях, забывая, что недаром драма называется зрелищем и происходит пред зрителями. Многие наши комедии суть род разговоров в царстве мертвых. Пред вами не мир действительный, не люди, а тени бесплотные, безличные. Все в них неосязательно, неопределительно; все скользит по чувствам и по вниманию. Комедия наша не есть картина ни жизни внутренней, ни внешней. Она не смешивается с толпою на площади и не проникает в сокровенные таинства домашнего быта. Это что-то отвлеченное, умозрительное, условное, алгебраическая задача без применения, где а и b и с и d мертвые буквы и мертвые лица. Скажем окончательно, что если «Горе от ума» творение и не совершенно зрелое, во многих частях не избегающее строжайшей критики, то не менее оно явление весьма замечательное в драматической словесности нашей. По нем должны мы жалеть о ранней утрате писателя, который подавал большие надежды, имел многие весьма разнообразные познания, был одарен умом и пылким и острым и тою гордою независимостию, которая, пренебрегая тропами избитыми, порывается сама проложить следы свои по неиспытанной дороге. В подобных покушениях успех не всегда верен или полон, но и самые покушения сии остаются в памяти народной; признаки движения, они прорезываются неизгладимыми чертами на поприще умственной деятельности, тогда как и самые успехи посредственности, протоптанные по указным следам и затоптанные в свою очередь другими, не отделяются от грунта и друг друга поглощают. Вот почему комедия Грибоедова, в целом не довольно обдуманная, в частях и особенно в слоге часто худо исполненная, остается всегда на виду, а многие другие комедии театра нашего, осмотрительнее соображенные и правильнее написанные, пропадают без вести, не возбудив к себе никакого сочувствия общества. Живой живое и думает; живой живое и любит. В творении Грибоедова нет правильности, но есть жизнь; оно дышит, движется. В других комедиях правильности более, но они автоматы. Может быть, у нас есть еще одна комедия, которую можно не сравнивать, а издалека уподобить комедиям Фонвизина: это «Вести, или Убитой живой», сочинение графа Ростопчина. В ней нет изящной отделки, нет искусства, в ней не пробивается рука художника, но есть русская веселость и довольно верная съемка природы. Не понимаю, почему не имела она успеха на сцене и совершенно упала в первое представление. Вероятно, немногие и читали ее, хотя она и напечатана. Автор «Мыслей вслух на красном крыльце» и так называемых «Афишек 1812 года» заслуживал бы оригинальностью своею более любопытства и внимания.
В. О. Ключевский
«Недоросль» Фонвизина
(Опыт исторического объяснения учебной пьесы)
Добрый дядя Стародум в усадьбе Простаковых, застав свою благонравную племянницу Софью за чтением Фенелонова трактата о воспитании девиц, сказал ей:
– Хорошо. Я не знаю твоей книжки; однако читай ее, читай! Кто написал Телемака, тот пером своим нравов развращать не станет.
Можно ли применить такое суждение к самому Недорослю? Современному воспитателю или воспитательнице трудно уследить за той струей впечатлений, какую вбирают в себя их воспитанники и воспитанницы, читая эту пьесу. Могут ли они с доверчивостью дяди Стародума сказать этим впечатлительным читателям, увидев у них в руках Недоросля: «Хорошо, читайте его, читайте; автор, который устами дяди Стародума высказывает такие прекрасные житейские правила, пером своим нравов развращать не может». Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. Ум, коль он только что ум, самая безделица; прямую цену уму дает благонравие. Главная цель всех знаний человеческих – благонравие. Эти сентенции повторяются уже более ста лет со времени первого представления Недоросля и хотя имеют вид нравоучений, заимствованных из детской прописи, однако до сих пор не наскучили, не стали приторными наперекор меткому наблюдению того же Стародума, что «всечасное употребление некоторых прекрасных слов так нас с ними знакомит, что, выговаривая их, человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует». Но кроме прекрасных мыслей и чувств Стародума, Правдина, Софьи, поучающих прямо своим простым, всем открытым смыслом, в комедии есть еще живые лица с своими страстями, интригами и пороками, которые ставят их в сложные, запутанные положения. Нравственный смысл этих драматических лиц и положений не декламируется громко на сцене, даже не нашептывается из суфлерской будки, а остается за кулисами скрытым режиссером, направляющим ход драмы, слова и поступки действующих лиц. Можно ли ручаться, что глаз восприимчивого молодого наблюдателя доберется до этого смысла разыгрываемых перед ним житейских отношений и это усилие произведет на него надлежащее воспитательное действие, доставит здоровую пищу его эстетическому ощущению и нравственному чувству? Не следует ли стать подле такого читателя или зрителя Недоросля с осторожным комментарием, стать внятным, но не навязчивым суфлером?
Недоросль включается в состав учебной хрестоматии русской литературы и не снят еще с театрального репертуара. Его обыкновенно дают в зимнее каникулярное время, и, когда он появляется на афише, взрослые говорят: это – спектакль для гимназистов и гимназисток. Но и сами взрослые охотно следуют за своими подростками под благовидным прикрытием обязанности проводников и не скучают спектаклем, даже весело вторят шумному смеху своих несовершеннолетних соседей и соседок.
Можно без риска сказать, что Недоросль доселе не утратил значительной доли своей былой художественной власти ни над читателем, ни над зрителем, несмотря ни на свою наивную драматическую постройку, на каждом шагу обнаруживающую нитки, которыми сшита пьеса, ни на устарелый язык, ни на обветшавшие сценические условности екатерининского театра, несмотря даже на разлитую в пьесе душистую мораль оптимистов прошлого века. Эти недостатки покрываются особым вкусом, какой приобрела комедия от времени и которого не чувствовали в ней современники Фонвизина. Эти последние узнавали в ее действующих лицах своих добрых или недобрых знакомых; сцена заставляла их смеяться, негодовать или огорчаться, представляя им в художественном обобщении то, что в конкретной грубости жизни они встречали вокруг себя и даже в себе самих, что входило в их обстановку и строй их жизни, даже в их собственное внутреннее существо, и чистосердечные зрители, вероятно, с горестью повторяли про себя добродушное и умное восклицание Простакова-отца: «Хороши мы!» Мы живем в другой обстановке и в другом житейском складе; те же пороки в нас обнаруживаются иначе. Теперь вокруг себя мы не видим ни Простаковых, ни Скотининых, по крайней мере с их тогдашними обличиями и замашками; мы вправе не узнавать себя в этих неприятных фигурах. Комедия убеждает нас воочию, что такие чудовища могли существовать и некогда существовали действительно, открывает нам их в подлинном первобытном их виде, и это открытие заставляет нас еще более ценить художественную пьесу, которая их увековечила. В наших глазах пьеса утратила свежесть новизны и современности, зато приобрела интерес художественного памятника старины, показывающего, какими понятиями и привычками удобрена та культурная почва, по которой мы ходим и злаками которой питаемся. Этого исторического интереса не могли замечать в комедии современники ее автора: смотря ее, они не видели нас, своих внуков; мы сквозь нее видим их, своих дедов.
Что смешно в Недоросле, и одно ли и то же смешит в нем разные возрасты? Молодежь больше всего смеется, разумеется, над Митрофаном, героем драмы, неистощимым предметом смеха, нарицательным именем смешной несовершеннолетней глупости и учащегося невежества. Но да будет позволено немного заступиться за Митрофана: он слишком засмеян. Правда, он смешон, но не всегда и даже очень редко, именно только в лучшие минуты своей жизни, которые находят на него очень нечасто. В комедии он делает два дела: размышляет, чтобы выпутаться из затруднений, в которые ставит его зоологическая любовь матери, и поступает, выражая в поступках свои обычные чувства. Забавны только его размышления, а поступки – нисколько. По мысли автора, он дурак и должен рассуждать по-дурацки. Тут ничего смешного нет; грешно смеяться над дураком, и кто это делает, тот сам становится достойным предметом своего смеха. Однако на деле Митрофан размышляет по-своему находчиво и умно, только недобросовестно и потому иногда невпопад, размышляет не с целью узнать истину или найти прямой путь для своих поступков, а чтобы только вывернуться из одной неприятности, и потому тотчас попадает в другую, чем и наказывает сам себя за софистическое коварство своей мысли. Это самонаказание и вызывает вполне заслуженный смех. Он забавен, когда, объевшись накануне и для избежания неприятности учиться, он старается преувеличить размеры и дурные следствия своего обжорства, даже подличает перед матерью, чтобы ее разжалобить; но, увертываясь от учителя, он подвергает себя опасности попасть в руки врача, который, разумеется, посадит его на диету, и, чтобы отклонить от себя эту новую напасть, сообразительно отвечает на предложение пугавшейся его болезни матери послать за доктором: «Нет, нет, матушка, я уж лучше сам выздоровлю», – и убегает на голубятню. Он очень забавен со своей оригинальной теорией грамматики, со своим очень бойко и сообразительно изобретенным учением о двери существительной и прилагательной, за каковое изобретение умные взрослые люди, его экзаменовавшие торжественно, с митрофановским остроумием награждают его званием дурака. Но чувства и направляемые ими поступки Митрофана вовсе не смешны, а только гадки. Что смешного в омерзительной жалости, какая проняла объевшегося 16-летнего шалопая – в его тяжелом животном сне – при виде матери, уставшей колотить его отца? Ничего смешного нет и в знаменитой сцене ученья Митрофана, в этом бесподобном, безотрадно печальном квартете бедных учителей, ничему научить не могущих, мамаши, в присутствии учащегося сынка с вязанием в руках ругающейся над ученьем, и разбираемого охотой жениться сынка, в присутствии матери ругающегося над своими учителями?…Если современный педагог так не настроит своего класса, чтобы он не смеялся при чтении этой сцены, значит, такой педагог плохо владеет своим классом, а чтобы он был в состоянии сам разделять смех, об этом страшно и подумать. Для взрослых Митрофан вовсе не смешон; по крайней мере над ним очень опасно смеяться, ибо митрофановская порода мстит своей плодовитостью. Взрослые, прежде чем потешаться над глупостью или пошлостью Митрофана, пусть из глубины ложи представят себе свою настоящую или будущую детскую или взглянут на сидящих тут же, на передних стульях птенцов своих, и налетевшая улыбка мгновенно слетит с легкомысленно веселого лица. Как Митрофан сам себя наказывает за свои сообразительные глупости заслуженными напастями, так и насмешливый современный зритель сценического Митрофана может со временем наказать себя за преждевременный смех не театральными, а настоящими, житейскими и очень горькими слезами. Повторяю, надобно осторожно смеяться над Митрофаном, потому что Митрофаны мало смешны и притом очень мстительны, и мстят они неудержимой размножаемостью и неуловимой проницательностью своей породы, родственной насекомым или микробам.
Да я и не знаю, кто смешон в Недоросле. Г-н Простаков? Он только неумный, совершенно беспомощный бедняга, не без совестливой чуткости и прямоты юродивого, но без капли воли и с жалким до слез избытком трусости, заставляющей его подличать даже перед своим сыном. Тарас Скотинин также мало комичен: в человеке, который сам себя охарактеризовал известным домашним животным, которому сама родная сестрица нежно сказала в глаза, что хорошая свинья ему нужнее жены, для которого свиной хлев заменяет и храм наук, и домашний очаг, – что комичного в этом благородном российском дворянине, который из просветительного соревнования с любимыми животными доцивилизовался до четверенек? Не комична ли сама хозяйка дома, госпожа Простакова, урожденная Скотинина? Это лицо в комедии необыкновенно удачно задуманное психологически и превосходно выдержанное драматически: в продолжение всех пяти актов пьесы с крепколобым, истинно скотининским терпением ни разу она не смигнула с той жестокой физиономии, какую приказал ей держать безжалостный художник во все время неторопливого сеанса, пока рисовал с нее портрет. Зато она и вдвойне некомична: она глупа и труслива, т. е. жалка, – по мужу, как Простакова, безбожна и бесчеловечна, т. е. отвратительна, – по брату, как Скотинина. Она вовсе не располагает к смеху; напротив, при одном виде этой возмутительной озорницы не только у ее забитого мужа, но и у современного зрителя, огражденного от нее целым столетием, начинает мутиться в глазах и колеблется вера в человека, в ближнего.