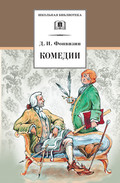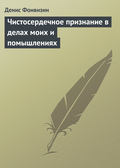Денис Фонвизин
Недоросль (сборник)
Явление V
Советник, Советница, Софья, Добролюбов.
Советник. О Господи! Наказуешь нас по делам нашим. А ты, Софьюшка, за что ты лишилась жениха своего?
Добролюбов. Если ваша воля согласится с желанием нашим, то я, став женихом ее, почту себя за преблагополучного человека.
Советник. Как? Ты, получив уже две тысячи душ, не переменяешь своего намерения?
Добролюбов. Меня ничто на свете не привлечет переменить его.
Советник. И ты, Софьюшка, идти за него согласна?
Софья. Если ваше и матушкино желание не препятствуют тому, то я с радостию хочу быть его женою.
Советница. Я вашему счастию никогда не препятвовала.
Советник. Ежели так, то будьте вы жених и невеста.
Добролюбов (Софье). Желание наше совершается; сколь много я благополучен!
Софья. Я одним тобою могу на свете быть счастлива.
Советник. Будьте вы благополучны, а я за все мои грехи довольно Господом наказан: вот моя геенна!
Советница. Я желаю вам счастливой фортуны, а я до смерти страдать осуждена: вот мой тартар!
Советник (к партеру). Говорят, что с совестью жить худо: а я сам теперь узнал, что жить без совести всего на свете хуже.
Конец комедии
Критика о Д.И. Фонвизине
В. Г. Белинский
…Громозвучные песни Державина были символом могущества, славы и счастия Руси; едкие и остроумные карикатуры Фонвизина были органом понятий и образа мыслей образованнейшего класса людей тогдашнего времени…
Фонвизин был человек с необыкновенным умом и дарованием; но был ли он рожден комиком – на это трудно отвечать утвердительно…
…Его комедии… явились впору и потому имели необыкновенный успех; были выражением господствующего образа мыслей образованных людей и потому нравились. Впрочем, не будучи художественными созданиями в полном смысле этого слова, они все-таки несравненно выше всего, что ни написано у нас по сию пору в сем роде, кроме «Горе от ума», о котором речь впереди. Одно уже это доказывает дарование сего писателя. Прочие его сочинения имеют цену еще, может быть, большую, но и в них он является умным наблюдателем и остроумным писателем, а не художником. Насмешка и шутливость составляют их отличительный характер. Кроме неподдельного дарования, они замечательны еще и по слогу, который очень близко подходит к Карамзинскому; особенно же драгоценны они тем, что заключают в себе многие резкие черты духа того любопытного времени.
…Плохо бы пришлось Фонвизину, если бы она ‹Екатерина II› не смеялась до слез над его «Бригадиром» и «Недорослем»…
«Литературные мечтания», 1834
А. А. Бестужев
Фонвизин в комедиях своих Бригадире и Недоросле в высочайшей степени умел схватить черты народности и, подобно Сервантесу, привесть в игру мелкие страсти деревенского дворянства. Его критические творения будут драгоценными для потомства, как съемок (fassimile) нравов того времени.
«Взгляд на старую и новую словесность в России», 1823
Н. В. Гоголь
…Театр начался у нас так же, как и повсюду, сначала подражаньями; потом стали пробиваться черты оригинальные. В трагедии явились нравственная сила и незнанье человека под условием взятой эпохи и века; в комедии – легкие насмешки над смешными сторонами общества, без взгляда в душу человека. Имена Озерова, Княжнина, Капниста, князя Шаховского, Хмельницкого, Загоскина, А. Писарева помнятся с уваженьем; но все это побледнело перед двумя яркими произведениями: перед комедиями Фонвизина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от ума», которые весьма остроумно назвал князь Вяземский двумя современными трагедиями. В них уже не легкие насмешки над смешными сторонами общества, но раны и болезни нашего общества, тяжелые злоупотребленья внутренние, которые беспощадной силой иронии выставлены в очевидности потрясающей. Обе комедии взяли две разные эпохи. Одна поразила болезни от непросвещения, другая – от дурно понятого просвещенья.
Комедия Фонвизина поражает огрубелое зверство человека, происшедшее от долгого бесчувственного, непотрясаемого застоя в отдаленных углах и захолустьях России. Она выставила так страшно эту кору огрубенья, что в ней почти не узнаешь русского человека. Кто может узнать что-нибудь русское в этом злобном существе, исполненном тиранства, какова Простакова, мучительница крестьян, мужа и всего, кроме своего сына?… Эта безумная любовь к своему детищу есть наша сильная русская любовь, которая в человеке, потерявшем свое достоинство, выразилась в таком извращенном виде, в таком чудном соединении с тиранством, так что, чем более она любит свое дитя, тем более ненавидит все, что не есть ее дитя. Потом характер Скотинина – другой тип огрубения. Его неуклюжая природа, не получив на свою долю никаких сильных и неистовых страстей, обратилась в какую-то более спокойную, в своем роде художественную любовь к скотине, наместо человека: свиньи сделались для него то же, что для любителя искусств картинная галерея. Потом супруг Простаковой – несчастное, убитое существо, в котором и те слабые силы, какие держались, забиты понуканьями жены, – полное притупленье всего! Наконец, сам Митрофан, который, ничего не заключая злобного в своей природе, не имея желанья наносить кому-либо несчастье, становится нечувствительно, с помощью угождений и баловства, тираном всех, и всего более тех, которые его сильней любят, то есть матери и няньки, так что наносить им оскорбление сделалось ему уже наслажденьем. Словом – лица эти как бы уже не русские; трудно даже и узнать в них русские качества, исключая только разве одну Еремеевну да отставного солдата. С ужасом слышишь, что уже на них не подействуешь ни влиянием Церкви, ни обычаями старины, от которых удержалось в них одно пошлое, и только одному железному закону здесь место. Все в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на русское. А между тем нет ничего в ней карикатурного: все взято живьем с природы и проверено знаньем души…
…Обе комедии ‹«Недоросль» и «Горе от ума»› исполняют плохо сценические условия; в сем отношении ничтожная французская пьеса их лучше. Содержание, взятое в интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих. Степень потребности побочных характеров и ролей измерена также не в отношеньи к герою пьесы, но в отношеньи к тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора присутствием своим на сцене, сколько могли собою дорисовать общность всей сатиры. В противном же случае, то есть если бы они выполнили и эти необходимые условия всякого драматического творенья и заставили каждое из лиц, так метко схваченных и постигнутых, изворотиться перед зрителем в живом действии, а не в разговоре, – это были бы два высокие произведения нашего гения. И теперь даже их можно назвать истинно общественными комедиями, и подобного выраженья, сколько мне кажется, не принимала еще комедия ни у одного из народов. Есть следы общественной комедии у древних греков; но Аристофан руководился более личным расположеньем, нападал на злоупотребленья одного какого-нибудь человека и не всегда имел в виду истину; доказательством тому то, что он дерзнул осмеять Сократа. Наши комики двигнулись общественной причиной, а не собственной, восстали не противу одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклоненья всего общества от прямой дороги. Общество сделали они как бы собственным своим телом; огнем негодованья лирического зажглась беспощадная сила их насмешки. Это – продолжение той же брани света со тьмой, внесенной в Россию Петром, которая всякого благородного русского делает уже невольно ратником света…
«В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность», 1846
И. П. Пнин
‹Д. И. Фонвизин›[76]
Кому из соотечественников наших не известны сочинения г. Фон-Визина, сего знаменитого писателя? Писателя, которому по сие время не было еще у нас достойных подражателей, и не знаю, будет ли когда-нибудь – другой Фон-Визин? Напрасно было бы входить мне в подробное исследование превосходных его как театральных, так и других пиитических творений, которые большая часть людей, словесность любящих, знают почти наизусть; и что, кажется мне, не малым уже послужить может доказательством о их достоинствах и изящности. – Кто не согласится со мною, что вообще во всех его сочинениях блистает отличная острота, видны оригинальные черты пылкого воображения, что краски для писания картин, им употребленные, суть самые живые, трогательные и восхитительные; что рассуждения его точны, основательны; слог исполнен приятности, замысловат и плавен; что критики, им учиненные, благоразумны и умеренны? – С каким искусством мог он обнаружить зловредные пороки, обычаи, нравы, общество в его время заражавшие, и, давая, таким образом, во всей силе чувствовать пагубное оных действие, умел, с другой стороны, с отменною привлекательностью, с особенным чувством представить истинные пользы и побуждать к добродетели. – Самая сухая нравственность под пером его имеет свои прелести и занимательна. – К сему можно присовокупить еще, что число переводов его хотя и не велико, однако ж все они прекрасны и не менее доказывают вкус его, как и знание в выборе оных. – Фон-Визина нет более! – Российский театр лишился в нем своего Молиера. Словесность – нужнейшего ей сотрудника, члена, славу ей приносившего. Отечество потеряло в нем верного сына, доброго гражданина. – Его нет более. – Но доколе свет наук будет озарять отечество наше, он всегда будет почтен, и творения его останутся навсегда драгоценным памятником для его читателей.
«Санкт-Петербургский журнал», 1798
П. А. Вяземский
(Из книги «Фон-Визин»)
Глава VIII
Что сказано Лагарпом о Мольере, еще с большею справедливостью может быть у нас применено к Фонвизину: «Похвала писателя заключается в его творениях. Можно сказать, что похвала Мольеру заключается в предшественниках и преемниках его». Поистине, читая Фонвизина, чувствуешь часто недостатки его; читая писавших у нас для комической сцены прежде и после его, удивляешься одному его превосходству. Фонвизин не был решительно драматиком, не был и комиком, даже каков, например, Княжнин; по крайней мере в художественном отношении последний был изобретательнее его в распоряжении, в хозяйственном устройстве комедии. Басня обеих комедий автора нашего слаба и бедна, в картине его есть игривость и яркость, но нет движения: это говорящая картина – и только; но и то говорят в ней не всегда участвующие лица, а часто говорит сам автор. Все это правда; но живое чувство истины, мастерское изображение портретов с натуры, хотя и не во весь рост, удачная съемка русских нравов без примеси красок чуждых или неестественных, свобода и оригинальность, с которою выливается у него комическая фраза, русская веселость, которая должна существовать, как есть русская физиогномия физическая и нравственная, все это образует характер автора и отличительное достоинство его, неоспоримое, неотъемленное. В слоге его есть какое-то движение, какая-то комическая мимика, приспособленные с большим искусством к действующим лицам его. Определить, в чем состоит она, невозможно; но чувство ее постигает.
«Бригадир» более комическая карикатура, нежели комическая картина; но здесь карикатурный отпечаток не признак безвкусия, а выражение ума оригинального: тут есть поэзия веселости. Портретный живописец несколько идеализирует свой подлинник с целью изящною; карикатурный мастер идеализирует свой в смешном и уродливом виде; но и тот и другой не изменяют истине. Дидерот (написавший весьма замечательное рассуждение о драматической поэзии, в котором из-за мрака парадоксов блещут много светлых и смелых истин) сравнивает фарсы с гротесками Кало (Calot), в коих сохранены главные черты человеческого лица. «Не каждому дана возможность, – говорит он, – уродовать таким образом. Если полагают, что гораздо более людей, способных написать Пурсоньяка, нежели Мизантропа, то ошибаются».
Может быть, мысль представить шестидесятилетнего бригадира, влюбившегося нечаянно в советницу, которую узнал он недавно, а советника, также скоропостижно влюбившегося в старую бригадиршу, не совсем правдоподобна: тут есть какая-то симметрия в волокитстве, которая забавна в последствиях своих, но неестественна в начале. Допустим еще грехопадение советника, лицемера и святоши, который насильно выдает дочь свою за сына бригадирши, чтобы по родству чаще видеться с возлюбленною сватьею, хотя и старухою, как значится из дела, но дурачество и поползновение к соблазну бригадира, который выведен на сцену человеком грубым, но довольно благоразумным, кажется, решительно противоречит истине. Зато с какою непринужденною веселостью исполнена эта мысль! Как хорошо явление, где советник, прикрывая грешные желания свои святостию речей, признается бригадирше в любви, а она отвечает ему с простотою, что она церковного-то языка столько же мало смыслит, как и французского, которым, на беду ее, щеголяет сын, недавно возвратившийся из Парижа! Открытие в любви бригадира пред советницею хотя не так оригинально, но в свою очередь забавно. Объяснение же во взаимной любви советницы и бригадирского сынка, жениха падчерицы ее, не только исполнено комической веселости, но и комической истины; оно совершенно в провинциальных нравах, разгадывается на картах и вырывается восклицаниями: «Ты керовая дама!», «Ты трефовый король!» Как живо переносит нас сие явление во времена простосердечного волокитства, которое, не ломая головы над сочинением любовных писем, выражало себя просто симпатическими мастями или конкретными билетцами, писанными Сумароковым для обихода страстных любовников! Жаль нравственности, но всех бледнее и всех скучнее в комедии законная любовь Софьи и Добролюбова, довершающая общую картину нежных склонностей, превративших дом советника в уголок Аркадии. В «Бригадире» в первый раз услышали на сцене нашей язык натуральный, остроумный; вот где Фонвизин является писателем искусным, а не в мнимом высоком слоге, начиненном славянскими выражениями, пред коими так умильно раболепствуют наши критики. В разговоре действующих лиц можно заметить несколько натяжек, несколько эпиграмм, слишком увесистых, не отлетающих от разговора, но брошенных поперек его самим автором. Кое-где встречают шутки, так сказать, слишком заряженные: шутка, слишком туго набитая, как орудие не попадает в цель, разрывается в сторону. Таковы многие из речей, относящихся до Парижа, до несчастия быть русским и тому подобные. Можно заметить некоторые отступления, охлаждающие разговор; так, например, в явлении между советником и дочерью его, вместо того чтобы говорить о предстоящем ей браке, они рассекают смысл слов виноватый и правый. Впрочем, Фонвизин был большой охотник до сей анатомии слов и часто рассекал их мыслью острою и проницательною. Все критические замечания наши подтверждают сказанное выше: Фонвизин не был драматическим творцом, а только писателем комическим, в чем большая разница. Выступая на театр, он не был побуждаем желанием творить, испытывать силы и соображения свои в устроении жребия лиц, коими населял свою сцену. Драматический писатель есть некоторым образом провидение мира, им созданного: он также должен по таинственным путям вести создания свои к цели, оправдывающей предназначения его; должен из противоречий, из сшибок страстей и польз извлечь одно целое, из разногласий согласие, из беспорядков порядок. Фонвизин не имел в виду сих обширных предначертаний: он хотел просто вылить в некоторые из драматических форм частные свои наблюдения, свои мысли о том и о сем, расцветить кистью своею лица, которые встречал в обществе или которые представляло ему воображение, созидая вымышленные образы по чертам и очеркам действительных.
Влияние, произведенное комедиею Фонвизина, можно определить одним указанием: от нее звание бригадира обратилось в смешное нарицание, хотя сам бригадирский чин не смешнее другого. Нарицание пережило даже и самое звание: ныне бригадиров уже нет по табели о рангах, но есть еще род светских староверов, к которым имя сие применяется. Кажется, в Москве бригадирство погребено было смертью одних и почетною метемпсихозою прочих. Петербургские злоязычники называют Москву старою бригадиршею.
В комедии «Недоросль» автор имел уже цель важнейшую: гибельные плоды невежества, худое воспитание и злоупотребления домашней власти выставлены им рукою смелою и раскрашены красками самыми ненавистными. В «Бригадире» автор дурачит порочных и глупцов, язвит их стрелами насмешки; в «Недоросле» он уже не шутит, не смеется, а негодует на порок и клеймит его без пощады: если же и смешит зрителей картиной выведенных злоупотреблений и дурачеств, то и тогда внушаемый им смех не развлекает от впечатлений более глубоких и прискорбных. И в «Бригадире» можно видеть, что погрешности воспитания русского живо поражали автора; но худое воспитание, данное бригадирскому сынку, это полупросвещение, если и есть какое просвещение в поверхностном знании французского языка, в поездке в чужие края без нравственного, приготовительного образования, должны были выделать из него смешного глупца, чем он и есть. Невежество же, в котором рос Митрофанушка, и примеры домашние должны были готовить в нем изверга, какова мать его, Простакова. Именно говорю: изверга, и утверждаю, что в содержании комедии «Недоросль» и в лице Простаковой скрываются все пружины, все лютые страсти, нужные для соображений трагических; разумеется, что трагедия будет не по греческой или по французской классической выкройке, но не менее того развязка может быть трагическая. Как Тартюф Мольера стоит на меже трагедии и комедии, так и Простакова. От авторов зависело ее и его присвоить той или другой области. Характер и личность остались бы те же, но только приноровленные к узаконениям и обычаям, существующим по одну или другую сторону литературной границы. Что можно назвать сущностью драмы «Недоросля»? Домашнее, семейное тиранство Простаковой, содержащей у себя, так сказать, в плену Софью, которую приносит она на жертву корыстолюбию своему, выдавая насильно замуж сперва за брата, а потом за сына. Как характеризована она самим автором? Презлою фуриею, которой адский нрав делает несчастие целого дома. Все прочие лица второстепенны: иные из них совершенно посторонние, другие только примыкают к действию. Автор в начертании картины дал лицам смешное направление; но смешное, хотя у него и на первом плане, не мешает разглядеть гнусное, ненавистное в перспективе. В семействах Простаковых, когда, по несчастию, встречаются они в мире действительности, трагические развязки не редки. Архивы уголовных дел наших могут представить тому многочисленные доказательства. Вот нравственная сторона творения сего, и патриотическая мысль, одушевляющая оное, достойна уважения и признательности! Можно сказать, что подобное исполнение не только хорошее сочинение, но и доброе дело, что, впрочем, можно применить и ко всякому изящному творению, ибо нет сомнения, что оно всегда имеет нравственное действие. Между тем и комическая сторона «Недоросля» не менее удачна. В сей драме заметен один недостаток, уже замеченный выше: недостаток изобретения и неподвижность события. Из сорока явлений, в числе коих несколько довольно длинных, едва ли найдется во всей драме треть, и то коротких, входящих в состав самого действия и развивающихся из него, как из драматического клубка.
Первое действие почти с начала до конца ведено драматически. В трех первых явлениях мастерски выставлен характер Простаковой. Первое явление заключается в нескольких словах, сказанных ею, но они так выразительны, что его можно почесть прекрасным изложением не действия драмы, потому что не оно главное, но главного лица, которому все прочее служит одною обставкою. Разговор ее с портным Тришкою, или, лучше сказать, пожалованным в портные, исполнен комической силы. Веселость автора совершенно приноровлена к лицам; сцена совершенно русская, снятая с природы. Перепалка возражений между госпожою и портным поневоле оживлена драматическим кресчендо и кончается неодолимым возражением его: «Да первой-то портной, может быть, шил хуже и моего!» Поболее таких явлений – и Фонвизин был бы один из остроумнейших комиков. Характер мужа в следующем явлении обрисовывается значительно и резко; за исключением одного двусмыслия (неприличного и слишком площадного), все явление очень хорошо. Вообще все сцены, в которых является Простакова, исполнены жизни и верности, потому что характер ее выдержан до конца с неослабевающим искусством, с неизменяющеюся истиною. Смесь наглости и низости, трусости и злобы, гнусного бесчеловечия ко всем и нежности, равно гнусной, к сыну, при всем том невежество, из коего, как из мутного источника, истекают все сии свойства, согласованы в характере ее живописцем сметливым и наблюдательным. В последних явлениях автор показал еще более искусства и глубокого сердцеведения. Когда Стародум прощает Простакову и она, встав с коленей, восклицает: «Простил! ах, батюшка, простил! Ну, теперь-то дам я зорю канальям своим людям», – тут слышен голос природы. Скупость ее прорывается весьма забавно в сцене, когда Правдин, назначенный от правительства опекуном над деревнею ее, рассчитывается с учителями Митрофанушки. Тут уже не хвастает она, как прежде, познаниями своего сына и невольно говорит Кутейкину: «Да коль пошло на правду, чему ты выучил Митрофанушку?» Но последняя черта довершает полноту картины, сосредоточивая все гибельные плоды злонравия ее и воспитания, данного сыну, лишенная всего, ибо лишилась власти делать зло, она, бросаясь обнимать сына, говорит ему: «Один ты остался у меня, мой сердечный друг Митрофанушка!», а он отвечает ей: «Да отвяжись, матушка, как навязалась!» Признаюсь, в этой черте так много истины, эта истина так прискорбна, почерпнута из такой глубины сердца человеческого, что по невольному движению точно жалеешь о виновной, как при казни преступника, забывая о преступлении, сострадательно вздрагиваешь за несчастного. В начертании характера Простаковой Фонвизин был глубоким исследователем и живописцем. Сказывают, что французский комик Пикар имел привычку излагать в виде романа и приготовительного труда историю главных лиц комедий своих. Этим способом судил он и других комиков. Правило остроумное и полезное! Из того, что видим на сцене, мы коротко знаем Простакову и могли бы начертать полную биографию ее. Не все комические портреты так поучительны и откровенны. У многих наших комиков узнаешь о представленных ими лицах только то, что сказано про них на афишах. Скотинин карикатура: он вроде театральных тиранов классической трагедии и говорит о любви своей к свиньям, как Димитрий Самозванец Сумарокова о любви к злодействам. Но сцена его с Митрофанушкою и Еремеевною очень забавна. Вообще характер мамы, хотя вскользь обозначенный, удивительно верен: в нем много русской холопской оригинальности. Пересказывают со слов самого автора, что, приступая к упомянутому явлению, пошел он гулять, чтобы в прогулке обдумать его. У Мясницких ворот набрел он на драку двух баб, остановился и начал сторожить природу. Возвратясь домой с добычею наблюдений, начертал он явление свое и вместил в него слово «зацепы», подслушанное им на поле битвы. Роль Стародума можно разделить на две части: в первой он решитель действия и развязки, если не содействием, то волею своею; в другой он лицо вставное, нравоучение, подобие хора в древней трагедии. Тут автор выразил несколько истин, изложил несколько мнений своих. В доказательство, что эта часть не идет к делу, напомним, что в представлении многое выкидывается из роли Стародума. Была бы пиеса написана хорошими стихами, то, вероятно, терпение партера не утомилось бы отступлениями; но невыгода Стародума пред древним хором в том, что сей выражается поэзиею лирическою, а тот дидактическою прозою, которая скучна под конец, в прозе должно быть бережливее, несмотря на Дидерота, которому казалось, что на театре можно рассуждать о важнейших нравственных запросах, не вредя быстрому и стремительному ходу драматического действия. Но дело в том, что Дидерот проповедовал в свою пользу: он, как и Фонвизин, был несколько декламатор и любил поучать. Можно еще прибавить, что многое из нравоучений Стародума хотя и весьма справедливо и назидательно, но довольно обыкновенно. Анатомия слов, любимое средство автора, выказывается и здесь. Сцену Стародума с Милоном можно назвать испытанием в курсе практической нравственности и сценою синонимов, в которой, как в словаре, рассекается значение слов неустрашимость и храбрость. Нет сомнения, что в обществе встречаются говоруны или поучители, подобные Стародуму; но правда и то, что они скучны и что от них бегаешь. На сцене они еще скучнее, потому что в театр ездишь для удовольствия, а слушая их, подвергаешься скуке добровольной. Между тем первое явление пятого действия приносит честь и писателю и государю, в царствование коего оно написано. Может быть, заметим еще, что Стародум, разбогатевший в Сибири и нечаянно возвращающийся, чтобы обогатить племянницу свою, сбивается несколько на непременных дядей французской комедии, которые для развязки комической интриги падали из Америки золотым дождем на голову какого-нибудь бедного родственника.