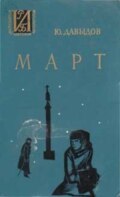Юрий Владимирович Давыдов
Соломенная Сторожка (Две связки писем)
Обряд «шельмования» вершился при мертвой тишине. Я втиснулся между крупами жандармских коней. Палач, манипулируя, то и дело застил Николая Гавриловича; я испытывал какую-то несообразную благодарность к палачу за то, что он не давал мне разглядывать Чернышевского. Я не мучился и будто бы не сострадал ему, все мое существо придавила, сплющила ужасная, непомерная, каменная тяжесть. Если бы началось землетрясение или раскололось небо, я не нашел бы в себе силы шевельнуть пальцем. И вдруг сильно вздрогнул: что-то прошелестело над головой, ударилось о верхний край платформы, брызнув красным и розовым. То был большой букет цветов. Произошло волнение. Некий штатский, цапнув мой локоть, дунул в ухо: «Кто?! Кто бросил?!» – и отпустил, исчез. Я обернулся, увидел бледного, изрытого оспой Якушкина, известного едва ли не всему Питеру писателя-этнографа, двоюродного брата декабриста. Задрав дворницкую бороду, тыча суковатой орясиной в конного жандарма, Павел Иванович издевательски-громко объявил: «Он! Вот этот бросил! Я видел!»
Обряд продолжался. Над головой Чернышевского переломили шпагу. Не Чернышевского шельмовали, а меня, и этого, и того – всех нас, безмолвных, бессильных, послушных, покорных…
Теперь, годы спустя, на другом конце земли, мне предстояло встретить Чернышевского, и я глупо охорашивался.
Капитан стукнул в окошко, я вышел. Боровитинов посмотрел на меня и покачал головой. Напустив строгость, всегда несколько комичную в людях благодушных, стал говорить менторски: ваше, мол, дело санитарное, в приватные разговоры не вступайте, особливо с Чернышевским, он нашего брата не терпит… Я слушал вполуха, чувствуя, однако, ненависть к своему форменному сюртуку с погонами.
Мы миновали мое заведение, маленькую опрятную больницу, почти всегда, слава богу, пустующую, и вышли на квадратную незамещенную площадь, по сторонам которой темнели остроги. У ворот околачивались часовые совсем невоинского вида, без ружей. Было так тихо, что слышалось бормотанье и бульканье речонки, притока Газимура.
Возьмись я сейчас описывать свои первые впечатления, вышла бы неправда. Вышла бы «лестничная храбрость», это когда умное и остроумное выскакивает потом, позже. А на самом деле при первом знакомстве с каторжанами я находился в крайнем смущении и решительно не могу вспомнить, что и как было. Могу только заметить, что Николай Гаврилович, как и предсказывал капитан, держался с холодной скучливостью. Он сильно постарел, лицо изморщинилось, но не было обесцвеченным, как на эшафоте, а было обветренным, хоть большую часть времени он проводил под крышей.
Впоследствии мне случалось беседовать с Николаем Гавриловичем, он спрашивал об академии, о Боткине и Сеченове, о Петербурге. Холодность его умерилась, однако не сменилась, к моему великому огорчению и даже обиде, доверительностью. Он писал и написанное читал соузникам, мне же ни разу не предложил, а я, понятно, не смел спросить.
Голос у него был немного скрипучий, он пришепетывал от недостатка зубов, смех был редкий, нервный, тихий. У него, видимо, было худо с кровообращением, вид был зябкий, он и летом, случалось, набрасывал на плечи овчинный полушубок, а валеные сапоги не снимал. Рацион его ничем не отличался от общего котла, но табак он курил хороший, свертывая длинные, толстые папиросы, кончики пальцев правой руки чуть желтели. Сотоварищи относились к нему бережно, не заикаясь об участии в хозяйственных работах, но он сам принимался за чистку картофеля, а то и за колку дров. Нож и колун не слушались, Николай Гаврилович виновато озирался, на губах блуждала извиняющаяся улыбка.
В обращении он был ровен, вежлив, неизменно покоен, никаких жалоб. А между тем нетрудно вообразить, каково было на душе человека, уже отбывшего срок заключения и все еще находившегося в заключении. Однажды, проходя по двору, я как бы невольно подсмотрел его душевное состояние. Николай Гаврилович сидел у окна, на нем была черная мурмолочка, лицо его, все телоположение, эти опущенные плечи выражали глубокую, невыразимую тоску.
В те июльские дни, когда по сибирскому поверью не обходится без несчастья, к нам в Александровский завод нагрянул генерал-губернатор Синельников; он возвращался в Иркутск из своей дальней ревизии.
И ведь как нагрянул: чистый Суворов – при первых петухах, с подвязанными колокольцами, свиту оставил позади, въехал тишком, никого не потревожив. И тотчас к острогу. А там… Господи твоя воля! Один-разъединственный часовой спал, забор от угла к воротам повалился…
Я не видел, как его высокопревосходительство, бывший некогда главноуправляющим тюрьмами империи, в щепки разносил его высокоблагородие. Синельников, говорят, изволил ногами топать. Адольф Егорович совершенно уничтожился, губы тряслись, руки судорогой сводило, никак по швам не вытягивались. Особенно поразило Длинного генерала то, что «известный Чернышевский» вполне мог воспользоваться беспечностью коменданта: «Вы представляете, полковник, последствия?!?!» И презрительно бросил бедному «дедушке»: совсем, дескать, устарели, да-с. Объявил, что представит военному министру кандидатуру какого-то иркутского полковника, «отличного хозяина».
Мне тоже досталось. Пред грозны очи я предстал, когда Синельников уже несколько поостыл, но все еще был багрово-красен. Противно вспомнить, я не глядел орлом, хотя чего уж мне-то было терять, чего бояться, а ведь трусил, ей-богу, трусил.
Предстал и был спрошен, каковы мои «наблюдения»?
Отделившись несколько месяцев тому от ревизующей своры генерал-губернатора, я получил наказ, данный, впрочем, как просьба, внимательно приглядеться к местным обстоятельствам. Наслышавшись еще в Иркутске о либеральных порывах Длинного генерала, я охотно согласился и, конечно, даже своим неопытным глазом успел кое-что приметить, но теперь, когда Синельников выказал себя таким цербером, я не желал играть роль его лазутчика.
Устыдившись своей трусости, я внезапно обратился в храбреца. Все мои наблюдения, сказал я, – наблюдения врача, командированного Военно-медицинским управлением, заключаются в том, что здоровье государственного преступника Чернышевского требует перемены образа его жизни. И уже в приливе не просто храбрости, а храбрости отчаянной, свойственной людям робким, прибавил, что таковая перемена вполне согласуется с законом, ибо г-н Чернышевский уже отбыл срок тюремного наказания.
– И это все? – аракчеевский выкормыш в упор глядел на меня сквозь толстые стекла своих очков.
Я молчал.
– Ступайте, г-н Кокосов, – ледяным тоном приказал Синельников.
Вероятно, в ту минуту генерал-губернатор и решил, что Карийские остроги вполне подходящий пункт моей дальнейшей службы. Именно туда, на Кару, я и был направлен некоторое время спустя.
Больше я никогда не видел Николая Гавриловича Чернышевского.
Учеников же его и последователей видел не только в Александровском заводе, но и на Каре».
* * *
В записках В. Я. Кокосова нет описания карийской местности. Надо призвать на подмогу давнего, увы, уже покойного товарища – Льва Владимировича Чистякова. Но не только ради топографии… Впрочем, сейчас поймете.
Мы подружились после войны, неподалеку от Котласа, в леспромхозе. Он работал таксатором. Потом, годы спустя, выучился на инженера-лесоустроителя, месяцами пропадал в дальних и трудных экспедициях. Незадолго до смерти отправился в Читинскую область. Оттуда и прислал «отчет», приведенный ниже:
«Итак, вчера совершил экскурсию по местам карийской каторги. На всем протяжении реки горы гальки и песка, покрытые черемухой, ивой, ольхой, таволгой, различными травами. Окрестный лес подвергался длительной рубке, сохранился отдельными клочками и состоит из лиственницы даурской и березы. Дорога идет по берегу реки, затем разветвляется, и часть ее, новая, переваливает через сопку, откуда открывается живописный вид на долину р.Кары. Широкая падь, дно которой заросло лиственными породами, уходит вдаль, а вокруг волнами к горизонту – лесистые горы.
Каторжные тюрьмы располагались в Нижней Каре, Средней и Верхней, на протяжении примерно 65 км. Ближе к Нижней Каре дорога идет мимо фундамента и площадок, заросших сорной растительностью и кустарником. Со мною шел старик старатель (внук ссыльного), рассказывал много интересного. Этот фундамент – остаток тюрьмы. Кстати, местные жители называют этот участок «Политика»: здесь, очевидно, находились политические зеки. В самой Нижней Каре есть еще фундаменты, я определил глазом: 20х40 м. И, наконец, в этой же Нижней Каре есть остатки здания, сложенного из местного плоского камня, стены выкрашены в белый цвет и имеют толщину до метра.
Рядом с Нижней Карой есть кладбище каторжан. Часть приведена в кое-какой порядок, есть ограды и могильные плиты; другая – запущена. На одном месте из камня сложено нечто вроде помоста, на котором лежит чугунная плита, на которой отлито: «Политические каторжане, погибшие в Карийской каторге», а ниже указаны фамилии, дата и причина смерти. Привожу этот список. (Далее следуют имена. – Ю. Д.)
Видишь? Третьим-то по счету – П.Г.Успенский! Вспомнилось, как ты водил меня в Тимирязевку, к малый прудам, – показывал, где эти подлюки скопом одного убивали.
Причина смерти П.Г.Успенского указана: «Повесился». Заела совесть! От нее никуда не денешься!
Возможно, что-нибудь упустил. Напиши, постараюсь восполнить. У нас все хорошо. Скоро приступим к лесным работам в здешней очень глухой тайге. Жара страшная, 30°, а ночи холодные. Если не трудно, пришли две или три фотопленки для «Зоркого» в 65 или 90 единиц. С приветом Лева».
Понятно ль, о каком Успенском речь? Да, да, нечаевец, не раз упомянутый. И вот оно где опять возникает, это имя, – на чугунной плите Карийского кладбища.
Совесть заела? В петлю полез один из убийц Ивана Иванова? Прочитав записки В.Я.Кокосова, убеждаешься, что лгут и могильные плиты.
Предваряя вторую часть его мемуаров, заметим, генерал ли Синельников упек молодого врача служить на каторге со столь выразительным названием, или то было распоряжение Военно-медицинского управления, решать не беремся, но служил там Василий Яковлевич лет десять.
* * *
«Э, батюшка, поздравить не с чем…», «Да-а-а, хорошего мало…», «Мерзость настоящая! Ну да, глядишь, командировка на годик, от силы на два» – так кратко, но многозначительно меня напутствовали в Александровском заводе. И вскоре началась моя карийская одинокая, угрюмая жизнь.
Я поселился при тюремном лазарете, в бывшей родилке для каторжанок. Окна украшали решетки, меблировка состояла из деревянной больничной койки, некрашеного стола и табуреток; чемодан с одеждой (по-здешнему – лопатью) заменял комод. Из окон виднелась наполовину лысая сопка, окрещенная «Арестантской башкой». Изо дня в день, при любой погоде, с девяти вечера до восьми утра выло протяжное: «Слу-у-ша-а-ай…»
В моем заведовании находились пять фельдшеров и 280 лазаретных мест, а на моем попечении – четыре тысячи каторжан, тысяча двести стражников, пеших казаков, да прибавьте офицеров и чиновников с семьями, да прибавьте баб и ребятишек, последовавших на край света за своими бывшими кормильцами. Не много ли на одного медика? И притом, получающего жалкие 15 рублей в месяц, так как содержание от военного ведомства не поступало долгие годы: дело у нас известное – бумаги затерялись.
По прибытии я получил приказание полковника Маркова, возглавлявшего карийскую администрацию, осмотреть санитарное состояние шести острогов.
Острогами назывались гнилые и смрадные постройки, похожие на выгребные ямы, где изнывали каторжные, покрытые мириадами вершковых вшей. Бытие держалось на трех китах: параша, баланда, крошево. Параша и баланда в пояснениях не нуждаются, мы не иностранцы. А крошево – деликатес: слегка засоленные бочки с капустными отбросами, издающими нестерпимую вонь Вообще атмосферу в острогах воздухом назвал бы лишь идиот: CO2 с добавкой острого аммиачного запаха груды человеческого мяса.
Я описал «санитарное состояние» таким, каким увидел. Донесение перебелял фельдшер Меньших, старый карийский служитель, человек отнюдь не злой, но как бы в коросте апатии.
– Господин доктор. – сказал он, – ей-богу, напрасно.
– Что такое, Иван Палыч?
Он пощелкал толстым ногтем по черновику:
– Не понравится, господин доктор.
Я пожал плечами.
– Бог не выдаст, свинья не съест.
– Так-то оно так, да не для нашей Кары… Лучше бы коротенько: «В санитарном отношении тюрьмы удовлетворительны» – и шабаш. А вы эва: хлеб с песком, баланда с мышиным пометом и тараканами, воздуха нет, нары двойные… Напрасно, господин доктор, не понравится.
Несколько дней погодя призывают меня «по делам службы» к полковнику Маркову. Встретив его где-нибудь вне каторги, вы и не подумали бы, что встретили зверя – просто хорошо откормленная низколобая особь. Смерив меня удивленным взглядом, он сказал сердито:
– Па-аслушайте, батенька, эт-то что же такое-с? – И встряхнул двумя пальцами мой рапорт. – Эт-то ж, батенька, ли-те-ра-тура! Я вам приказывал осмотреть тюрьмы, а у вас – ли-те-ра-тура. Черт знает что такое! Да как вы посмели, а? Как посмели-то, объясните!
– Описал то, что есть, господин полковник.
Он вскинулся:
– Прошу не рассуждать! Я хозяин здесь, всему хозяин, а вы меня оскорбляете. Из Читы губернатор приезжал – все хорошо-с, а вы… Ишь ты, без году неделя в службе, а уже туда же, понимаете ли… – Он стал дышать с присвистом. Потом крикнул: – Молчать!
У меня вырвалось:
– А я и молчу, господин полковник.
Он пуще загремел:
– Да знаете ли вы? Да я вас на Сахалин закатаю! Без суда и следствия! Узнаете тогда, как наносить личные оскорбления начальству!
Признаться, мне показалось, что он не вполне нормален. Я еще не сознавал толком, что такое карийская субординация, и потому быстро прослыл человеком неуживчивым и вздорным. Меня приглашали как врача, но вообще-то сторонились и чиновники, и офицеры. Господи, что это была за публика!
Офицеры сводного батальона принадлежали к наихудшим в российской армии. Их выгнали из полков, не вынесли в губернских городах и сочли для них самым подходящим местом службы безответную каторгу, наглухо отрезанную от цивилизации. Тут-то они и выказывали себя во всем блеске: насиловали каторжанок, дрались, пьянствовали до белой горячки, безобразничали, иные, случалось, и верхом в церковь вламывались. И все же были лучше заурядчины, подвизавшейся по гражданской части. Эти офицеры, как правило, не обирали нижних чинов, а, бывало, и делились последним рублем. Крапивное же семя, бывшие ппсаря, бывшие урядники и фельдфебели, поедом ели каторгу, помаленьку высасывая «изрядную копейку» – и на подлогах, и на отчетах, и на каторжанской пайке, и на контрабандной водке, и на скупке золота у вольных старателей. Сказать прямо, вся администрация была форменная уголовщина.
Этой-то форменной уголовщине я и не пришелся ко двору: «Прозябает, нищенствует, жрет черт-те что, курит дрянь, а, гляди-ка, фордыбачит!» Кажется, гордись таким отщепенством, но приплющит, сомнет одиночеством, особенно в долгий, заунывный перелом от осени к зиме, так, ей-ей, и к такой публике потянешься, лишь бы не встать на карачки и не завыть на луну.
А другая уголовщина – по силе жизненных, социальных обстоятельств – эта уголовщина, голодная, оборванная, замордованная, о которой душа-то кровоточила, видела во мне блаженненького: «Не ругается и по сусалам не смажет! Из-за нашего крошева на рожон прет, себе же хуже. А поротого привезут – разрюмится. Смех, да и только». Кажется, гордись сам собой, но такая обида и такое недоумение прожигали, что в бессилье руки ронял. (К «блаженненьким», к «юродивым» каторга, так сказать, простолюдинская, причисляла и государственных преступников, тех, что, по слову Некрасова, за несчастный народ вопияли.)
Над поротыми – «смех, да и только» – я и вправду плакал. Первую экзекуцию никогда не забуду.
Дождливым вечером мы сумерничали с фельдшером Меньших. Пошел нарочный и подал нумерованный конверт. Я вскрыл и прочел: «Предписываю вашему благородию завтрашнего числа, в 2 часа пополудни, присутствовать при наказании плетьми, 60-ю ударами, каторжного Верхне-Карийской тюрьмы Ивана Непомнящего, 57 лет от роду, судившегося за третий побег и кражу со взломом. Наказание плетьми имеет быть произведено в ограде Верхне-Карийской тюрьмы, под наблюдением смотрителя оной губернского секретаря Одинцова».
Я замотал головой: не поеду… не поеду… не поеду…
– Эх, господин доктор, – сказал Иван Павлович, – штука-то, конечно, не кадриль, а надо ехать: закон требует. Умри он при докторе – никакого спросу. А умри он без доктора – вам же и несдобровать. Никуда не денешься, надо ехать.
И верно, деться было некуда.
Шестьдесят ударов, шестьдесят плетей – и каких: Сашкиных, Сашки Жиракова. Однажды он в канцелярии демонстрировал свое мастерство.
– Ну, гляди, Сашка, не оконфузься, – весело приговаривал кто-то из старших чиновников, отмыкая конторку и подавая палачу продолговатый ящик.
Жираков, дюжий верзила, подстриженный в скобку, с красной рожей лабазника, самодовольно ухмылялся. На лицах канцеляристов лежала печать жадного азарта, как в игре, когда вот-вот сорвут банк. Посреди комнаты поставили тяжеленный, на клею и шипах, табурет. Сашка легким, даже как бы и нежным движением извлек из ящика свой «инструмент». То была длинная, круглая, гладкая ручка; к одному концу ее тонкими ремешками прикреплялось железное кольцо; от этого кольца начинался ременный цилиндр, на свободном конце которого тоже поблескивало железное кольцо; от него шли три плетеных хлыста, похожих на нагайки; постепенно утончаясь, они на самом хвостике, диаметром с мизинец, имели что-то вроде твердой, как кость, пуговицы из сыромятной кожи.
– Ну, Сашка!
Жираков двинулся к табурету широким, ровным шагом, бойко, по-петушиному подскочил, размахнулся и ударил – крышка табурета разлетелась вдребезги, ножки треснули и переломились… Зрители ахнули: «Ну, сволочь! Ведь как ляпнул-то, а?!?!» И вдруг будто осели, примолкли, потом кто-то выдохнул: «Не приведи господь…» Сашка Жираков осклабился. Ему дали рубль.
Своя кнутобойная концепция выработалась у этого Сашки Жиракова. Экзекуции он всегда начинал прежестоко. Я как-то спросил: «Неужели тебе не жаль человека, в особенности женщину?» Он взглянул на меня как на несмышленыша. «Вестимо, жаль, ваше благородие. Чай, не скотина. Потому и бьешь попервости без пощады». – «Не понимаю, Жираков, объясни». – «Эк, «не понимаю»… Оченно даже просто, ваше благородие, только вы уж не выдавайте. Не от меня ж, ваше благородие, в зависимости, какую баню задать. Иной начальник отвернется, валяй, мол, как бог на душу положит, а иной… Иной, ваше благородие, остервенится, у него от криков в голове чтой-то лопается. А кровь пробрызнет – и вовсе с кулаками на тебя лезет: «Бей шибче, сукин сын!» Чистая беда, как крик да кровь остервеняют… А мне, ваше благородие, человека завсегда жаль, особливо бабу, ну, я сразу-то и оглушу, чтоб ум вылетел, как из бочки затычка, чтоб в полное, значит, бесчувствие привесть. И вот – молчок, тихо, ни крика, ни стона, ровно чурбан. А дальше уж и мажешь, фальшь задаешь. Тоже и мы люди, ваше благородие, имеем совесть. А ежели б завсегда на всю мочь, на всю силу, так, вот крест, ни единый не выжил бы».
Я не знал, останется ль в живых Иван Непомнящий, 57-ми лет от роду, но знал, что смотритель Одинцов не из жалостливых, не отворачивается.
Около двух пополудни мы с фельдшером Меньших приехали в Верхне-Карийскую тюрьму. В канцелярии уже собралось с десяток чиновников. Смотритель Одинцов, одутловатый господин в сюртуке с желтыми пуговицами, сидел за столом. Черные жесткие волосы топорщились, толстые губы мечтательно улыбались, узкие глаза быстро, как у ящерицы, задергивались веками.
– А, – сказал он басом, – вот и доктор. Здравствуйте, здравствуйте. Э, да и Иван Палыч с вами, ну и отлично, старый воробей, усовершенствованный… Ха-ха-ха, усовершенствованный… А вы, доктор, слыхал, еще и не видывали, как у нас розгачами-то? Комедия, ей-богу. И поучительная, доктор, для этих-то подлецов. Иначе нельзя-с. – Он посмотрел на помощника, плешивого старичка с табачными крошками в усах. – Все ли готово, Алексей Алексеич?
Помощник отвечал утвердительно.
Восемьсот каторжан без шапок стояли на дворе двумя полукружьями. Выло свежо и солнечно. На сизой, обритой половине арестантских голов, казалось, поигрывали тени. Никто не произносил ни слова. Перед пустой скамьей для экзекуции, взяв «на плечо», стояли казаки.
Вывели приговоренного. Он едва волочил ноги. Его лицо искажалось судорогой, синие губы шевелились. Потом он уронил голову, сделался совсем маленьким, совсем стареньким и тоненько вскрикнул: «Не вынести, ох не вынести…» Я почувствовал дурноту, фельдшер незаметно сунул мне склянку с нашатырным спиртом.
Четверо арестантов, товарищи осужденного, выскочили из толпы, подхватили Непомнящего, сволокли халат, растянули на скамье, порты сдернули до колен, рубаху заворотили – все это в мгновение. И привалились грудью – двое на голову и руки, двое на ноги.
Тем же широким, мерным шагом, каким он шел в канцелярии к табурету, палач двинулся к осужденному и, припрыгнув по-петушиному, гаркнул: «Берегись! Ожгу!» Раздался удар. Наперед зная, какая «баня» требуется смотрителю Одинцову, Сашка не вышиб дух из Непомнящего, и тот взвыл пронзительно, тонко, высоко: «О-о-о-о-о…» Три сине-багровых полосы вспухли и засочились кровью на его жалкой, серой плоти. Это тонкое, пронзительно-высокое «о-о-о» зазвенело и отдалось в моей душе криком не здешним, не теперешним, не криком осужденного, а детским, Николушкиным, моего двухлетнего братца… Я все видел, я слышал удары плети и как отсчитывают громко: «Восемь… десять… шестнадцать…» – и в то же время меня словно и не было на дворе Верхне-Карийской тюрьмы. В уме моем неслись несвязно, вперемежку: мужики, схватившие Николеньку, грязь и лужи, блеск церковной луковки на солнышке, и белые льдины на синей речке, и опять мужики, но уже без Николеньки, они отца тащат, рвут на нем рясу… И вдруг выплыл брюхом смотритель Одинцов и – как в колокол: «Ну, доктор, пора выпить и закусить».
Осужденного укладывали на телегу. Фельдшер наклонился над ним. Я подошел, взял руку Непомнящего. Пульс был нитевидный, еле-еле; огромные, дикие, красные, бессмысленные глаза выкачены из орбит; в груди хрипела, урчала и булькала мокрота; губы и горло корежили позывы к рвоте. «Не извольте беспокоиться, я справлюсь», – шепнул Иван Павлович. Телега тронулась, Непомнящего повезли в лазарет, а я покорно, машинально, как деревянный, пошел за смотрителем Одинцовым.
Одинцов жил на холостую ногу. Ему прислуживала ядреная, круглая молодая баба; в каторгу она пришла за убийство мужа. Одинцов щелкнул пальцами, бабенка просыпала бойкий смешок: «Сичас, барин».
Мы выпили, потом еще и еще.
– А что, Петр Петрович, – сказал я, – подлейшее положение у нашего брата?
Он спокойно пожал плечами.
– Чего же тут подлого, доктор? Мерзавец получил по заслугам. Это так, по вашей свежести, а поживете и согласитесь: иначе невозможно. У них, там, – он неопределенно махнул рукой, – за горами, за долами, за морями-океанами, там дело другое, а у нас… – Он рассмеялся.
Не захмелев, совершенно трезвый, я приехал к себе в лазарет поздним вечером. Непомнящий лежал в палате. Пульс был сто сорок, температура выше сорока. Темно-бурая опухоль величиной с подушку была на ощупь горячей и твердой. Он лежал на животе, отворотив вполовину обритую голову с всклоченной бороденкой. Он был в забытьи.
Я отпустил служителя. Горела сальная свеча, вставленная в жестяной фонарь. На дворе раздавалось: «Слу-у-ша-а-ай».
И вдруг в ушах моих опять прозвенело давешнее «о-о-о», и опять примерещился младенец Николушка.
Детство мое, до бурсы, прошло в селе Крестовском, Камышловского уезда: Кокосовы, землеробы и пчеловоды, некогда переселились из Владимирской губернии в Пермскую. Дед и отец, священники, крестьянствовали, как и многие деревенские батюшки.
В какой-то год, еще до Крымской войны, вышло распоряжение о принудительном разведении картофеля. Мужики, государственные крестьяне, решили, что наступает закрепощение, что вот-де уже и указ, «грамота» получена, и кинулись «тормошить начальство». А какое ж начальство было рядышком, как не священник да волостной писарь?
Отец мой с притчем и писарем успели затвориться в церкви. Мужики, бушуя, ворвались в наш дом. Мать прижимала к груди двухлетнего Николушку. Она страшно кричала, рвалась и билась, но мужики выломили из ее рук Николушку, побежали всей толпой к церкви и там принялись хлестать голенького вожжами. Николушка закричал: «О-о-о… О-о-о…» Отец вышел из храма, за ним – другие.
Мужики бросили Николушку, схватили отца, всех схватили и, срывая одежду, поволокли к речке… Был зачин весны, свежо было и солнечно, белые льдины плыли по Крутихе. Отца, и дьячка, и писаря обвязали веревками. Двое иль трое наших соседей переправились на другой берег, волоча за собою конец веревки. Началась расправа. Отца моего, дьячка и писаря поочередно спускали в ледяную воду и тащили к противоположному берегу при дружном крике: «Давай гра-мо-ту! Да-вай гра-мо-ту!» Туда и назад, туда и назад, челноком, челноком. Отогреют в ближней избе и опять, и опять.
Николенька умер в тот же день; отец – через неделю. Осиротев, мы перебрались к деду, в село Песковское.
Все это навсегда оттиснулось в моей детской душе. Но, странно, впоследствии словно бы и заглохло. Помню, хорошо помню, как огорчил меня Некрасов своим стихотворением про наших мужиков времен нашествия Наполеона. Поймали они французов – «отца да мать с тремя щенками»; «тотчас ухлопали мусью, не из фузеи – кулаками!».
Жена давай вопить, стонать;
Рвет волоса, – глядим да тужим!
Жаль стало: топорищем хвать —
И протянулась рядом с мужем!
Глядь: дети! Нет на них лица.
Ломают руки, воют, скачут,
Лепечут – не поймешь словца,
И в голос, бедненькие, плачут.
Слеза прошибла нас, ей-ей!
Как быть? Мы долго толковали,
Пришибли бедных поскорей,
Да вместе всех и закопали…
Поклепом показалась мне эта жалостливая жестокость или, если угодно, жестокая жалостливость. И не потому, что мужики, жалеючи, убивали женщину и детей, а как раз потому, что они вообще убивали. И это мне – свидетелю убиения, двухлетнего младенца. И это мне – свидетелю пыток родного отца…
Каторга – великая школа Правды. Как ни кощунственно, а так. В каторге видишь изнасилованную бабу, напрочь позабывшую все, что с нею приключилось, способную жить и любить. В каторге видишь людей, которые смотрят на смерть как на санитара, убирающего падаль. И видишь то, чего и Некрасов не видел, видишь, что жестокость принимается попросту как реализм обыденной жизни…
Горела сальная свеча в жестяном фонаре. На дворе подвывало, как ветер: «Слу-у-уша-а-ай»». Непомнящий лежал на животе, так же как лежал и там, на дворе Верхне-Карийской, когда четверо товарищей держали его руки и ноги… Я менял компрессы и думал, что вот этот же Непомнящий запорол вожжами моего Николушку, этот же Непомнящий истязал моего отца.
Фельдшер Иван Павлович застал меня в слезах. Я быстро вышел. В своей зарешеченной келье я залпом выпил стакан водки. Уже светало. Сопка, «Арестантская башка», всплыла из сумрака, а ближе красиво и тихо белели березы. Я рухнул на постель и уснул.
Пришибленный и беспомощный, день ото дня все чаще я обращался к испытанному на Руси «средствию». Хуже карийского некуда: на табаке и купоросе.
Поистине светом в оконце было появление людей интеллигентных. Когда-нибудь о каторге политических на Каре напишут томы. Кое-что уже опубликовано периодической печатью. Я же ограничусь краткими заметками, рельефно выделив одну судьбу, одно происшествие.
Скажу сразу: государственные преступники, поступавшие на Кару, представили как бы в миниатюре всю тогдашнюю русскую революцию: и каракозовцы, и ишутинцы, и нечаевцы, а впоследствии и «чистые» пропагандисты, и «чистые» террористы.
Жизнь людей, осужденных за свой альтруизм, за свою преданность народным чаяниям, за свои социальные устремления и мечты, – жизнь этих людей, брошенных в карийскую падь, складывалась, понятно, на иных краеугольных камнях, нежели жизнь каторги уголовной. Зиждилась на началах артельных, пронизанных взаимопомощью и духовностью. Бывали, конечно, и раздоры, и недовольства, и ожесточенность друг на друга, все это неизбежно на тюремной почве, но не они определяли климат политической каторги.
Поначалу политических содержали неподалеку от моего лазарета, на военной гауптвахте. Позже, когда «штат» значительно увеличился, содержали в тюрьмах мужской и женской, но отдельно от уголовных. Образовалась и колония поселенцев, в числе которых были жены и дети государственных преступников.
Одним из первых прибыл на Кару известный нечаевец Петр Гаврилович Успенский. Некоторое время спустя приехала его жена, родная сестра знаменитой Веры Засулич; приехала вместе с малолетним сыном Виктором; ныне он депутат Государственной думы.
Шурочка – буду называть г-жу Успенскую, как называл на Каре, – была не только моим добрым другом, но и помощницей: она окончила акушерские курсы, нашлось ей дело и в каторге.
Ах, жены декабристов, воспетые Некрасовым и почитаемые всей Россией, их участь не сравнить с Шурочкиной. (Между прочим, Успенский говорил, что каторга описана Некрасовым столь красиво, что стороннего человека, пожалуй, потянет в каторгу.) В Шурочкиной судьбе ничего не было романтического, кроме романтического отношения к Революции. Пишу с прописной буквы, дабы передать ту интонацию, с какой русские люди «особенной категории» произносили это французское слово.
После убийства Ивана Иванова Шурочка со своим грудным младенцем долго находилась в тюрьме Третьего отделения. Суд ее оправдал, она последовала за мужем в Сибирь. На диво сложенного возка у нее не было, денег почти не было. Проезжая Иркутск, Шурочка побывала у генерал-губернатора Синельникова: для житья в Нерчинском горном округе требовалось разрешение. Синельников предложил Шурочке место акушерки в столице Восточной Сибири. Шурочка в Иркутске не осталась.
На Каре она терпеливо ждала освобождения своего мужа. Мне кажется, она любила его сильнее, чем он. Его чувство к жене, сдается, питалось благодарностью, и только… Не дождавшись освобождения Петра Гавриловича, Шурочка вернулась в Москву, на Мещанскую, где так часто бывал Нечаев.
В Москве возобновила связи с подпольем, хотя все ее силы и все ее время поглощали заботы о заработке и воспитании сына. Из последних силенок хваталась за все, что ни подвернется. И домашнее тоже лежало на ней: воды натаскай, дрова принеси, стряпай, штопай, шей. Писатель Златовратский рассказывал мне, что с нею познакомился граф Лев Николаевич Толстой. Покивал одобрительно, елозя бородою по блузе: «Какая вы счастливая, у вас есть настоящая работа!» Жаль, что она не тачала сапоги, он нашел бы ее архисчастливой… Некоторое время спустя Златовратский обратился к графу с просьбой помочь Шурочке подыскать любой, самый мизерный заработок, написал, что она с сыном находится в безвыходном материальном положении и удрученном душевном состоянии. Толстой не ответил.