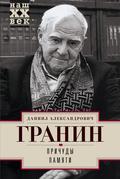Даниил Гранин
Сочинения. Том 1. Эта странная жизнь. Искатели
© Д. А. Гранин, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017
* * *
Даниил Гранин (1919–2017) – известный прозаик, публицист, участник Великой Отечественной войны с первых ее дней до победы – от ополченца до командира роты тяжелых танков. Автор более тридцати романов и документальных сочинений, «Блокадной книги» (совместно с Алесем Адамовичем). Лауреат российских и международных литературных премий, в том числе премии «Большая книга», и многих правительственных наград.
В двухтомнике Даниила Гранина представлены его произведения объединенные темой науки, научных изысканий и нравственного поиска, смысла жизни. В первый том вошли роман «Искатели» и повесть «Эта странная жизнь» о выдающемся биологе А. А. Любищеве.
Наука была последним бастионом честности. Ученый бескорыстен. Он работает в силу своей любознательности. Я что-то нашел, открыл, узнал, внедрил. Тайна природы его волнует, и этому он посвящает свою жизнь.
Даниил Гранин
Даниил Гранин – человек свободы
В двухтомнике, который вы держите в руках, собрано несколько известных произведений Даниила Гранина – «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр» (об ученом Н. В. Тимофееве – Ресовском), «Эта странная жизнь» (о биологе А. А. Любищеве).
Писатель Даниил Александрович Гранин для людей моего поколения – человек-легенда, олицетворяющий эпоху той страны – СССР (родился в 1919 году).
Пробовал перо еще в студенческие годы, но началась война, и выпускник Ленинградского политехнического института ушел на фронт. Всю блокадную зиму он находился в окопах под Пушкином. Закончил войну в Восточной Пруссии. Прошел войну от ополченца до лейтенанта, от Ленинграда до Кенигсберга. Как говорится, отвоевал «от звонка до звонка». Но удивительно, что о войне стал писать не сразу, а по истечении почти шестидесяти лет.
Начал печататься в 1949 году и почти сразу стал, по сути, классиком в отечественной литературе. Изначально в первых своих работах он обращался к жизни послевоенного поколения. Ярким событием стали его произведения «Искатели», «Иду на грозу». В них ему удалось показать творческую интеллигенцию из когорты инженеров. Не сегодняшних «наноискателей», а истинных инженеров, создавших великую промышленность нашей страны, ставшей второй мировой державой в этой области. И в кратчайшие сроки – после кровопролитной войны.
Хорошо бы об этом знала нынешняя молодежь. Отрадно, что в нашей семье с трепетом относятся к истории. Мой сын Владимир, с серебряной медалью окончивший среднюю школу, выпускное сочинение писал по произведению Даниила Гранина «Иду на грозу».
Много лет спустя, ко всеобщей нашей радости, мы познакомились с автором и бережем в библиотеке книгу с его автографом.
Явлением литературной жизни страны стало произведение «Зубр» об ученом Н. В. Тимофееве-Ресовском, чье имя долго было под запретом. Пришедшееся на время перестройки, оно не носило антисоветский характер, как многие «вырвавшиеся из-под цензуры» труды. «Зубр» – философское произведение о науке, смысле жизни. Этот роман, выскажу свою точку зрения, достоин Нобелевской премии.
Потрясением для моего поколения стала «Блокадная книга», написанная Даниилом Граниным совместно с Алесем Адамовичем. В Ленинграде первый секретарь обкома Г. Романов запретил ее издавать. Вышла она в журнале «Новый мир» в 1977 году, с большими купюрами цензоров.
Долгие годы в нашей стране замалчивали подлинную картину этих событий. Упор был сделан на героизацию подвига ленинградцев.
После выхода «Блокадной книги» в «Лениздате» в 1984 году авторов, пожертвовавших малым, долго упрекали за сокращенный вариант, не понимая, что именно Д. Гранин сумел прервать завесу молчания и рассказать миру о страшной трагедии века, которая коснулась и нашей семьи.
Время оказалось милостиво к Даниилу Гранину. В 2014 году 95-летний писатель по приглашению Бундестага выступил в Берлине с беспощадной речью, после которой зал встал и замер.
Даниил Александрович до недавнего времени общался с Ангелой Меркель, во многом не соглашаясь с ней, полемизируя. Он остается великим гражданином своей страны, ни в чем ее не предав и не поступившись своей позицией.
Я, как военный человек, особенно чутко воспринимаю его «лейтенантскую прозу» – «Мой лейтенант» – и мемуарную – «Все было не совсем так».
В романе «Мой лейтенант» девяностолетний писатель посчитал, что пришло его время взглянуть на войну изнутри, из траншей и окопов. На фоне тягот, ужасов и неприглядности войны автор дает возможность выговориться простому лейтенанту. Одному из тех, кому мы обязаны свободой и Победой.
В семьях фронтовиков слышали, наверное, такие вот непричесанные рассказы. Мне довелось узнать о суровой правде войны от тестя – Героя Советского Союза, сапера В. М. Игнатьева. Такие же острота и боль звучали в его рассказах.
А совсем недавно Даниил Александрович написал книгу… о любви. «Она и все остальное» – это искренняя, честная проза, которая многих тронула за живое, как все, написанное Мастером. Внутренняя свобода – качество, любимое автором. Он его исповедовал и в жизни, и в творчестве: будь то роман или документалистика…
Последняя встреча с Даниилом Александровичем Граниным произошла во время Санкт-Петербургской книжной ярмарки, одним из инициаторов которой он был. Он сказал, что пишет новую книгу, книгу о чудесах. И когда я спросил, что это значит, Д. А. пояснил: «Разве не чудо, что я воевал и остался жив, написал столько книг, имею столько друзей…»
Сергей Степашин
Президент Российского книжного союза
Искатели
Глава первая
Дверь распахнулась резко, уверенно, и на пороге лаборатории появился высокий, широкоплечий молодой человек. Голова его немного не доставала до притолоки. Солнце сквозь подмороженные окна било ему прямо в глаза, заставляя прижмуриться: от этого крупные, грубоватые черты его бледного лица обозначились еще резче. Сунув руки в карманы брюк, заправленных в белые бурки, он внимательно и как бы торжественно осматривал лабораторию.
Ветер ворвался за ним, взъерошив его светлые, закинутые назад волосы, помчался дальше, перебирая бумажки на столе у инженера Новикова, вырвав скользкую шумную кальку из рук Лени Морозова, вздувая белыми пузырями оконные занавеси.
Морозов недовольно обернулся и крикнул:
– Закройте дверь! Не лето.
Оба его помощника тоже обернулись. Монтер Петя Зайцев, которого за малый рост все звали Пекой, – с любопытством, старший лаборант Саша Заславский – с досадой. Толстое добродушное лицо его сморщилось, он с силой заскреб свои жесткие курчавые волосы, стараясь восстановить сбитый ход мыслей.
Второй час они испытывали присланный в срочный ремонт осциллограф, разыскивая причину повреждения. Вернее, это был не осциллограф, а сложная осциллографическая схема для специальных измерений. На молочном экране прибора вместо волнистой змейки упорно дрожало размытое зеленое пятно. Саша вздохнул. Разгадка каприза этой проклятой установки была бы вот-вот нащупана – и опять исчезла…
Напротив стенда, где испытывалась установка, за письменным столом работал инженер Новиков. Вошедший не спеша притворил дверь и направился было к нему, но в это время из соседней комнаты появился пожилой сутуловатый мужчина.
– Внимание! – тихо предупредил товарищей Пека Зайцев. – На нас надвигается Кривицкий.
Старшего инженера Кривицкого из-за его острого, злого языка остерегался даже техник Леня Морозов, которого вся молодежь лаборатории считала отчаянным парнем.
– Придется разбирать всю установку, – деловито сказал Морозов, складывая кальку.
– Опять на два дня мороки, – нахмурился Саша. – Неужели нельзя найти порчу не разбирая?
Им осточертел этот ремонт. Не успели кончить одно, хватайся за другое. Полная анархия производства. Следовало бы поставить этот вопрос перед Майей Константиновной.
– Вопрос не прибор, – оборвал их разглагольствования Морозов. – Вопрос простоит долго.
Между тем Кривицкий, задержавшийся возле стола Новикова, вопросительно смотрел на посетителя.
– Могу я видеть товарища Устинову? – спросил тот.
– Майя Константиновна на совещании в месткоме.
– Вы по какому вопросу? – спросил Новиков, откладывая перо. – Из райкома?
– Нет, я… по личному делу.
Он произнес это с заминкой, но спокойно и почему-то весело; в его поведении таилось что-то непохожее на поведение случайного посетителя.
– Разрешите ваш пропуск, – сказал Кривицкий.
– «Лобанов Андрей Николаевич», – прочел он, шевеля тонкими бледными губами, потом показал пропуск Новикову. Нет, эта фамилия им ничего не говорила.
– Вы подождите, – посоветовал Новиков. – Майя Константиновна, вероятно, скоро придет.
Лобанов присел возле столика с надписью «Начальник лаборатории». Столик был стиснут с одной стороны шкафом, с другой – стендом.
– Интересно, как там Майя Константиновна воюет, – сказал Новиков, следя за Лобановым. – На этот раз к нашим показателям не придерешься.
– Показатели – это всего лишь арифметика, – отозвался Кривицкий. На его сухом, вытянутом лице была прочно впаяна желчная усмешка, всегда несколько смущавшая Новикова.
– Вы закоренелый скептик.
– Правдивые слова не бывают приятны, приятные слова не бывают правдивыми, – сказал Кривицкий. – Вы собираетесь когда-нибудь испытывать предохранители?
– Не собираюсь, – с удовольствием ответил Новиков. – Мне поручено составить инструкцию. Это куда приятней, чем без конца испытывать одни и те же предохранители.
– Вас, очевидно, прельщает не сама инструкция, а последняя строка: «Составил инженер Новиков».
– А хотя бы и так, – засмеялся Новиков, сдувая пушинку с рукава своего тщательно отглаженного костюма. – Во всяком случае, это более творческая работа.
Стройный, щеголеватый, он располагал к себе какой-то откровенной беззаботностью. Кривицкий улыбнулся одними губами:
– Вы никогда не открыли бы своего призвания к составлению инструкций, если бы не ваше желание оправдать свое легкомыслие.
Новиков пожал плечами, ему не хотелось продолжать этот рискованный спор в присутствии постороннего. И Новиков, и Кривицкий снова посмотрели на Лобанова. Он сидел, закинув ногу на ногу, не проявляя никаких признаков нетерпения, с интересом прислушивался к перебранке Лени Морозова со своим помощником, к разговору Новикова с Кривицким и внимательно, с каким-то откровенным интересом изучал помещение лаборатории. Новиков тоже огляделся, пытаясь представить себе впечатление постороннего человека от лаборатории.
В этот предвечерний час центральная комната лаборатории должна была показаться особенно красивой. Жаркими красками вспыхивали в закатных лучах зимнего солнца кусочки прозрачно-желтого янтаря, синие копья стрелок, монтажные панели, перевитые огненными жилками красной меди, серебристые столбики конденсаторов. На полках теснились высокие катушки проводов в пестрых шелковых нарядах изоляции. Над ними висели огромные выпрямительные лампы. Их зеркальная поверхность отражала синие квадраты окон с оранжевой лентой заката. Повсюду на приземистых столах лежали еще не ожившие, не связанные мыслью детали. Воздух был пропитан сложной застарелой смесью запахов канифоли, шеллачного спирта, озона, костяного масла. Неповторимый, свой запах для каждой лаборатории.
Новиков мечтательно прищурился, пробуя увидеть и себя среди этой живописной, деловито-внушительной обстановки: молодой, красивый, скромный научный работник, разбросанные по столу бумаги, мучительное творческое раздумье…
Кривицкий рылся в пыльной куче наваленных деталей. Он не видел в них ничего живописного. Просто старый хлам, в котором никогда не найти нужную вещь. И вся лаборатория тесная, неудобная: низкий закопченный потолок, громоздкие устарелые стенды, ветхие неудобные шкафы.
Заметив брезгливую усмешку Кривицкого, Новиков озабоченно взглянул на часы, прошел к столу начальника лаборатории и, присев на край стола, начал звонить по телефону. В лаборатории было шумно. Гудели генераторы, из соседней комнаты доносился визгливый скрежет электродрели. Новиков повторял в трубку:
– Олечка, вы меня слышите? Ровно в девять. Да нет, в девять.
Прикрыв микрофон рукой, он крикнул чубатому пареньку:
– Пека, скажи, чтобы там выключили этот душетерзатель!
Кривицкий подошел к технику:
– Ну, Морозов, как дела?
Морозов задумчиво поправил золоченый зажим вечного пера в кармане кожаной куртки. Очевидно, пробился конденсатор. Придется менять.
Его подручный, лаборант Саша Заславский, сказал:
– Третий раз у них пробивается конденсатор… Может, надо чего-нибудь в схеме переделать?
– «Чего-нибудь», – передразнил его Морозов, – тоже мне мыслитель.
Они заспорили. Кривицкий молчал.
– Прошу прощения, – вдруг обратился к ним Лобанов. Он встал. – Разрешите мне полюбопытствовать?
Морозов нехотя покосился в его сторону:
– Чего тут любопытного?
Лобанов улыбнулся. Улыбка у него была широченная, на все лицо.
– Да просто ручки повертеть.
– Ну повертите, – разрешил Морозов, взглянув на старшего инженера. – Все равно разбирать.
Минуту-другую они наблюдали, как посетитель, прочитывая предварительно надписи на панели, поворачивал рукоятки установки. Зеленое пятно на экране то вытягивалось, то сжималось в маленький яркий зайчик.
– Кстати, это не телевизор, а осциллографическая установка, – ехидно бросил Пека.
– Почему «кстати»? – сухо спросил Лобанов. – Кстати бывает только то, что остроумно. Я думаю, тут мало сменить конденсаторы. Важно выяснить, почему они пробиваются.
Поймав ироническую усмешку Кривицкого, Морозов с преувеличенным уважением спросил:
– Вы, случаем, не конструктор этого осциллографа?
Ребята развеселились. Человек, судя по всему, впервые видит осциллограф и берется указывать тем, кто, можно сказать, зубы съел на этом деле!
– Модест Петрович, – обратился Морозов к старшему инженеру, – так я начинаю разбирать?
Кривицкий кивнул.
– Вряд ли можно назвать такой метод научным, – глядя на Кривицкого, резко сказал Лобанов. Морщины сердитым фонтанчиком поднялись от переносицы по бугристому крутому лбу.
– Видите ли, – медленно начал Кривицкий, поскребывая острый, плохо выбритый подбородок, – мы придерживаемся такого примитивного правила: когда начался пожар, то не время проверять план противопожарных мероприятий.
Морозов громко засмеялся. Лобанов вернулся на свое место, сел и, облокотясь на широко расставленные колени, сцепил руки.
Установку отключили и начали разбирать. Пека, пробегая то с паяльником, то с мотками проводов, не переставал следить за Лобановым.
– Задумался! – с притворным почтением сообщил он приятелям. – Минимум академик.
– Или максимум студент, – откликнулся Морозов.
Люди солидные и занятые, они оценили шутку сдержанными улыбками.
– Либо студент, либо корреспондент, – заключил Пека. – Эти всегда суются не в свое дело.
В комнату быстрым шагом вошла молодая женщина. Чувствовалось, что и гладко зачесанные на пробор волосы, и строгий черный костюм, и эту быструю четкую походку – всё по-молодому добросовестно и искренне вкладывала она в облик начальника, каким он ей представлялся. Но, несмотря на ее старания, этот заданный облик предательски разрушали девичьи припухлые губы и глаза – большие, серые, мягко освещающие ее неяркое, чистое лицо.
– Товарищи, – громко сказала она, – поздравляю вас. Наша лаборатория завоевала первое место и переходящее знамя.
Начав официально и торжественно, она не удержалась, улыбнулась и, улыбнувшись, засмеялась. И все кругом, глядя на нее, тоже засмеялись.
Новиков поспешно закончил телефонный разговор и, повесив трубку, весело потер руки:
– Ай да мы! Колоссально! Майя Константиновна, вы должны выделить энную сумму на банкет.
Пека помчался в мастерскую сообщить новость. Из смежной комнаты, где верещала дрель, подошли еще двое сотрудников.
– Майя Константиновна, тут к вам товарищ, – сказал Саша Заславский.
Его перебили:
– Как там было, расскажите.
– Ну что, Кривицкий, – торжествовал Новиков. – Вот вам!
– Слава, – философски вздохнул Кривицкий. – Слава – это не солнце, а всего лишь тень.
Майя Константиновна строго обернулась к нему, но встретилась глазами с Лобановым и сказала:
– Пожалуйста, простите. Я вас слушаю. – Она села за свой стол. – Там такие страсти разгорелись… Теплотехники заявили… Ах да, простите, – спохватилась она и снова, улыбаясь, повернулась к сотрудникам: – Сейчас я все расскажу, только вот отпущу товарища.
Все посмотрели на Лобанова нетерпеливо и раздосадованно.
– Нет, вы пожалуйста, я подожду, – сказал он.
– Ничего, ничего! Итак, что у вас?
– У меня к вам направление из отдела кадров, – почему-то смущенно сказал Лобанов.
Кривицкий посмотрел на него с особым вниманием.
Лобанов порылся в карманах и, насупясь, явно недовольный тем, что кругом стоят люди, протянул направление Майе Константиновне.
Эти несколько строчек Майя Константиновна читала долго. Постепенно улыбка уходила с ее лица, губы твердо сжимались. Ощущение какой-то тревоги охватило всех. Стало тихо, только из соседней комнаты доносился пронзительный вопль дрели.
– Знакомьтесь, товарищи, – медленно, ровным, без всякого выражения голосом сказала Майя Константиновна. – Новый начальник лаборатории – товарищ Лобанов… – она заглянула в бумажку, – Андрей Николаевич.
Кто-то удивленно и недоверчиво хмыкнул, кто-то протянул «н-н-да-а», кто-то торопливо закурил. Затем наступило долгое, неприятное молчание.
– Пека, – сказала Майя Константиновна, – пойди скажи там, чтобы выключили дрель.
– Майя Константиновна, как же так? А вы… – сбивчиво начал Новиков и покраснел, поняв свою бестактность.
Майя Константиновна с трудом улыбнулась:
– Вы же знаете, я временно исполняла обязанности.
Да, они знали, что Устинова – молодой инженер и что на место начальника подыскивали солидного товарища, но эти разговоры шли так давно, что их перестали принимать всерьез. Устинова работала второй год, и никому в голову не приходило…
– Когда разрешите сдать вам дела? – тем же ровным голосом спросила она, вставая.
Лобанов растерянно оглядел неподвижные лица.
– Я полагал… за вами практически остается руководство. Я пока присмотрюсь…
– Нет уж, – Устинова переложила бумаги на столе, отодвинула направление. – Нет уж, разрешите сдать вам дела завтра.
По мере того как неприязненная решимость Устиновой возрастала, Лобанов словно избавлялся от смущения.
Он медленно поднялся; от краски, недавно заливавшей лицо, только на скулах остался легкий румянец.
– Ну что ж, завтра так завтра. – Секунду-другую они смотрели друг на друга в упор с гордостью несправедливо обиженных людей.
– До свидания, товарищи, – сказал Лобанов.
– До свидания, – ровно прозвучал одинокий голос Майи Константиновны.
Покинув лабораторию, Лобанов поднялся на второй этаж и пошел по одному из длинных коридоров, тянувшихся вдоль огромного здания Управления энергосистемы.
Отечественная война основательно разрушила энергохозяйство города. Никто, даже сами энергетики, не представлял себе, что за какие-нибудь три-четыре года удастся восстановить разбитые котлы, поднять мачты линий передач, исправить подъездные пути, поставить турбины. Подземная кабельная сеть была перебита в тысячах мест снарядами и авиабомбами. Подстанции стояли демонтированные – пустые кирпичные коробки.
Крупнейшие заводы маялись на голодном пайке электроэнергии. В часы пик диспетчер отключал часть предприятий. На каждого жителя полагался свой лимит, энергию получали, как хлеб, по карточкам. Министр лично распределял каждый километр кабеля.
Теперь все это отходило в прошлое. Наиболее мощные станции – Комсомольская, Октябрьская, Лесная, Приозерная – были восстановлены и приняли полную нагрузку. Энергию распределяли еще бережливо, но голод кончился.
Лобанов проходил мимо бесчисленного строя дверей, воссоздавая по надписям масштаб этого огромного учреждения. Из царства теплосети, снабжающей город теплом в бережно изолированных трубах, по которым текли в дома горячая вода и пар, он попал в царство высоковольтных линий. Чтобы многомиллионный город-труженик мог жить, двигаться, работать, – днем и ночью, не умолкая, гудело пламя в топках, шли эшелоны с торфом, углем, по трубам котлов мчался раскаленный пар. На далеких реках билась вода в лопасти турбин. За сотни километров несли ее силу линии передач. Эта незримая сила текла в город со всех сторон, входила в каждый дом, вспыхивала ярким светом лампочек, звучала музыкой в репродукторах. Она оживала голубым лучом в темных залах кинотеатров, вертела станки, двигала трамваи. К ней привыкли, ее не замечали, как не замечает здоровый человек биения своего сердца. Тысячи и тысячи людей участвовали в создании этой силы, распределяли ее, учитывали, следили за ее расходованием и бесперебойным действием.
Здесь, в Управлении, находился мозг всех станций, сетей, строительств, ремонтных заводов – всего сложного, гигантского хозяйства системы.
Сюда приезжали директора предприятий договориться о подключении нового цеха, нового дома. Домашние хозяйки хлопотали о своих счетчиках. Управхозы приходили с жалобами на плохое напряжение.
Из полураскрытых дверей доносился ровный, неумолчный шум сотен голосов, стук пишущих машинок, трезвон телефонов. Впереди по коридору шли две девушки, до Андрея долетел обрывок их разговора:
– …В антракте он меня спрашивает, не помогу ли я им с трансформаторным маслом.
– Вот жук, ради этого пригласил?
– Конечно. Я повернулась и ушла.
– Совсем?
– Как бы не так. Забралась на галерку и досмотрела.
– И куда им столько масла?
– Шутишь – тысяча трансформаторов.
Андрей вдруг представил себе, сколько цистерн масла поглощают аппараты станции. Но тотчас его внимание отвлек очкастый мужчина с толстым портфелем под мышкой. Он громко кричал своему собеседнику:
– В этом районе ни одного магазина! Мы оборудовали его холодильниками. У нас вентиляция!
– Товарищ абонент, в этом районе еще мощности нет, – уныло повторял его собеседник. – Подождите год.
– Смешно. Год! Смешно.
Разговор происходил у двери с надписью «Отдел приключений». Андрей понимал истинный смысл этих слов, но, посмотрев на унылого сотрудника этого отдела, улыбнулся. А жаль, что действительно не существует на свете такого отдела увлекательных, волнующих приключений!
И вдруг эта смешная надпись как-то по-новому осветила и его приход в лабораторию, и путешествие по зданию Управления. Да, и в его жизни началась пора неожиданных, удивительных событий. Начиналась, впрочем, не очень-то удачно, встретили его неприветливо… Того ли он ждал?.. А впрочем, ничего страшного не произошло. Посмотрим, как они будут выглядеть, когда дойдет до дела. Толком в осциллографе разобраться не умеют…
Он шел по высоким сводчатым коридорам, поднимался по лестницам, минуя какие-то залы и застекленные галереи, чувствуя себя уже не гуляющим наблюдателем, а разведчиком. Каждый шаг открывал новое, каждый встречный мог оказаться соратником или противником.
…Вот наконец и технический отдел. Ну что ж, зайдем представиться.