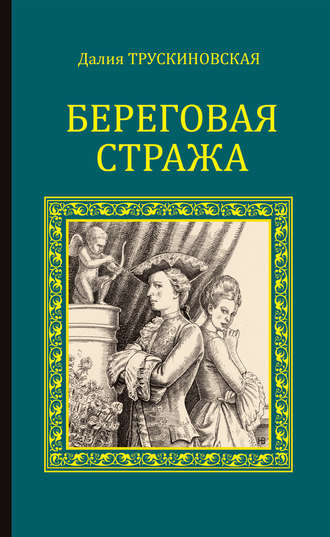
Далия Трускиновская
Береговая стража
– Есть человек один, я с ним свел знакомство в типографии, когда узнавал, кто бы взял мой «Словарь». Он живописец и малюет греческих богинь. Сейчас у него есть хорошие заказы. Он спрашивал – не согласится ли кто из фигуранток позировать, да я сразу сказал – этих не уговоришь.
– Отчего не уговоришь?
– А оттого, что позировать надо нагишом.
– А дорого ли платит? – ни на миг не задумавшись, спросила Федька.
– Платит хорошо – два часа голая у него там посидишь, и рубль – твой. Он почему фигурантку взять хотел – ему тело красивое нужно, а не то что у девок с Сенной…
– Рубль за два часа? – это и впрямь была царская плата.
– Ну, за три, откуда я знаю…
– И что – только сидеть нагишом, ничего больше?
– Он кавалер видный, с ним всякая и без денег пойдет, – уверенно сказал Бориска. – Кабы какой пенек трухлявый вот так заманивал позировать, чтобы в постельку уложить, иное дело. А этому – я чай, незачем.
– Сведи меня к нему, – потребовала Федька, уже прикидывая – не даст ли живописец рублей пять аванса, и тогда уже можно будет вести переговоры со сводней.
Вечером назначена была опера «Мельник – колдун, обманщик и сват», которая также не обошлась без русской пляски. Бориска с Федькой условились сразу после представления ехать к художнику.
Фигурантка сильно волновалась, подмазывая лицо белилами. Надо понравиться, непременно надо понравиться… Жаль, что хорошее платье – дома, а это, зеленое, – обыденное.
– Наташенька, нет ли у тебя ленточки? – спросила Федька, помышляя хоть как-то освежить скромный наряд.
– Бери, душа моя. Постой, я тебе сама завяжу.
И простенькое платье украсилось бойкими розовыми бантиками. Чтобы их не помять, Федька не стала застегивать шубку и побежала вниз.
Бориска стоял у черного хода в плисовой старой шубе и улаживал какой-то груз за пазухой.
– В такое время он уже, поди, дома, – сказал Бориска. – У тебя пятак на извозчика будет?
– Будет.
Извозчики на Карусельной площади не переводились.
И даже полчаса спустя после спектакля там околачивались – ждали господ артистов. Бориске даже не пришлось выбегать на видное место, махать руками.
– К Строгановскому дому, – велел Бориска. – Садись, сударыня.
Они катили по белоснежным улицам, по дороге разговаривая о «Ямщиках на подставе». Федька сама себя занимала разговорами, чтобы не бояться. Слыханное ли дело – сидеть голышом перед мужчиной два часа кряду.
– Стой, стой! – крикнул Бориска извозчику и помог Федьке выбраться из санок. Она оглядела окрестности. Место было незнакомое – да и неудивительно, Федька плохо знала столицу. Дорога от театра до жилья, квартиры товарок, дедово жилище на Васильевском, Невский, не бывать на котором было бы уж вовсе неприлично, Гостиный да Апраксин двор – вот каков был ее Санкт-Петербург. За Невским она знала разве что Зимний дворец да Деревянный театр, куда с товарками ходила смотреть комедии. Но она отметила красоту пейзажа – белые от инея деревья, белый лед внизу – то ли на Мойке, то ли на Фонтанке, Федька не поняла, куда их с Бориской доставил извозчик. Это был точно не Строгановский дворец, а двухэтажный домик во дворе. К нему вела расчищенная дорожка. Бориска пошел первым, Федька – за ним. На крыльце они отряхнули рыхлый снег, Бориска постучал.
Ему открыл служитель, сильно смахивавший на дом, – широкий, немолодой, одетый просто, но в кафтан из хорошего и плотного немаркого сукна, цвета вер-де-гри, и чулках свежих, плотно натянутых, хотя не шелковых, а шерстяных – здешний хозяин заботился о здоровье слуг.
– Барин дома, Григорий Фомич? – спросил Бориска. – Я ему гостью привез, так и скажи.
– Барин уже укладываться собрались, – строго отвечал служитель, – ну да для вашей милости выйдет. Давайте тулуп, я повешу.
Бориска помог Федьке снять шубку – ах, шубка-то старая, как бы живописец не понял, что этой особе можно и гроши заплатить, она к большим деньгам не приучена…
– Пожалуйте в гостиную.
Тут уж Бориска пропустил Федьку вперед, и она вошла, немного робея.
Гостиная была невелика, убрана опрятно, без роскоши – если не считать картины на стенах. Григорий Фомич зажег свечи, водрузил на стол подсвечник и пошел за барином, а Бориска ухватился за раскрытую книжку, горбом вверх лежавшую на диване.
– Гляди-ка, – сказал он Федьке. – Мармонтель, да в русском переводе! Роман «Инки» – ну, это не всякому любопытно. Знаешь, кто такие инки?
Федька не знала – литература у балетных была не в чести, недаром читатель Бориска слыл придурковатым, и чтением для самых образованных служил кургановский «Письмовник» с его краткими, чтобы не утомить читающих, рассказами и повестушками. И ей было безразлично, что где-то в Америке жили какие-то люди чуть ли не до Рождества Христова. Она даже не могла бы показать на глобусе эту самую Америку, хотя не так давно там какая-то страна воевала за свободу, и рассказывали, будто туда поехал драться даже какой-то молодой французский маркиз – дома ему не сиделось… Прозвание маркиза в Федькиной голове застряло, но где-то затерялось, и она пыталась припомнить – видела же и портрет остроносого красавчика с пронзительным взглядом, и имя под ним! – когда в гостиную вошел хозяин дома.
Взгляд у него, строгий и испытующий, был – ни дать ни взять, как у того маркиза.
– Здравствуйте, сударь, простите нам поздний визит, но спектакль совсем недавно окончился, – сказал Бориска. – Вот я привез девицу Бянкину. Сударыня, честь имею представить господина Шапошникова.
Это был мужчина старше тридцати, с простым округлым лицом, кабы отрастил бороду – ни дать ни взять оброчный мужик, пешком пришагавший в столицу на заработки откуда-нибудь из-под Порхова; ростом – выше среднего, сложения – крепкого, танцевать в балет его бы уж точно не взяли. Когда он заговорил, обнаружилась примета – некоторое расстояние между верхними резцами. Федька вспомнила – в уборной толковали о признаках мужской страстности, и эту зубную прореху тоже упоминали. Она посмотрела на живописца с тревогой – вот только его страстности недоставало… Но он ответил ей преспокойным, даже высокомерным взглядом, говорившим: такие, как ты, мне не надобны. Вот и слава богу, подумала Федька.
И тут раздался голос из угла.
– Спр-р-раведливость востор-р-ржествует! – возгласил он.
– Проснулся оратор. Накинь на клетку платок, – сказал господин Шапошников Григорию Фомичу. – Рад знакомству, сударыня.
– Ну, тихо, Цицеронушка, тихо, – забормотал Григорий Фомич, окутывая попугаеву клетку.
– Я также рада, – отвечала Федька и присела.
– Вам господин Надеждин все объяснил?
Федька не сразу вспомнила, что Надеждин – это Бориска.
– Да, сударь.
– Сегодняшний вечер… то, что от него осталось, сударыня, посвятим знакомству. Писать вас при таком освещении решительно невозможно, писать я буду утром. Для обнаженной натуры нужен утренний свет. У меня есть подходящая комната.
– Утром я не могу, репетиция, – печально сказала Федька.
– А ты скажись больной, – посоветовал Бориска. – У вас, у женщин, есть известная хворь – не побежит же Вебер к тебе домой проверять!
– Сегодня я могу вас посмотреть и сказать, подходите ли вы мне. Григорий, отведи ее милость в палевую комнатку, пусть приготовится.
– Как приготовится? – спросила ошарашенная Федька.
– Вам придется раздеться, сударыня. Я хочу быть благонадежен, что вы мне подходите.
– Я не смогу одна.
И это было чистой правдой – чтобы скоро управиться со шнурованьем, требовалась помощь.
– У меня в хозяйстве женщин нет. Господин Надеждин, вас не затруднит? – сохраняя высокомерное выражение лица, полюбопытствовал Шапошников. Федька поняла – Бориска, рассказывая, изобразил ее своей любовницей. Сперва стало неловко, а потом – наступило известное ей ледяное состояние: пропади все пропадом, мне от этого человека нужны деньги, и я их заработаю. Что он при этом обо мне будет думать – не моя печаль!
Именно в таком состоянии она разучивала антраша-сиз и пируэты – плевать, что не дадут выбиться в первые дансерки, плевать, что ее турдефорсы оценят лишь товарки в зале, заноски в антраша будут четкими и спина в пируэтах – как струна, прочее – неважно.
Палевая комнатка оправдывала название – обои в ней были соломенные, нежного цвета, со скромной вышивкой, и Федька подумала – без женщины не обошлось. Кроме обоев имелись кровать, стул, старый комод и туалетный столик. Видимо, здесь обитали гости.
– Повернись-ка, – сказал Бориска и поставил подсвечник на туалетный столик.
Господин Шапошников в гостиной меж тем приказывал Григорию Фомичу зажечь еще свечи.
Федька, расшнуровавшись, разделась быстро – театральное ремесло приучает к скорому обхождению с одежками, и когда за пять минут нужно преобразиться из вакханок в пейзанки – осваиваешь сие искусство, иначе все жалованье уйдет на штрафы.
Она осталась в одной сорочке и в чулках. Тут вдруг сделалось неловко.
– Хочешь, я отвернусь? – спросил Бориска. – Или ты ступай, а я тут останусь?
– Нет.
Она сдернула и сорочку, и чулки, босиком вышла в гостиную. Господин Шапошников ждал ее с подсвечником в руке. Несколько мгновений оба молчали.
– Благодарю, – холодно сказал господин Шапошников. – Повернитесь.
– Тут следы от подвязок… они пройдут!..
– Благодарю. Ваше тело мне подходит. У вас хорошая линия бедер и лядвей, талия весьма достойная, грудь охотницы Дианы, это прекрасно. Ступайте, одевайтесь, можете не шнуроваться.
– Отчего?
– Я предлагаю вам переночевать здесь, чтобы с утра вы были свежей и не беспокоились о подвязках. Все потребное у меня есть – Григорий принесет дамский шлафрок и большую шаль, утром я пошлю его в Гостиный двор, коли что понадобится.
Федьке было неловко глядеть в лицо господину Шапошникову, она смотрела на его туфли – новые, с модными стальными пряжками, и стоял господин Шапошников именно так, как учат балетных танцовщиков, – почти в третьей позиции, носками врозь.
Уж в чем, в чем, а в ногах Федька разбиралась. Если бы мужская часть труппы высунула из-за нарочно изготовленного занавеса голые ноги, она бы точно сказала: вот эти, с удлиненной узкой стопой и высоким подъемом, – румянцевские; эти, по-женски гладкие, с худеньким коленом, – Борискины; эти, слишком тонкие, но в колене красиво выгнутые, – Трофима Шляпкина. Господин Шапошников имел ноги крепкие, с отчетливо вылепленными икрами, и на вид – очень сильные.
Ладно, подумала Федька, ты на мои ноги таращишься, я на твои ноги таращусь, вот мы и квиты.
– Да ступайте же! – господин Шапошников несколько повысил голос. – Я живу без роскоши, но чай и пряники могу предложить. Насколько знаю, танцовщики ужинают поздно.
Федька, почему-то пятясь, вошла в палевую комнатку.
– Ну что? – спросил Бориска.
– Там мне шлафрок и большую шаль обещали, принеси, – ответила Федька, решив, что шнуроваться уже незачем. Накинув сорочку, она села к зеркалу. Свет двух сальных свечек был именно таков, как требовалось, – скрывал недостатки лица. А то, что грудь, как у Дианы-охотницы, она знала – видела картины, когда вызывалась для танцев в Эрмитажный театр. Только ей всегда казалось, что это не очень хорошо – грудь у красавицы должна быть пухленькая, пышная.
– Он доволен?
– Да. Только как бы вперед денег взять? Потолкуй с ним, Христа ради. Ты же знаешь, на что деньги нужны.
– Ты, матушка, дурью маешься.
– Не твоя печаль.
Бориска вышел и принес шлафрок – не шитый золотом, а просто теплый, темно-синий, очень широкий. Минуту спустя появился Григорий Фомич. К удивлению Федьки, он и маленький чепчик достал из комода. Видимо, какая-то молодая толстушка в этом доме бывала, отчего бы нет – господин Шапошников кавалер изрядный.
Когда сели за стол, выяснилось, что Бориска принес за пазухой. Это были исписанные листы, среди которых помещалась толстенькая книжица.
– Опять совета жаждешь? – спросил Шапошников, глядя на бумаги, выложенные между блюдом с нарезанным холодным мясом и другим блюдом с немецкими сосисками (пряники оказались выдумкой хорошего хозяина, у коего в любое время сыщется, чем гостей попотчевать).
– Жажду, Дмитрий Иванович.
– Замысел твой мне приятен, только проку от него будет мало. Ты ведь пишешь про тот нелепый балет, который у нас сейчас имеется, а надо бы написать про иной – который должен быть. В котором никто не выйдет на сцену плясать в маске. То бишь – исправлять нравы обращением к идеалу. Угощайтесь, сударыня, сейчас поспеет чай.
– Но есть персонажи, которые требуют масок – это фурии, тритоны, ветры, фавны. Какой же тритон с человеческим лицом? – спросил Бориска.
– А отчего бы нет? – вопросом же отвечал Шапошников. – Мир изображался в виде вставшей дыбом географической карты, и его одежды украшались большими надписями – на груди «Галлия», на животе – «Германия», на ноге – «Италия», и наше счастье, что в Парижской опере смутно представляли себе, что есть Россия, – страшно подумать, куда бы они ее поместили. Или вот Музыка – она являлась в кафтане, исчерченном нотными линейками, и со скрипичным ключом на голове. Это были аллегории, достойные того века, но для нас они грубы. Если выйдет красивая девушка с лирой в руках – мы поймем, что это Музыка, и без скрипичного ключа. Мы поумнели, сударь!
– Откуда вам все сие известно? – удивился Бориска.
– Я читал «Письма» господина Новерра.
– Вон оно что… И я из них куски беру… Но погодите! – воскликнул Бориска. – Маски в большом театре необходимы! Для тех, кто смотрит балет с галерей! И не знает его содержания! Когда танцовщики в масках зеленых или серебристых – то они тритоны. Когда в огненных – демоны! В коричневых – фавны! Маски нужны для ролей маловыразительных! Что выражает Ветер кроме силы стихии? Он же ничего не говорит пантомимически, он лишь крутится и проделывает турдефорсы! И он не может держать все время щеки надутыми – как же без этих щек публика догадается, что он – Ветер?
– Есть еще одна причина сохранить маски, сударь, – добавила Федька. – Вы не видали наших танцовщиков в зале на репетициях, а я видала и знаю, какие они корчат рожи, выполняя трудное движение. Уж лучше маски, чем эти страшные рожи, ей-богу!
– Я рож не корчу! – возразил Бориска.
Федька хотела ответить язвительно: ну так ты и турдефорсов не проделываешь. Но пожалела приятеля. Да и какие турдефорсы у береговой стражи? Ей блистать не приходится – это первый дансер должен проделать пируэт в семь оборотов или двойной кабриоль, да чтобы ноги после каждого удара икрой об икру раскрывались четко, внятно, а береговая стража, коли сделает разом и в лад антраша-катр, то и отлично.
– Это аргумент, – согласился Шапошников. – Возражать не смею. Но я заметил любопытную вещь – при турдефорсах корчат рожи мужчины, женщины же умудряются удерживать на устах улыбку. Выходит, сие возможно, и рожи – всего лишь от неумения и распущенности.
– Женские проще и легче мужских, сударь, – возразила Федька. – На сцене женщины делают антраша с четырьмя заносками (она показала руками, как обычно показывают танцмейстеры, скрещение в воздухе натянутых стоп), а у мужчин – шесть, у виртуозов – восемь. Женщины лишь недавно стали делать пируэты, у нас в труппе двойной делают только госпожи Казасси и Бонафини, но не очень хорошо. И еще я, недавно выучилась. А у мужчин – пируэт в шесть и в семь оборотов, того гляди, за кулисы улетишь или в декорацию уткнешься.
– А еще? – господин Шапошников, видимо, забавлялся Федькиным азартом.
– Еще кабриоль. Сделать простой кабриоль вперед нетрудно, это и вы, сударь, сможете. Главное – после удара четко раскрыть ноги. Кабриоль у нас все девицы делают, и вперед, и назад. А двойной – только мужчины, и не все.
Тут же память представила Саньку, который учился делать двойной кабриоль, но получалась какая-то мазня.
– Да что ты, сударыня, про такие скучные предметы заговорила! – не выдержал Бориска.
– Вы любите танцевать? – спросил Федьку господин Шапошников.
– Это мое ремесло.
– Ремеслом и из-под палки занимаются. Танцевать вы любите, сударыня?
– Да, – подумав, ответила Федька. В конце концов, что у нее в жизни было?
Стоило выходить на сцену хотя бы ради того, чтобы перед тобой там преклоняли колено, почтительно брали за руку, заглядывали в лицо умильно или страстно. Только на сцене Федька и ощущала себя женщиной…
– Но вы ведь в береговой страже состоите?
– У меня нет покровителя.
– Это плохо?
Федька вспомнила толстого откупщика, которого подцепила Анюта Платова.
– Нет, это не плохо, – ответила она строптиво. – Я на хорошем счету, а что будет дальше – ну… как Бог даст…
– Вы избрали своим покровителем Бога?
– Ну… Да.
На самом деле Федька не была великой молитвенницей – да и театр располагает не столько к истовой вере, сколько к тысяче суеверий. За попытку насвистеть танцевальный мотив могли и прибить – свист к большой беде, к провалу премьеры, к плохим сборам. Все крестились перед выходом на сцену – и почти все заводили интриги, мало беспокоясь о венчании.
– Это хорошо, – сказал господин Шапошников. – Этот не подведет.
Глава пятая
Молодая женщина, сидя у туалетного столика, готовилась отойти ко сну. На ней поверх вышитой ночной сорочки был алый бархатный шлафрок, и она смотрела в зеркало – наблюдала, как горничная девка надевает ей пышный, отделанный дорогим кружевом, батистовый чепчик, и улаживает под него густые русые волосы, накрученные на папильотки.
– Не так, назад сдвинь, – приказала она. – Вот дура… еще… Ну что за дура. Пошла вон. Ты, мамзель, бери книжку, читай. Так, глядишь, продержимся, пока мой не приедет.
В зеркале отражалось правильное лицо, почти идеальное – но идеал был рукотворным. Чуть-чуть румян в нужных местах, чуть-чуть сурьмы, а главное – мраморная неподвижность. Лицу не позволялись даже улыбки – а не то что гримасы. Оно было вышколенным, это удлиненное лицо, и женщина привыкла сдерживать те чувства, что чреваты морщинами.
Поэтому кавалеры, глядя на ее красоту, дали бы ей от силы двадцать пять, а дамы не пожалели и тридцати, даже тридцати двух.
Часы в гостиной пробили полночь.
Чтица, несмотря на поздний час, одетая, как для визитов, и зашнурованная, взяла две книжки – на выбор.
– Изволите русскую или французскую? – спросила она.
– Какая у нас русская?
– «Душеньку» в прошлый раз приказывали читать, сочинение Богдановича.
– Нет, сон нагонит. Нет ли чего новенького? Сказывали, ты днем сидела, в тетрадку что-то списывала.
– Новую стихотворную сказку господина Княжнина, сударыня, про попугая. Принесли на два часа.
– И что, долгая?
– Долгая, сударыня, и пресмешная. Войдет в большую моду.
– Неси тетрадку. Хоть повеселиться…
Девка, которая еще не убралась, помогла хозяйке лечь, подмостила ей под локоток и под шейку подушки, укрыла одеялом, и тогда только, поклонившись в пояс, ушла.
Чтица села на стул у постели и поднесла тетрадь близко к лицу.
– Не дура ль ты, мамзель? Ведь ослепнешь когда-нибудь. Возьми другую свечку.
Сказка была не совсем для дамского чтения – о том, как попугай, воспитанный богомольной старушкой, нахватался неудобь сказуемых словечек, и что из этого получилось. Но дама, лежавшая в постели, одобрительно кивала. Смеяться она не желала, а чтица уж привыкла к такой причуде.
Читала она внятно, выразительно, меняя голос всякий раз, когда говорила за старушку, ее дочку, ее сынка-повесу и самого главного героя – речистого Жако. Тут в дверь спальни поскреблись, и девка в щелку доложила, что прибыл барин.
– Ступай, мамзель, пройди через гардеробную, – приказала дама. – Завтра поедешь со мной по лавкам.
Это была награда – закупая себе лент, кружев, пряжек, пуговиц и чулок, дама обычно делала подарки той, которая была звана с собой. А прислуга в доме жила достойная: кроме чтицы учительница музыки и пения, француженка-куаферша, компаньонка Марья Дормидонтовна, знавшая чуть не сотню пасьянсов, компаньонка фрау Киссель, умевшая раскладывать карты на все случаи жизни, от пропажи до бракосочетаний. И все эти женщины имели горничных – хотя бы одну на двоих, и все должны были одеваться по моде, чтобы не позорить хозяйку. Что касается фрау Киссель, то от нее особого блеска не требовалось – фрау под шестьдесят, но чтице приходилось модничать не на шутку, а она была пухленькая и всякий раз, утягиваясь, маялась.
Сделав глубокий реверанс, чтица ушла, а ее хозяйка легла пособлазнительнее – выложила на подушку большую полуобнаженную грудь. Она прислушивалась, услышала шаги, немного подалась вперед – как если бы проснулась и затеяла вставать.
Дверь отворилась, вошел мужчина, стягивая на ходу фрак.
– Ну, наконец-то, душа моя, – сказала она. – Я заждалась, еще немного – и уснула бы. Ступай сюда…
– Погоди, Лизанька. У нас…
– Не могу. Ступай ко мне! Я весь вечер думала о тебе, беспокоилась, что обидела, и уж не знала, как вымолить прощение!
– Ты дурочка, – ответил мужчина. – Как я могу на тебя обижаться? Так вот…
– А что ты удивляешься? Когда кто кого любит, то всегда беспокоится, как бы не обидеть. Я за тебя по любви шла! И знаешь ли – я слыхала, что у всех, когда десять лет вместе проживут, любви не остается вовсе, муж на своей половине спит, жена – на своей, и в гости не ходят. У всех! А мне – так кажется, что в тот день, когда ты захочешь в другой постели ночевать, у меня сердце остановится! Право, право! Послушай, как бьется!
Рука легла на грудь и была еще для пущей надежности прижата.
– Да погоди ты, Лиза, не могу же я лезть в постель в туфлях! Выслушай же меня!
– Давай я тебе расстегну!
– Лежи, лежи… ты под одеялом угрелась…
– Я тебе местечко грела. Потуши свечку!
Минуту спустя мужчина был уже в постели, и началась та самая игра, которой хотела женщина. Однако была она недолгой.
– Как хорошо, – прошептала женщина. – Знаешь, душа моя, чего я боюсь? Что ты когда-нибудь соблазнишься молодой девкой. А я ей уж буду не соперница…
– Ты вздор городишь, Лиза. На что мне девки? Когда есть жена?
– Так годы не красят, а мужчины очень хорошо видят, когда женщина стареет. Поцелуй меня!
– Вот тебе – а теперь послушай меня наконец, я дело скажу.
– Говори, светик.
– Мы от дансерки избавились.
– Как? – воскликнула женщина. – Не может быть!
– Еще как может. Сегодня весь город о том только кричит, что ее нашли удавленной в театре.
– И кто удавил?
– Не твое дело. Каким-то непостижимым образом и формальный убийца у нас есть – фигурант, который за ней махал и от того умом повредился.
– Как славно! А что Ухтомский?
– Еще не давал о себе знать. Не удивлюсь, коли он еще не слыхал…
– Ох, Николенька, что будет…
– Пожалей его, пожалей…
– И пожалею. Каково это, когда любишь?..
– Так кто ж мешал любить-то? Люби, сделай милость! Хоть вовсе у нее поселись! У всех дансерок покровители имеются – эта, чем лучше? Так нет – душа у нее чувствительная! Вот ей эти сантименты господина Ухтомского и вышли боком.
– И я чувствительна, мой друг…
– От твоей чувствительности никому вреда нет, а она чуть большую беду не устроила.
– Душа моя, как это было?
– Тебе про то знать незачем. Спи, Лиза. Ты уж молилась на ночь?
– Да, конечно…
– Так и спи.
Сам он заснул скоро, а Лиза, отодвинувшись к самой стенке, смотрела на лицо с приоткрытым ртом – лицо много повидавшего пятидесятилетнего мужчины, уже не очень здорового, склонного и к выпивке, и к обжорству. Если он и был смолоду хорош собой, то теперь преждевременно сделался по-стариковски зауряден. Лиза хмурилась – уж который раз она не получила того, что было ей необходимо.
– Ничего, голубчик, ничего… – прошептала она. – Дай срок…
Выбравшись из постели, Лиза на ощупь подошла к двери гардеробной. Там обыкновенно спала девка, чтобы при первом зове поспешить в спальню. Ее войлочный тюфячок лежал у самой стены. Лиза от домоправительницы Настасьи Ивановны знала, кто из сенных девок дрыхнет без задних ног, тех на дежурство в гардеробной и велела ставить. Незачем им при каждом шорохе просыпаться и подслушивать, а коли понадобится – у кровати на столике, возле подсвечника стоит колокольчик – да и не просто колокольчик, а целая судовая рында – мертвого из гроба подымет.
Не первый раз в потемках через гардеробную было хожено – Лиза проскочила быстро и бесшумно.
Самое неприятное, что ей предстояло, – перебежать через двор. Зимней ночью, в одном шлафроке и комнатных туфлях на босу ногу, в батистовом чепчике – это было опасно, не свалиться бы наутро в жару. Лиза постояла на поварне у остывающей печи, словно набирая впрок тепла, отодвинула засов на двери, выскочила и понеслась по расчищенной дорожке.
Конюхи жили во флигеле. Николенька лошадей любил и холил, выписал для них англичанина берейтора, тот приехал с помощником, а для черной работы имелись свои люди – вчетвером справлялись.
Кучер Фролка был балованный – его наряжали, посылали ему угощенье с барского стола, поселили в отдельной комнатушке. Один был запрет – жениться, оговоренный между ним и хозяйкой втихомолку. К нему-то Лиза и спешила.
Зная причуды барыни, он дверь не запирал. Как обыкновенно бывало, она ворвалась и сразу полезла под одеяло. Ни единого слова не сказала – да и какие слова, когда все ясно. И ласк не требовала – и без них была горяча.
Фролка, детина здоровенный, экипирован был знатно и силу имел великую – Лизе, пожалуй, так много и не требовалось. Ее раздражение после амурной возни с супругом кучер устранил без затруднений – и теперь она была совершенно довольна. Потом молча отдыхала – говорить тут было не о чем, да Фролка и побаивался: сморозишь чушь, рассердишь барыню, перестанет жаловать своей милостью.
Заговорил он, когда Лиза собралась уходить.
– Матушка-барыня, что тебе по снегу ножки морозить. Прикажи – в охапке до двери донесу.
– Донеси, – позволила она.
И когда ехала, обхватив Фролку за шею, тихонько засмеялась, что делала она редко. А потом запела.
Это была странная песня, кучеру неизвестная, однако не задавать же барыне вопросы.
– Лиха беда начало, лиха беда начало, – пела Лиза на мотив модной песенки. – Лиха беда начало.
Фролка поставил ее на крыльцо, она похлопала его по плечу, как верховую лошадь по шее после хорошей прогулки. И кучер, премного довольный, побежал обратно, а Лиза вошла в поварню и задвинула дверной засов.
Там опять постояла у печки, собралась с духом и пошла в спальню.
По дороге Лиза, видать, вела какие-то умственные подсчеты, потому что, оказавшись у постели и поглядев на супруга (он с головой забрался под одеяло и свернулся, так что виден был какой-то смутный неровный сугроб), сказала:
– А тебе, батюшка мой, быть четвертым.
Если бы Лиза в тот миг не стала карабкаться на постель, а подошла к окошку и отворила его, да еще имела нечеловечески острое зрение, то увидела бы летящую стрелу, что наискосок пересекла по воздуху курдоннер перед парадным входом и по рассчитанной пологой дуге ушла за высокий забор, к Фонтанке.
Рано утром по ту сторону забора появился человек в светлом тулупе, такой же шапке и с потайным фонарем, закутанным в полотенце. Этот человек медленно шел по пустынному пространству между участком, который занимал особняк Лисицыных, и рекой.
Он старательно изучал великолепные сугробы напротив забора. Каждое сомнительное пятно освещалось на краткий миг. Так была найдена веревочка. Потянув за нее, человек вытащил из снега стрелу. За углом его ждали санки, и он укатил.
Утром Лиза и ее супруг занялись каждый своим делом. Обсуждать при слугах историю с дансеркой они не стали – да и незачем. Супруг, Николай Петрович Лисицын, позавтракав, пошел в кабинет отвечать на письма и ждать поверенного – он впутался в заковыристый судебный процесс, отнимавший прорву времени и денег, из-за сомнительных прав на две деревеньки под Саратовом. Лиза приказала закладывать сани, чтобы, как было договорено, ехать по лавкам и к мужниной родне.
Идя к сеням, Лиза увидела склонившегося в поклоне Матвеича и улыбнулась. То, что Матвеич в доме, – хороший знак. Значит, дело, к которому наконец удалось приступить, продвигается, и он мужу принес новые сведения. Матвеич, правда, бескорыстием не мается, в его годы оно и смешно, однако лучше заплатить ему сто, двести, триста рублей – и потом получить многие тысячи. Если бы только можно было отдавать ему приказы напрямую, минуя тугодумную голову супруга… он догадлив, одна беда – слишком высоко ценит некую давнюю услугу…
Матвеич выпрямился, взоры встретились.
– Я к тебе благосклонна, – без слов сказала Лиза. – Ценю твое усердие. Потрудись – и я тебя не забуду…
– Уж не ты ли, добрая барыня, все это затеяла? – столь же безмолвно отвечал Матвеич. – Давно пора…
И пошел прочь – невысокий, коренастый, плешивый. Эта откровенная плешь, которую он даже не старался прикрыть, Лизу отчего-то беспокоила. Человек, пренебрегающий париком, в ее богатом доме был явно не ко двору. Да и держался уж больно по-хозяйски. С этим во благовременье придется что-то делать…
Чтица, небогатая и немолодая особа, лет двадцати восьми, из семьи вконец обрусевших французских дворян, взятая за знание языков, ждала Лизу в сенях, уже одетая, чтобы не получить выговора за нерасторопность. Третьей взяли с собой горничную девку Палашку – для услуг. Если бы ехали летом – то и болонку Колетту бы прихватили, и левретку Зизи. Но морозить собачек на петербуржском ветру хозяйка не пожелала.
Особняк Лисицыных стоял в хорошем месте, за Троицким храмом. Зимой оттуда было очень удобно добираться до Невского. А там и в мороз – гулянье, прекрасные экипажи, встречи и веселье в модных лавках, хоть весь день блистай и радуйся.
– А обедать поедем к сестрице Катерине Петровне, – сказала Лиза, выходя в сени. – Что, мамзель, не замерзнешь?
– Нельзя, сударыня, – отвечала чтица.
На крыльце Лиза встала, запрокинула голову, вдохнула полной грудью. Ей было хорошо. Все, чего она желала, давалось в руки – и новости были удачными, и ночь сложилась хорошо.
– Едем, мамзель!
Лиза любила эти зимние поездки – по прямой, не хуже Невского, Загородной улице можно было отлично разогнать санки. Именно с этой целью Лиза настояла, чтобы Николай Петрович самолично выбрал на конном заводе графа Орлова двух крупных рысаков отменной крови, по отцовской линии – от самого славного жеребца Сметанки, по материнской – от датских кобыл. Один из жеребцов светло-серый, другой – темно-серый в яблоках. Сейчас в санки заложили светлого, Желанного. Фролка сидел на облучке вполоборота, Лиза поймала его восхищенный взгляд, который сказал ей, что она сегодня дивно хороша и отменно одета.
До Невского было около трех верст, и Желанный пробежал это расстояние минут за десять. А там уж не побегаешь – то у Гостиного стой, то у всех модных лавок поочередно. Тем более что чуть ли не каждый день в Гостином новые прибавляются – он совсем недавно достроен.
Наконец, умаявшись и нагрузив Палашку свертками, Лиза велела ехать к Васильевым.







