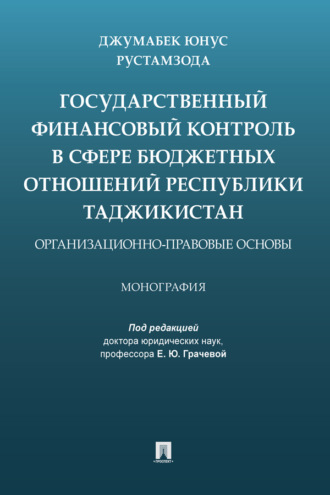
Д. Ю. Рустамзода
Государственный финансовый контроль в сфере бюджетных отношений Республики Таджикистан: организационно-правовые основы
Итак, что в настоящее время институты настолько развились, что могут быть разделены внутри отрасли финансового права на подотрасли, которые в свою очередь объединяют несколько финансово-правовых институтов.
Исследуя современные подходы к правовому определению места института государственного финансового контроля в системе финансового права, такие ученые, как И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина, Н. Е. Абрамова и другие, выделяют в составе института государственного финансового контроля отдельные комплексные институты, например контроль в финансово-бюджетной сфере. По их мнению, этот финансово-правовой институт является комплексным, поскольку он включает в себя еще несколько субнаправлений, например контроль за закупками и др.84. Интересно, что ученые, изучив эту проблему, продолжают предлагать более специализированные направления в структуре институтов в системе отрасли финансового права, такие как субнаправления, субинституты мини-институты. Однако, с точки зрения современных авторов, система права – это внутренняя структура права, состоящая из взаимосогласованных норм, субинститутов, институтов, подотраслей и отраслей права85.
В этой связи особое внимание следует уделить вопросу выделения в системе финансового права субнаправлений, субинститутов, мини-институтов. Так, в свою очередь, Т. В. Конюхова, исследуя систему институтов бюджетного права Российской Федерации, выделяет субинституты (по ее мнению, более мелкие институты) в рамках институтов бюджетного права, например, так называемые «доходы местных бюджетов», а также предлагает мини-институты в рамках субинститутов. Например, доходы бюджета территориального района, доходы бюджета городского района, доходы бюджета поселка и др.86
Определяя статус и место института государственного финансового контроля в сфере бюджетных отношений в системе финансового права, автор настоящей монографии приходит к выводу о том, что указанная совокупность правовых норм, регулирующая группу однородных финансово-правовых отношений, является одновременном субинститутом в рамках правового института государственного финансового контроля, а также институтом в рамках подотрасли бюджетного права. Поэтому как субинститут государственный финансовый контроль в сфере бюджетных отношений может быть отнесен к Общей части отрасли финансового права, а в качестве института бюджетного права – к Особенной части.
Поскольку данный параграф посвящен исследованию современных подходов к правовому пониманию сущности, значения и места института государственного финансового контроля в сфере бюджетных отношений, необходимо остановиться на трактовке самого понятия государственного финансового контроля в сфере бюджетных отношений в России и Таджикистане.
Некоторые современные ученые считают, что государственный финансовый контроль – это неотъемлемый, обязательный элемент системы управления финансовой деятельностью (К. А. Писенко и П. В. Славниский)87. Аналогичной точки зрения придерживается В. В. Уксусов, согласно которой финансовый контроль есть неотъемлемый элемент финансовой деятельности публично-правовых субъектов88.
Другая позиция выражается в том, что государственный финансовый контроль – это контроль со стороны уполномоченных государством органов и организаций за законностью, своевременностью, правильностью и эффективностью действий в процессе формирования, распределения и использования денежных фондов государства и муниципальных образований в целях осуществления эффективной финансовой политики в обществе, в том числе для обеспечения прав и свобод граждан89. На наш взгляд, это определение носит обобщающий характер и в части уяснения термина «государственный финансовый контроль» наиболее полно отражает его сущность и природу.
Имеет смысл уточнить, как решается вопрос о понятии «финансовый контроль» со стороны ученых-экономистов. Под указанным термином эти учёные чаще всего понимают «наблюдение, определение и выявление фактического положения финансовых показателей деятельности по сравнению с заданными»90.
В действующем законодательстве Республики Таджикистан, в частности Законах РТ «О внутреннем аудите в организациях государственного сектора»91, «О государственных финансах Республики Таджикистан»92, «О государственном финансовом контроле в Республике Таджикистан»93, «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан» и «О Счётной палате Республики Таджикистан»94 отсутствует определение государственного финансового контроля. Также следует признать, что сегодня ни в науке, ни в правовой доктрине, ни в законодательстве РТ нет единого, общепризнанного понятия «государственный финансовый контроль в сфере бюджетных отношений». Между тем закрепление этого термина поможет решить многие вопросы как в области экономики, так и в юридической сфере.
Что касается позиции российского законодателя, то следует отметить, что Правительство Российский Федерации 4 декабря 2017 г. внесло на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект Федерального закона № 8921п-П 36 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»95, в котором даётся официальное толкование таким понятиям, как государственный контроль (надзор), федеральный государственный контроль (надзор), региональный государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль (надзор). То есть, Правительство РФ предлагает не разграничивать эти термины, а рассматривать их как взаимозаменяемые и взаимодополняющие. При этом необходимо отметить, что в ст. 2 проекта названного Закона указывается, что на отношения, возникающие в сфере финансового контроля, данный Закон распространяться не будет. В свою очередь, также Министерство финансов Российской Федерации подготовило и в 2018 г. представило на рассмотрение Государственной Думы РФ проект нового Бюджетного кодекса Российской Федерации96. Обновленный Бюджетный кодекс РФ содержит много новелл, в том числе и в бюджетно-контрольной сфере. В частности, в отношении Раздела IX, который в старом варианте именовался «Государственный (муниципальный) финансовый контроль», было предложено переименование – «Государственный (муниципальный) бюджетный контроль». При этом важно отметить, что указанный проект в ст. 279 расширяет и уточняет понятие государственного бюджетного контроля. Кроме того, интересно, что в законопроекте предложено заменить термин «объект контроля» термином «субъект контроля». На наш взгляд, это далеко не однозначное нововведение. Оно создает некоторую путаницу, поскольку не соответствует традиционному взгляду на контрольные отношения, в которых участники подразделяются на субъектов, осуществляющих контрольные действия, и объекты, которые непосредственно подвергаются контролю.
Возвращаясь к проблемам, связанным с законодательным регулированием контрольной деятельности в бюджетной сфере Республики Таджикистан, следует указать, что при характеристике государственного финансового контроля в сфере бюджетных отношений уместно также определиться и с толкованием понятия государственного бюджета.
В Законе РТ от 28 июня 2011 г. № 723 «О государственных финансах Республики Таджикистан»97 Глава 12 посвящена государственному финансовому контролю и аудиту. В ней говорится, что государственный финансовый контроль и аудит осуществляют органы власти и государственного управления, местные органы государственной власти, уполномоченный государственный орган в области государственного финансового контроля, Министерство финансов Республики Таджикистан, местные финансовые органы, главные распорядители и распорядители бюджетных средств. Однако сущность понятия «государственный финансовый контроль и аудит» в тексте главы не раскрывается, а предлагается перечень субъектов, осуществляющих государственный финансовый контроль.
Соотношение терминов «контроль» и «надзор». При рассмотрении значения понятия государственного финансового контроля в сфере бюджетных отношений возникает вопрос об определении и соотношении терминов «контроль» и «надзор». Эта проблема достаточно широко освещалась в юридической научной литературе, прежде всего в работах по общей теории права и научных трудах по финансовому праву, и единого мнения здесь нет98. Вопрос соотношения смыслов двух категорий определенно остается дискуссионным.
В свою очередь, ряд ученых рассматривает понятие контроля как составную часть надзора, объясняя их сходность и различия. Есть исследователи, которые настаивают на самостоятельном, нетождественном значении понятий «контроль» и «надзор». Так, по мнению Н. А. Погодиной и К. В. Карелина, сравнение контроля и надзора приводит к вполне конкретному выводу о том, что понятие «контроль» более широкое, чем понятие «надзор», и имеет сугубо специфические признаки; а органы, осуществляющие государственный финансовый контроль, наделены более широкими полномочиями, нежели надзорные органы. По мнению авторов, основные отличия этих двух юридических категорий заключаются в том, что надзор – это наблюдение за точным и неукоснительным исполнением законов, а контроль направлен не только на достижение законности и стабильного правопорядка, но и на обеспечение эффективности и целесообразности действий субъектов права, подпадающих под процедуры контроля99. В свою очередь, М. Н. Кудилинский предлагает рассматривать надзор как традиционное наименование частных случаев контроля100.
Представители российской административно-правовой науки рассматривают контроль как вид управленческой деятельности. Например, профессор Ю. М. Козлов в свое время отмечал, что контроль – это «особая функция, тесно связанная не только с обеспечением дисциплины и законности, но и с государственным регулированием»101. Профессор А. Б. Зеленцов, констатируя наличие в зарубежных странах разнообразных концепций системы контроля в сфере публичной администрации, подчеркивает: «Общим является то, что содержание контроля составляет деятельность органов государства, граждан и их организаций, которая направлена, во-первых, на наблюдение, выявление, анализ информации о происходящих управленческих процессах, во-вторых, на установление несоответствий, нарушений, отклонений от социальных, прежде всего правовых, норм, целей и ценностей, в-третьих, на выдвижение требований и предложений об устранении недостатков или коррекции самих норм и целей»102.
В научной правовой литературе до сих пор продолжается дискуссия о содержании понятия контроля и его месте в управленческой деятельности103. Так, Е. Ю. Грачева считает, что «контроль исполнения есть сама деятельность, которая осуществляется на основе определенных принципов и с помощью определенных методов». То есть, с одной стороны, финансовый контроль – это собственно управленческая деятельность, а с другой – он сам является объектом управления, используемым в качестве средства, инструмента реализации политики государства в сфере финансов104.
А. Г. Гузнов пишет о том, что некоторые представители советской правовой науки рассматривали контроль как принцип деятельности (В. А. Власов, А. А. Годунов, О. В. Козлова и И. Н. Кузнецов), как метод управления (В. И. Гостев) и как способ управления (Б. М. Лазарев). А. Г. Гузнов четко различает контроль в двух значениях: в широком – как форму управленческой деятельности и в узком смысле – как способ воздействия на управляемой субъект и связанный с возможностью вмешательства в оперативные вопросы105.
Считаем наиболее удачными характеристиками терминов контроля и надзора являются определения, данные З. М. Хайруллоевой. Она определяет контроль «как деятельность публичных образований, юридических и физических лиц по осуществлению различных форм проверочных мероприятий, нацеленную на выявление и устранение нарушений финансовых показателей подконтрольного субъекта, а надзор – это деятельность государственных органов власти по реализации процесса обеспечения законности деятельности проверяемых объектов (предприятий, организаций, учреждений)»106.
Рассмотренные выше различные подходы к определению контроля и надзора позволяют сделать вывод о важности однозначного, прозрачного и недвусмысленного толкования этих терминов для органов государственного финансового контроля. Тот факт, что «в науке до сих пор нет единства точек зрения по поводу вопроса о сущности контроля и надзора, соотношении данных понятий и их четком разграничении, признают многие» как отечественные, так и зарубежные правоведы. Поэтому насущной задачей ученых и законодателей является разработка легального определения этих терминов, которые не оставляли бы возможностей для манипуляции данными категориями и их подмены смежными по смысловой наполненности понятиями.
Представляется целесообразным ознакомиться с доводами и аргументами, высказанными отечественными таджикскими учеными в отношении категории «контроль». По словам таджикского правоведа А. Р. Нематова, «контроль – это специфическая деятельность государственных органов, является одним из важных средств обеспечения законности в правотворческой деятельности государства, в защите прав и свобод человека и гражданина»107.
В выступлении Президента Академии наук Республики Таджикистан, академика Ф. Рахими на Международной конференции «Контроль и надзор в сфере государственного управления, проблемы и пути совершенствования», прошедшей в Душанбе 13–14 октября 2017 г., отмечается, что контроль – это функция управленческой деятельности, определенной нормативными правовыми актами108.
Аналогичной точки зрения придерживается и таджикский специалист по административному праву С. И. Ибрагимов, который подчеркивает, что «государственный контроль является одной из специальных функций государства, который осуществляется государственными органами для выявления и анализа информации о процессах и явлениях, связанных с общественностью, выявления недостатков и несоблюдения нормативных или индивидуальных критериев, для обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, конституционного порядка и правовой системы»109.
Однако следует отметить, что ни в науке, ни в законодательстве Республики Таджикистан не разграничены понятия «контроль» и «надзор», а в зависимости от цели и назначения употребляются как синонимы (как «бозбини», «санчиш», «назорат» и др., которые по смысловому значению можно толковать как контроль).
На наш взгляд, контроль и надзор следует воспринимать как независимые правовые категории, поскольку они отличаются по своим отдельным характеристикам, элементам и содержанием концепции. Данной позиции придерживается И. Б. Буриева, делая вывод о том, что надзор осуществляется по отношению к субъекту, в правовом статусе которого не прослеживается обязанность подчиненности и подотчетности вышестоящему субъекту, осуществляющему надзор. В противном случае надзор осуществляется только по реализованным действиям. Контроль может быть выполнен в форме предварительного, текущего и последующего проведения110.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что, к сожалению, типичными случаями являются ошибочные отождествления контроля с надзором, мониторингом, контроллингом и аудитом.
Р. Н. Марифхонов использует, например, понятие «контроль-надзор»111.
Аналогичной точки зрения придерживается Б. Х. Раззоков, который в своих рассуждениях употребляет определение «контрольно-надзорный»112.
В свою очередь А. И. Имомов утверждает, что таджикскому праву нет необходимости разграничивать эти понятия, поскольку на таджикском языке они обозначаются одним и тем же термином «назорат»113. Трудно не согласиться с позицией А. И. Имомова, потому что анализ законодательства Таджикистана показывает, что, действительно, такие категории, как «контроль» и «надзор» в таджикском языке обозначаются одним словом – «назорат» (например, в п. 7 Положения Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан114).
Подводя итоги анализу существующих точек зрения на проблему соотношения понятий «контроль» и «надзор», следует отметить, что таджикские ученые в своих научных трудах используют эти термины, либо не поясняя их, либо укладываясь в приведенные и описанные выше мнения учёных. Несмотря на настоятельные рекомендации отечественных научных и экспертных кругов разделить смежные понятия на два самостоятельных юридических термина, в текстах нормативных правовых актов на официальном уровне они обозначаются одним и тем же словом – «назорат». При этом, что примечательно, в законодательных актах Республики Таджикистан, изданных на русском языке, прослеживается дифференцированный подход к использованию рассматриваемых категорий. Так, в ст. 1 Закона РТ от 16 апреля 2012 г. № 858 «О системе органов государственного управления»115 разграничиваются понятия «внутренний контроль» и «служебный надзор». Однако в Законе РТ от 21 июля 2010 г. № 626 «О внутреннем аудите в организациях государственного сектора»116 используется понятие внутреннего контроля, которое означает систему финансовых и иных средств контроля в организациях государственного сектора, включая собственно организационную структуру, методы, процедуры и внутренний аудит, используемые руководством с целях содействия осуществлению законной, эффективной, результативной деятельности и достижения целей организации (п. 3 ст. 1).
Таким образом, необходимо признать, что терминологическое разграничение контроля и надзора на государственном уровне в Республике Таджикистан имеет важное научно-практическое значение для финансового, бюджетного и административного права. Оно позволяет обозначить специфические элементы системы государственных средств по обеспечению законности. Имплементацию термина «контроль» в грамматику таджикского языка, а в последующем – в нормативные правовые акты можно признать оптимальным вариантом решения данного вопроса.
Исследование существующих в настоящее время концепций о понятии и значении государственного финансового контроля в целом и государственного финансового контроля в бюджетной сфере в частности позволяет сделать определенные выводы:
1. В отличие от российской правовой науки в таджикском правоведении концепция финансового контроля как обособленного самостоятельного объекта научных исследований практически не сформирована, имеются лишь предпосылки к ее созданию. Отсутствие такой концепции обусловливает очевидное несовершенство понятийного аппарата и наличие пробелов в законодательном регулировании отношений, связанных с осуществлением государственного финансового контроля в сфере бюджетных отношений.
2. Совокупность правовых норм, регулирующих группу однородных финансово-правовых отношений, возникающих в процессе осуществления уполномоченными государственными органами контрольной деятельности в бюджетной сфере, является одновременно субинститутом в рамках правового института государственного финансового контроля, а также институтом в рамках подотрасли бюджетного права. В связи с этим в качестве субинститута, государственный финансовый контроль в сфере бюджетных отношений может быть отнесен к Общей части отрасли финансового права, а в качестве института бюджетного права – к Особенной части.
3. В целях преодоления выявленных проблем с категориальным аппаратом и повышения эффективности осуществления финансовой деятельности в сфере бюджетных отношений Республики Таджикистан предлагается сформулировать и законодательно закрепить определение в следующей редакции: «Государственный финансовый контроль в сфере бюджетных отношений – это особый вид управленческой деятельности и в то же время функция государственного управления, осуществляемая органами государственной власти и государственного управления, местными органами государственной власти, иными уполномоченными органами и организациями, выступающими в качестве субъектов бюджетных отношений, по проверке соблюдения норм финансово-бюджетного законодательства в целях достижения законности, своевременности, целесообразности и эффективности формирования, распределения и использования фондов государственных бюджетных средств и государственного имущества».
§ 3. Принципы государственного финансового контроля в сфере бюджетных отношений в Республике Таджикистан: право и практика
Для эффективного государственного финансового контроля в сфере бюджетных отношений Таджикистана большое значение имеют те принципы, на основе которых он осуществляется и которыми должны руководствоваться органы, обязанные проводить контрольно-надзорные мероприятия.
Общеизвестно, любая деятельность, в том числе и деятельность различных учреждений государства, всегда базируется на определенных основах, являющихся дисциплинирующими, сдерживающими и упорядочивающими идеями и концепциями, следование которым помогает субъектам осуществлять свою деятельность более эффективно и результативно. Предположим, что такие основы должны быть и у организации государственного финансового контроля в сфере бюджетных отношений Республики Таджикистан.
Принципы осуществления государственного финансового контроля в сфере бюджетных отношений Таджикистана находятся в стадии своего юридического оформления. Смысловое значение принципов, на наш взгляд, характеризуется словосочетаниями «основополагающая идея», «руководящее начало» или «основное положение». Все эти определения принципов являются корректными и конкретизирующими сущность государственного финансового контроля. Принципы государственного финансового контроля в сфере бюджетных отношений активно применяются на практике, потому что проверены временем и к тому же выражены в нормах права, а значит имеют общеобязательный характер для всех субъектов регулируемых правоотношений.
Принципы осуществления государственного финансового контроля в бюджетной сфере широко анализировались в работах российских ученых117, также они подробно описаны в Лимской декларации руководящих принципов контроля118 и Мексиканской декларации о независимости высших органов финансового контроля119. Однако принципы, предусмотренные международными актами, нашли свое закрепление в законодательстве Республики Таджикистан лишь частично.
Следует отметить, что в советском финансовом праве первым к вопросу принципов обратился правовед Е. А. Ровинский. В качестве основополагающего базиса системы юридических норм Е. А. Ровинский представил свою собственную формулировку положений и доказал их практическую необходимость и значимость120. В свою очередь Н. И. Химичева раскрыла не общие принципы финансового права, а принципы финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления, в частности принцип единства финансовой политики и денежной системы, принцип самостоятельной финансовой деятельности органов местного самоуправления121.
О важности указанных принципов, касающихся улучшения деятельности в сфере государственного финансово-бюджетной контроля, можно судить по предложениям, которые были разработаны и до сих пор прорабатываются и совершенствуются исследователями. Профессор Н. И. Химичева рекомендует закрепить совокупность принципов государственного финансового контроля в особом законе, который отражал бы сущность рассматриваемого процесса, его характерные черты и особенности.
А. Г. Грязева и К. В. Маркина перечисляют такие основные, носящие характер общеправовых принципы государственного финансового контроля: законность, независимость, объективность, гласность, ответственность, разграничение функций и полномочий, системность122. С этими авторами полностью солидарен и В. В. Бурцев123. Несколько иная последовательность предлагается С. П. Опенышевым и В. А. Жуковым. Это: плановость, системность, непрерывность, законность, объективность, независимость, гласность и эффективность124. О. В. Болтинова к уже названным принципам государственного финансового контроля в сфере бюджетных отношений добавляет и принципы прозрачности (открытости), плановости организации финансового контроля и другие125.
Таким образом, принципы законности, независимости, гласности, объективности, эффективности и системности чаще других употребляются в работах российских ученых. В данном случае можно говорить об общем и специальном перечне принципов осуществления государственного финансового контроля в сфере бюджетных отношений. Те же принципы прослеживаются в работе таджикского учёного Ф. М. Расулова. Это принципы законности, объективности, гласности при условии соблюдения государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, системности в деятельности органов государственного финансового контроля с целью наиболее полного охвата контрольными мероприятиями всех направлений финансовой деятельности государства, плановость126.
Что касается нормативно-правовой системы Таджикистана, то тщательного исследования специальных принципов осуществления государственного финансового контроля в бюджетной сфере таджикскими учеными не проводилось. Таджикские ученые-правоведы по теории и истории права и государства127 и специалисты по другим правовым отраслям исследовали в своих работах лишь общеправовые принципы права. Специальные принципы оказались в недопустимом пренебрежении.
Однако нельзя не заметить, что все же имеется несколько работ, в частности Ф. Т. Тахирова, Ф. М. Расулова128, которые повествуют об отдельных принципах в финансово-контрольной деятельности Таджикистана, но, к сожалению, и в их трудах не обнаружилось полного перечня принципов финансово-контрольной деятельности Таджикистана.
В отношении законодательного закрепления принципов осуществления государственного финансового контроля в сфере бюджетных отношений Таджикистана необходимо отметить, что они как единые концепции обязательны для исполнения всеми органами, участвующими в движении бюджетных средств и иного государственного имущества. Данные принципы закреплены в Законе РТ от 2 декабря 2002 г. № 66 «О государственном финансовом контроле в Республике Таджикистан»129 (далее – Закон о государственном финансовом контроле в РТ). Этими принципами характеризуются категории законности, объективности, независимости и гласности. Как видим, Закон выделяет в основном четыре универсальных принципа, которые распространяются не только на деятельность органов общей и специальной компетенции, но и на местные органы бюджетного контроля.
Важный нормативный правовой акт, в тексте которого прописаны финансово-правовые принципы, – это Закон РТ от 28 июня 2011 г. № 749 «О Счётной палате Республики Таджикистан»130 (далее – Закон о Счетной палате РТ), определяющий принципы деятельности самой Счетной палаты, которые также актуальны для всей системы контроля в сфере бюджетных отношений. Принципы провозглашаются в следующем перечне: законность, самостоятельность, объективность, достоверность, честность, соблюдение профессиональных стандартов, коллегиальность и гласность, в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Республики Таджикистан. Однако следует заметить, что в приведенном перечне отсутствует один из основополагающих принципов – независимость. Важно подчеркнуть: в зарубежных странах, например в США, этот принцип твердо прослеживается в законодательстве и неукоснительно соблюдается131.
Можно предположить, что в данном случае законодатель не хотел дублировать принцип независимости, поскольку он уже содержится в Законе РТ о государственном финансовом контроле в РТ. На наш взгляд, подобная ситуация усугубляет осуществление законодательных положений на практике и может привести к потере самостоятельности самим субъектом контроля.
В Законе РТ от 20 марта 2008 г. № 374 «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республике Таджикистан»132 определены следующие принципы деятельности этого органа: «законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, равенство всех перед законом, единоначалие и централизованное управление, использование открытых и скрытых форм и методов деятельности, связь с населением, учет общественного мнения в деятельности, беспартийность» (ст. 4 Закона).
Необходимо отметить, что все вышеупомянутые законы недостаточно полно определяют принципы осуществления государственного финансового контроля в сфере бюджетных отношений РТ. Их анализ позволяет сделать вывод о том, что процесс правового закрепления основных принципов осуществления государственного финансово контроля в сфере бюджетных отношений РТ не завершен, так как многие из них не нашли своего должного отражения в законодательстве РТ и не получили реализации в правоприменении.
Общеправовые (универсальные) принципы. Непосредственное осуществление государственного финансового контроля охватывает всю систему государственной власти: органы государственного управления, исполнительные органы государственной власти местного значения, а также органы самоуправления поселков и сел. Это – те принципы, которые декларируются и признаются теорией и историей права и государства133, конституционным правом134, административным правом135 и другими отраслями права. Данная группа принципов – финансовая независимость, законность, правильность, целесообразность, экономичность и эффективность – признается универсальной, потому что они закреплены в Лимской декларации как в одном из важнейших международных документов.
Таким образом, общеправовыми принципами являются: законность, независимость, самостоятельность, демократизм, системность, учет общественного мнения, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, равенство всех перед законом и другие.
Специальные принципы. Ко второй группе принципов относятся только те концептуальные положения, которые распространяются на деятельность контрольных органов РТ в бюджетной сфере. Перечень специальных принципов предусмотрен в актах таджикского законодательства: в Законах РТ «О государственном финансовом контроле в Республике Таджикистан», «О Счётной палате Республики Таджикистан» и «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией в Республике Таджикистан».
К сожалению, действующее государственное финансово-бюджетное законодательство, регулирующее контрольно-надзорные полномочия, своими некорректными формулировками способствует нарушению принципов независимости и прозрачности (открытости) в деятельности контрольных органов республики. Нельзя не принимать во внимание международную практику, которая доказывает, что государственный финансовый контроль в сфере бюджетных отношений будет эффективным и результативным только при сохранении независимости органов внешнего государственного финансового контроля.


