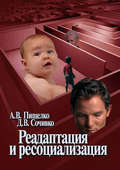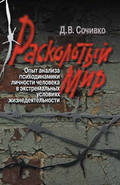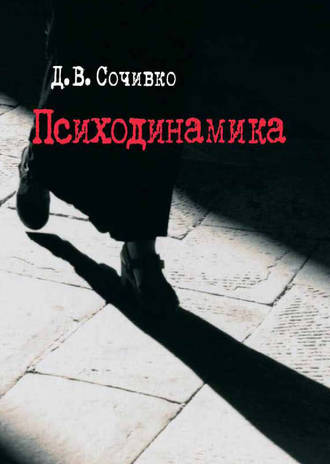
Д. В. Сочивко
Психодинамика
Глава 4. Психодинамика личности в физическом и историческом времени
4.1. Время
В самом общем виде Время подразделяется на прошлое, настоящее и будущее. Попробуем поискать ответа на вопрос, что есть эти части каждая в отдельности, дабы потом мы могли ставить вопрос о том, что же есть Время само по себе. Эмпирически ответ на поставленный вопрос может звучать так: настоящее – это то, что следует за прошлым, а будущее – это то, что следует за настоящим, причем строго в такой последовательности. Время, таким образом, представляется нам как некоторое упорядочение явлений этого мира. Все, что есть в этом мире, происходит во времени. Это значит, что оно происходит в настоящем, принадлежит прошлому, и ожидается в будущем. Сосредоточимся, однако, на том, что происходит всякое явление именно в настоящем, а не в прошлом или будущем. Действительно, ничто не может происходить в прошлом, т. к. прошлому принадлежит то, что уже произошло. Прошлое заполнено плотно, и к нему нельзя ничего ни прибавить, ни убавить. В то время как будущее наоборот абсолютно пусто (для нас), и мы ничего не можем перенести туда из настоящего. Чтобы явление произошло, оно должно произойти в настоящем.
Здесь, однако, следует подчеркнуть, что физические явления имеют закон, и согласно закону они не зависят от времени. Так камень, брошенный с определенной высоты, будет падать вертикально вниз с определенным ускорением, независимо от того, брошен ли он в прошлом или в настоящем. И именно это есть явление этого мира, взятое в его сущности. Все это абсолютно верно, но имеет скорее отношение к сущности явления, чем ко времени. Ибо мы можем исследовать сущность явления, заставляя его происходить снова, т. е. в настоящем и только в настоящем. Но мы не можем пойти в прошлое, поднять камень, брошенный несколько столетий назад средневековым ученым, подняться на башню и повторить опыт. Итак, для нас опыт Галилея является прошлым, для него наш опыт является будущим. Но как Галилей, так и любой из людей может заставить явление произойти и пронаблюдать его только в настоящем и никогда в прошлом или будущем.
Итак, настоящее есть нечто неотделимое от любого явления этого мира. Это его настоящее время, без которого, вне которого самого явления не существует. В то время как это настоящее само по себе существует и для других явлений. Что же есть это настоящее?
Нам кажется естественным утверждение, что настоящее является условием того, что явление происходит в этом мире, причем, как видно из вышеизложенного, необходимым условием того, чтобы, что бы то ни было произошло.
Время в этой своей части, а именно настоящее время, есть необходимое условие явления мира. Что же является его достаточным условием?
Для ответа на этот вопрос обратимся к анализу прошлого и будущего. Для того, чтобы что-то могло произойти оно должно пребыть из прошлого в будущее. Чтобы сегодня вечером мы могли войти в свой дом, мы должны найти его на своем месте (и находим), т. е. там, где оставили его утром. Чтобы набросать кучу камней нужно, чтобы первые брошенные камни оставались там, где они упали. Что же заставляет их там находиться? Физический закон тяготения? – Нет, т. к. именно используя тот же самый закон можно поднять камень и бросить его в другое место. Сам закон, таким образом, не определяет ни места, ни, тем более времени, никакой вещи, ибо есть еще и человек со своей свободной волей. Можно ведь сформулировать и более общий закон… и еще более общий, процедура, которая согласно теореме Геделя уводит нас в «дурную бесконечность». Тогда, сама связь прошлого и будущего, всеобщая историческая связь времен, и есть достаточное условие явления этого мира. Соединение прошлого и будущего через настоящее и является необходимым и достаточным условием явления мира.
Будем называть явление вместе с его необходимым и достаточным условием моментом явления.
Теперь, взяв все три части времени сами по себе, мы получаем Время в целом с его прошлым, настоящим и будущим, т. е. его необходимого и достаточного условия, т. е. время мира. Время, таким образом, есть момент мира. Из чего уже очевидно, что время, также как и мир, имеет начало и имеет конец. Иначе нельзя было бы связать прошлое и будущее, и не было бы момента мира, т. е. его необходимого и достаточного условия, а значит и самого мира.
Если время есть момент мира, то это означает, мир имеет единое настоящее, т. е. все, что происходило, происходит и произойдет, есть настоящее мира. Очевидно, что воспринимать мир как единый во времени, т. е. одномоментный в настоящем, невозможно для его частей (например, людей), но, по всей, вероятности, именно так видим он Творцом.
Некоторое подобие такого видения мира мы имеем и у человека. Моцарт как-то сказал, что высшая точка вдохновения наступает для него тогда, когда он видит свою симфонию одномоментно, «как яблоко на руке» (а это 30–40 минут физического времени).
Из многих других источников мы знаем, что эта одномоментность, ясность творческого замысла, развертываемого во времени, являются необходимым условием любого творческого процесса, который может длиться весьма и весьма долго.
Для нас здесь важно, что настоящим для любого временного отрезка развития творческого процесса (да и вообще любой целенаправленной человеческой деятельности) является именно эта одномоментность замысла, который присутствует в каждом моменте физического или умственного действия обязательно. Настоящее, таким образом, не имеет длительности, т. е. не имеет того измерения, которое мы привыкли называть временем.
Вернемся к уже использованному примеру. Галилей, бросая камень с башни, измерял длительность его свободного падения. Сравнивая длительности разных случаев свободного падения, он вывел общий закон свободного падения тел. Этот закон связывает прошлое тела – момент контакта с рукой Галилея – и его будущее, момент контакта с землей. Таким образом, переменная времени, фигурирующая в законе, есть число, приписываемое явлению по некоторой жестко определенной схеме связи прошлого и будущего явления, т. е. его достаточному условию в наших терминах.
Настоящее же явления никак не связано измерением времени, т. е. вообще не имеет длительности. Галилей бросал камни много раз, и во всяком бросании присутствовало одно и тоже настоящее, и всякий раз, когда он прекращал исследования оно не присутствовало.
Таким образом, настоящее не связано не только обычной для нас метрикой времени (длительностью), но не связано также и топологией времени (его неразрывностью). Время же, как известно непрерывно в смысле его измерения.
Пример тому симфоническое произведение (вообще любое произведение искусства, науки – творческого человеческого духа), которое может иметь несколько частей, между которыми при исполнении возможны перерывы, заполненные совершенно посторонними событиями. Но как только начинает звучать музыка, мы вновь оказываемся в настоящем времени симфонии от первой ноты до последней.
Итак, настоящее не имеет временного измерения, оно не имеет длительности и может быть разрывно, но оно, очевидно, имеет начало и конец. Разрывы одного настоящего заполняются другим настоящим. Так в перерыве слушания симфонии может быть продолжен разговор или иное дело, начатое ранее. Оно имеет свое настоящее, которое прервалось при слушании музыки.
Таким образом, явление, чтобы произойти в мире, должно иметь необходимое и достаточное условие, а именно настоящее и связь прошлого и будущего. Эта связь имеет длительность и непрерывна, настоящее же длительности не имеет и разрывно.
Эти размышления наталкивают нас на весьма важный вывод о различии времени физического (т. е. собственно длительности) и времени исторического (в пределе и психологического).
В физике мы исследуем именно связь прошлого и будущего, и поэтому делаем акцент на том, что камень, брошенный с башни, обязательно будет падать непрерывно, пока не коснется земли. При этом для нас абсолютно безразличен тот факт, что тот же самый камень затем опять будет поднят на башню.
В истории же для нас, напротив, важна судьба именно этого камня в его настоящем. Поэтому исторические (психологические) события могут прерываться, т. е. то, что началось давно может не длиться теперь вообще, и вдруг начать длиться, потом перестать, потом завершиться. Все это разные моменты явления. Далее мы намерены показать, что именно такая структура психологического времени, с его разрывным настоящим, не имеющим ни длительности, ни метрики, лежит в основе реализации и динамики всех психических процессов, начиная с элементарных ощущений.
4.2. Познание. Перцептивный образ
Человеческое познание обычно представляют в двух наиболее общих формах: чувственного и логического. Для чувственного познания мира человек наделен органами чувств, в результате взаимодействия которых с некоторой частью физического мира в сознании человека возникают образы этого внешнего ему мира. Для логического познания человек наделен рассудком, позволяющим ему упорядочивать чувственный опыт, а также познавать логическое устройство этого мира.
Для наших целей мы ограничимся анализом исключительно зрительного образа (перцепта), хотя полученные результаты легко могут быть распространены и на все иные чувственные образы. Далее мы будем использовать как синонимы понятия: зрительный образ, перцептивный образ, психический образ.
Среди характеристик психического образа наиболее важной для нашего анализа является его предметность. Это его свойство означает, что психический образ целиком погружен в пространство-время своего предмета. Посредством образа мы находим объекты этого мира там и тогда, где и когда они находятся в физическом пространстве времени. Эта особенность психического образа отражать его объект в объектном пространстве-времени, в его натуральную величину, в его естественном движении, т. е. независимо от размеров и движения отражающего субстрата (мозга человека), является уникальной для психического отражения. Тем не менее, мы легко отличаем внешний мир от нашего образа этого мира.
Это различие непосредственно присутствует в нашем сознании, именно поэтому его так трудно показать опосредованно логически, но оно легко подтверждается нашими действиями в отношении внешнего мира. Посредством действий, вообще поведения, мы находим, что наш перцептивный образ построен вполне определенным образом, с искажениями (зрительные иллюзии), которых может не быть в иных (кибернетических) системах отражения, не обладающих вышеуказанным уникальным свойством предметности (и константности) отражения.
Итак, убедившись в очевидном отличии психического образа от внешнего объекта, отдалив его от объекта и приблизив его к субъекту, мы, тем не менее, вновь не находим теперь уже в субъекте, в человеке, в его целостном физиологическом и психическом устройстве образа мира как такового. Действительно, найти его означало бы вы делить в самом субъекте кроме денного перцепта как носителя информации еще и некоторого наблюдателя (субъекта), считывающего эту информацию, т. е. представляющую ее другими образами, которые в свою очередь должны быть кем-то считаны. Продолжая эту процедуру, мы сталкиваемся с проблемой дурной бесконечности, пытаясь построить целостный субъект отрешения как нигде не кончающийся ряд cyб…cyбcyбъeктов, которому соответствует ряд образов образов. Однако, наша способность ориентировать во внешнем мире свидетельствует, что ничего подобного не происходит. В психическом отражении внешний мир дан нам непосредственно.
Итак, мы вновь не находим психический образ мира, теперь уже в субъекте. Из всего этого следует, что психический образ отражает настоящее (время) явлений мира. Мы потому и не можем привязать психический образ только к объекту или только к субъекту или к какому-то их взаимодействию, т. к. такое рассмотрение предполагает его рассмотрение в физическом времени, в котором только и возможно опосредование как форма жесткой связи прошлого и будущего. В то время как перцептивный образ существует в психологическом времени и связан с отражением настоящего, в котором отсутствует длительность, а следовательно невозможна опосредованность. Отражение же связи прошлого и будущего уже требует системы образов, мыслеподобных их конструкций.
4.3. Познание. Мысль
Законы природы существуют объективно вместе с явлениями и являются отражением единого мирового устройства. Осознание этого факта направляет мысль ученых к поиску все более общих законов и теорий, что позволяет науке расширять и уточнять картину вселенной, стремясь к целостности ее описания в системе единиц знания. Именно цель получения такой единой картины природы и вдохновляла ученых и философов, начиная с эпохи возрождения вплоть до конца XVIII века.
Однако по мере развития науки ученых энциклопедистов становилось все меньше, а возможности построения единой системы знания о вселенной оценивались как все менее вероятные. Окончательно невозможность построения внутренне непротиворечивой, логически замкнутой: картины мира была доказана Геделем в его известной теореме о том, что в любой системе аксиом найдется хотя бы одна недоказуемая внутри этой системы. Из этого следует, что всякое научное знание в пределе опирается на некоторый недоказуемый постулат.
Здесь, однако, следует разделить понимание закона природы как формы нашего рассудочного мышления и как порядка, существующего в мире. Приведенные обоснования того, что замкнутой внутренне непротиворечивой системы знания не существует в мире, свидетельствуют нам, что и закон как форма мирового порядка и закон как форма нашего мышления, основываются на ограниченной связи прошлого и будущего. Момент мира в целом недоступен нашему познанию. Мы можем познавать лишь отдельные явления. Таким образом если психодинамика психического образа есть отражение настоящего явления мира, то мысль как опосредованное отражение мира есть отражение связи прошлого и будущего. В этом основное психодинамическое различие двух составляющих человеческого знания.
4.4. Эмоции и страсти
Эмоции человека представляются в современной психологии как наиболее противоречивый и наименее изученный класс психических явлений. Многие связывают эмоции с деятельностью и действиями человека, но также многие считают истинными лишь те переживания, которые не сопряжены ни с какими действиями. Одни считают эмоции причинами действий человека, превращая их в некоторые побудители, мотивы. Другие, наоборот, полагают, что действия вызывают эмоции. Так В. Джеймс считал, что сначала мы шевелим губами, улыбаясь, а затем (через очень краткий и неразличимый для человека промежуток времени) смеемся.
Отсутствует какая-либо устойчивая классификация эмоций, а также четкое различение эмоций, чувств, страстей.
Несмотря на эти существенные пробелы, теорико-психологического знания о человеческих чувствах и эмоциях, мы для целей нашего анализа постараемся сосредоточиться на наиболее простых и признанных фактах, не занимаясь специально их согласованием в целостном представлении.
Эмоции представляются нам, очевидно, имеющими причину в окружающем нас видимом мире. Мы боимся, когда присутствует угроза целостности нашего организма, или нашего Я. Мы радуемся, когда преодолеваем препятствие, мы гневаемся, когда что-то выходит в противоречие с нашими желаниями, мы тоскуем, оставаясь в одиночестве в ситуации томительного ожидания. Однако, с равной очевидностью можно утверждать, что мы вдруг в неприятной ситуации начинаем чувствовать непонятную радость, что после преодоления препятствия возникает беспричинный гнев, наконец, оставшись в одиночестве мы можем чувствовать покой и удовлетворение. Однако, в современной психологии существуют методы, позволяющие проследить воздействия образов памяти на актуальные переживания. Таким образом, беспричинность эмоций скорее всего только кажущаяся.
Важным является также и то, что эмоции имеют и прямую физиологическую причину. В подкорке головного мозга человека существуют центры радости, гнева и других эмоций, искусственно раздражая которые можно получить те или иные эмоциональные переживания. Кроме того, вполне определенные, наперед заданные эмоции можно вызывать и посредством воздействия на организм человека теми или иными химическими препаратами. Ничего подобного мы не находили в области человеческого познания. Там, воздействуя на человека вышеуказанным образом, мы можем лишь менять процесс течения образов или характер рассудочного познания. Но мы никогда не можем через физиологию человека добраться собственно до содержания его познания. Мы никогда не вживим человеку тот или иной наперед заданный образ. Он всегда будет видеть мир по-своему, хотя и с искажениями.
Эмоции же, напротив вполне позволяют себе программировать. Существуют психологические механизмы управления чувствами. Например известный в социальной психологии механизм социального заражения, а именно когда мы начинаем переживать те или иные эмоции просто потому, что их переживают множество людей вокруг, или даже когда какие-то эмоции переживает наш собеседник, мы также можем от него заразиться. Этот эффект, однако, столь же прост, сколь и загадочен. Почему, собственно, мы радуемся, когда радуется другие вокруг нас, почему мы чувствуем напряжение в нервозной обстановке когда никаких слов не произносится и т. д. Становится очевидным, что эмоции имеют какое-то неведомое нам содержание, каким-то неизвестным способом передающееся от человека к человеку. Подчеркнем, что речь идет здесь не о механизме эмоции, а о содержании этой эмоции.
Таким образом, картина в области эмоций вырисовывается полностью противоположная той, которая наблюдалась нам в области познания. Если там механизм когнитивной структуры (напр., образа) полностью скрыт от нас, и присутствует только результат – сам образ, то механизм возникновения эмоций, напротив, легко познаваем, а результат – содержание той или иной эмоции, того или иного переживания находится часто остается неизвестным даже самому переживающему. Рассмотрим это несколько более подробно на примере такого искусства как музицирование, целиком построенного на эмоциональном восприятии своих произведений.
Слушая музыку, мы наиболее остро переживаем некое неведомое нам содержание, мы чувствуем полноту наполняющего нас чувства, его оттенки, его развитие… мы только не можем ни к чему отнести это чувство. Его содержание нам неведомо.
Эмоции могут быть настолько сильными, что все тело наше будет сотрясаться, но от этого ничуть не прибавится их содержание. Итак, в самом механизме функционирования эмоций заложено то, что результат этого функционирования в нашей психической жизни не только ускользает от нашего познания, но ускользает никак нам не показавшись. Из этого следует, видимо, что в эмоциях отражается психологическое прошлое (время) явлений внешнего мира в его отношении к настоящему. Связь же прошлого и будущего остается скрытой. Это и есть главная особенность психодинамики эмоций.
4.5. Воля
Очень часто в современных научных исследованиях желательной части человека – воли – явно или неявно предполагается, что само желание в существенной мере представляет собой содержание того, что в дальнейшем будет осуществлено. На уровне здравого смысла такого рода психология выражается в поговорках типа «хотеть, значит мочь» или «не смог, значит не очень хотел» и т. п. В современной психологии волевой акт человека рассматривают как весьма сложный, состоящий из нескольких составляющих психический процесс. В структуру отдельного волевого акта кроме собственно желания включают также и его внешний возбудитель – мотив. Мотив может быть как внешним человеку объектом, так и внутренним его состоянием, телесным или душевным. Мотив, таким образом, должен быть необходимо воспринят нами, прежде чем возникает собственно желание. Это составляющая волевого акта может быть названа когнитивной. Далее, чтобы человеку, побуждаемому желанием, начать действовать, ему необходимо построить (опять же когнитивными средствами) образ желаемого, т. е. образ цели. Само же действие развивается на основе функционирования особого психологического механизма – сдвиг мотива на цель (153).
До того, как начинает развиваться действие само желание может быть познано и либо принято, либо отвергнуто. В этом и только в этом проявляется свобода человеческой воли.
Итак, первая ступень овладевания желанием нашим сознанием есть его соединение с мотивом. Такое состояние в святоотеческой литературе обычно называется помыслом. Помысел может быть либо принят сознанием, либо отвергнут. В последнем случае обычно также происходит некоторое рассуждение, анализ помысла, что ведет к следующей ступени осознания желания. В случае же принятия помысла также происходит дальнейшее осознание желания, однако, уже в форме сосложения, через которое человек уже начинает утрачивать власть над своим желанием, и оно овладевает его сознанием, подчиняя его волю. Итак, принятие помысла без рассуждения лишает человека свободы воли, рассуждение же сохраняет ее на этом этапе действия. Этот процесс в современной психологии называют также принятием решения. Однако, этот более формализованный и, несомненно, более удобный для научных изысканий термин (как и другие термины теории воли: мотив, цель, действие, образ цели…) не охватывает всего объема понятия рассуждение. Мы же в данном анализе более будем пользоваться современной научной терминологией как более приспособленной для детального анализа элементарных составляющих психических явлений.
Итак, желание соединяется с мотивом, образуя уже осознанный побудитель к действию. Далее, если не возникло необходимого рассуждения или же действие настолько просто, что не требует такового, в нашем сознании начинает строиться особый психический образ, называемый образ цели. Это образ того, что произойдет в будущем, когда будут совершены все предполагаемые действия, т. е. образ потребного будущего, образ того чего еще нет. Вслед за этим начинает развиваться само действие, направляемое сравнением мотива, образа цели, который изменяется по мере изменения окружающей ситуации. Итак, желание, мотив, образ цели, действие. Рассмотрим все компоненты по порядку, исключая желание как страстную составляющую воли, рассмотренную в предыдущей главе.
Представление мотива отвечает нам на вопрос, почему мы это делаем. Однако, ответ на этот вопрос представляется несколько более сложным, чем это кажется на первый взгляд. Так, например, на вопрос кому-то, почему он хочет пойти учится, человек может ответить, потому что хочет знать то-то и то-то. Далее, если спросить, почему он хочет это знать, он может ответить, для того чтобы потом делать то-то и то-то. Далее, почему он хочет это сделать – потому, что хочет кем-то стать. Почему хочет стать именно таким (и станет ли научившись) – это уже более сложный вопрос, ответ на который не всегда можно получить. Но если и такой ответ будет получен, то ничто не помешает задать следующий вопрос и так до бесконечности, причем ответы будут все более далекими от исходного мотива, утрачивая объяснительную силу относительно нынешнего здесь и теперь осуществляемого действия.
Все вышесказанное свидетельствует на наш взгляд что конечный мотив наших действий ускользает от нас точно также, как конечный образ, или наиболее общий закон, а следовательно, любой наш мотив отражает незавершенность связи прошлого и будущего явления. Здесь ясно видна роль человека с его свободной волей как творца истории. Свою завершенность явление получает после совершения человеком действия во внешнем мире.
Перейдем теперь к анализу целей деятельности. Основная философская загадка процесса целеполагания заключается в том, что фактически причиной нынешних действий человека (или даже животного) выступает образ потребного будущего (образ цели), т. е. то, чего еще нет, и что будет только после совершения некоторых действий. Таким образом, нарушается обычная причинно-следственная упорядоченность этого мира, когда причина необходимо должна предшествовать следствию. На такое нарушение свойственного этому миру детерминизма в области психологии и физиологии поведения человека и животных указывали многие ученые, однако, нам не приходилось встречать достаточно обоснованных объяснений этого факта. Чаще всего исследователи процессов воли человека ограничиваются лишь эмпирической констатацией. С нашей точки зрения, однако, эта констатация требует некоторого уточнения. Действительно, то, что мы представляем себе в образе цели, составлено из элементов прошлого опыта, и, следовательно, к будущему никакого отношения не имеет. Когда же мы начинаем действовать, то все получается не совсем так, как мы представляли, а иногда совсем не так, образ цели постоянно изменяется в результате же получается нечто новое, чего мы изначально не знали. Присутствовало ли это новое в образе цели с самого начала? Несомненно, присутствовало, иначе никакая деятельность, точнее никакая целенаправленная деятельность, не смогла бы развиться. Но это новое, это будущее присутствовало не в структуре будущего времени, а в структуре настоящего, которое, как уже было сказано, не имеет длительности и может быть разрывно. Таким образом, снимается кажущаяся парадоксальность причинно-следственной связи в структуре психического, когда будущее (образ цели) якобы предшествует и является причиной прошлого (наличного действия). Ничего подобного не происходит, т. к. и образ потребного будущего и само действие развивается в структуре психологического настоящего, не имеющего длительности. Таким образом, спецификой волевых процессов с точки зрения психодинамики является то, что в элементарном волевом акте отражается прежде всего психологическое будущее в его отношении к настоящему. Когда же результат действия погружается в физическое время, т. е. наделяется связью прошлого и будущего, то возникает и новизна полученного результата относительно ранее созданного идеального образа цели. Следовательно, именно в волевом акте во всей полноте действования человека соединяется в единой структуре физическое и историческое (психологическое) время. Только здесь в реальной психодинамике взаимодействия субъекта (человека) и объекта (мира) время обретает всю свою полноту не только отдельно как физическое, измеряемое (связь прошлого и будущего) и не только отдельно как историческое (настоящее). При этом, как мы видели, в волевом акте присутствуют и когнитивные и эмоциональные составляющие, что и обеспечивает эту полноту исполнения времени.