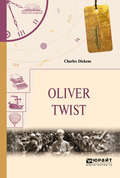Чарльз Диккенс
Тайна Эдвина Друда
Пока Эдвин говорит, мистер Джаспер, подпершись рукой, с задумчиво благосклонным видом смотрит на него, внимательно следя за каждым его жестом, вслушиваясь в каждую его интонацию. Даже когда Эдвин умолк, мистер Джаспер продолжает сидеть в той же позе, словно зачарованный; кажется, он не в силах оторвать взгляд от этого оживленного юношеского лица, которое так любит.
Потом он говорит с чуть заметной улыбкой:
– Значит, ты не хочешь, чтобы тебя предостерегали?
– Это не нужно, Джек.
– Значит, все мои предостережения тщетны?
– Я не хотел бы слышать их от тебя, Джек. Во-первых, никакая опасность мне не угрожает. А во-вторых, мне не нравится, что ты ставишь себя в такое положение.
– Пойдем прогуляемся по кладбищу?
– С удовольствием. Только я должен забежать на минутку в Женскую Обитель, оставить там пакетик для Киски. Всего лишь перчатки: столько пар, сколько ей сегодня исполнилось лет. Поэтично, да?
Мистер Джаспер, все еще не меняя позы, откликается:
– От милого все мило, Нэд.
– Вот он, пакетик, в кармане моего пальто. Но надо передать его сегодня, а то вся поэзия пропадет. Навещать пансионерок так поздно не разрешается, но оставить пакет можно.
Мистер Джаспер встает, стряхнув с себя оцепенение, и оба выходят.
Глава III
Женская обитель
По некоторым причинам, которые станут ясны из дальнейшего, мне придется дать этому городку со старинным собором вымышленное название. Пусть это будет хотя бы Клойстергэм. Городок этот очень древний, и, возможно, уже друиды знали его под каким-то, ныне забытым, именем; римляне дали ему другое, саксы третье, нормандцы четвертое; так что одним названием больше или меньше не составит разницы для его пыльных летописей.
Да, старинный городок этот Клойстергэм и совсем неподходящее место для тех, кого влечет к себе шумный свет. Тихий городок, словно бы неживой, весь пропитанный запахом сырости и плесени, исходящим от склепов в подземельях под собором; да и по всему городу то тут, то там виднеются следы древних монастырских могил; так что клойстергэмские ребятишки разводят садики на останках аббатов и аббатис и лепят пирожки из праха монахов и монахинь, а пахарь на ближнем поле оказывает государственным казначеям, епископам и архиепископам те же знаки внимания, какие людоед в детской сказке намеревался оказать своему незваному гостю – а именно: «Смолоть на муку его кости и хлеба себе напечь».
Сонный городок этот Клойстергэм: здешние жители, видимо, полагают, что раз город их такой древний, то все перемены для него уже в прошлом и больше никаких перемен не будет. Странное, казалось бы, рассуждение, и не слишком логичное, если вспомнить историю предшествующих столетий, однако такая непоследовательность вещь нередкая, и даже в самой глубокой древности люди склонны были тешить себя подобными надеждами. Такая нерушимая тишина царит на улицах Клойстергэма (хотя малейший звук будит здесь чуткое эхо), что в летний полдень даже парусиновые навесы над окнами лавок не дерзают шелохнуться под дуновением южного ветра; а опаленный солнцем бродяга, мимоходом забредший сюда, изумленно озирается по сторонам и убыстряет шаг, торопясь выбраться за пределы этого города с его угнетающим благолепием. Сделать это нетрудно, ибо Клойстергэм, в сущности, состоит из одной-единственной улицы – по ней входят в город и по ней из него выходят; остальное все тесные, заводящие в тупик проулки с красующимися по самой середине колодезными насосами; только два здания стоят здесь особняком – собор за высокой своей оградой да приютившийся в тенистом углу среди мощеного дворика молитвенный дом общины квакеров, по архитектуре и по окраске весьма похожий на чепчик квакерши.
Одним словом, Клойстергэм со своим хриплым соборным колоколом, со своими хриплыми грачами, реющими в вышине над соборной башней, и с другими своими грачами, еще более хриплыми, но не столь заметными, восседающими в креслах внизу в соборе, – это город, который принадлежит иной, уже далекой от нас эпохе. Остатки прошлого – развалины часовни, посвященной какому-нибудь святому, здания, где заседал капитул женской обители и мужского монастыря, – нелепо и уродливо вклиниваются здесь во все созданное позже; к полуразрушенным стенам пристроены новые дома, каменные обломки торчат, всему мешая, среди разросшихся вокруг садов; и точно так же в сознании многих обитателей Клойстергэма крепко угнездились обветшалые и отжившие понятия. Все здесь в прошлом. Даже единственный в городе ростовщик давно уже не выдает ссуд и только тщетно выставляет для продажи невыкупленные залоги, среди которых самое ценное – это несколько старых часов с бледными и мутными, словно раз навсегда запотевшими, циферблатами да еще почерневшие и разболтанные серебряные щипчики для сахара и пять-шесть разрозненных томов, должно быть, очень мрачного содержания. Единственное, что здесь радует глаз, как свидетельство победоносной и буйной жизни, это клойстергэмские сады; их много, и они процветают; даже влачащий жалкое существование местный театр имеет у себя на задах крохотный садик; и когда Сатана по ходу действия проваливается со сцены в преисподнюю, он находит приют на этом мирном клочке земли – под сенью красных бобов или на куче устричных раковин, смотря по сезону.
В самом центре Клойстергэма находится Женская Обитель – старый-престарый кирпичный дом, в котором, говорят, некогда жили монахини, откуда и пошло его название. На тяжелых дверях прибита старательно начищенная медная дощечка с надписью: «Пансион мисс Твинклтон для молодых девиц». Фасад у этого дома такой старый и облупленный, а медная дощечка сияет так ярко, что все вместе приводит на память дряхлого щеголя с новеньким блестящим моноклем в слепом глазу.
Возможно, что монахини былых времен, более смирные нравом, чем нынешнее упрямое поколение, в самом деле когда-то проходили неслышной поступью по коридорам этого дома, покорно склоняя свои отягченные думой головы, дабы избежать столкновения с низко нависшими потолочными балками; возможно, что они сиживали здесь в глубоких амбразурах окон, перебирая четки ради умерщвления плоти, вместо того чтобы сделать себе из них бусы для украшения своей юности; возможно даже, что две или три были замурованы живыми в стенных нишах или под каменным выступом фронтона за то, что в их жилах бродила еще та самая закваска, с помощью которой хлопотливая мать-природа доныне поддерживает жизнь на земле, – все это возможно, но кому до этого дело? Разве только привидениям (если таковые здесь водятся), а в полугодовых балансах мисс Твинклтон мы не найдем упоминания об этих древних обитательницах ее дома, ибо их нельзя включить ни в одну статью дохода – ни как полных пансионерок, ни как приходящих. И у той дамы, что за скромную (а точнее сказать, мизерную) плату просвещает воспитанниц по части поэзии, в списке избранных стихотворений нет ни одного, в котором затрагивалась бы столь бесприбыльная тема.
Известно, что у человека, который часто напивался пьян или неоднократно подвергался гипнозу, возникают в конце концов два разных сознания, не сообщающихся между собой, – как если бы каждое существовало отдельно и было непрерывным, а не сменялось по временам другим (так, например, если я спрятал часы, когда был пьян, в трезвом виде я не знаю, где они спрятаны, и узнаю, только когда опять напьюсь); так и жизнь мисс Твинклтон протекает как бы в двух раздельных планах или двух фазах существования. Каждый вечер, как только молодые девицы отойдут ко сну, мисс Твинклтон подкручивает свои локоны, слегка подводит глаза и превращается в совсем другую мисс Твинклтон, гораздо более легкомысленную и совершенно незнакомую ее пансионеркам. Каждый вечер, в один и тот же час, мисс Твинклтон возобновляет прерванную накануне беседу, посвященную местным любовным историям (о коих днем мисс Твинклтон даже не подозревает) и воспоминаниям об одном счастливом лете, проведенном мисс Твинклтон на курорте Тенбридж Уэллс, – именно о том лете, когда некий безупречный джентльмен (которого мисс Твинклтон в этой фазе своего существования сострадательно именует – «этот безумец, мистер Портерс») поверг к ее ногам свое сердце (опять-таки факт, о котором дневная мисс Твинклтон имеет не больше понятия, чем гранитная колонна). Собеседницей мисс Твинклтон в обеих фазах ее существования является некая миссис Тишер – вдова с вкрадчивыми манерами и приглушенным голосом, с наклонностью испускать вздохи и жаловаться на боли в пояснице; эта почтенная дама, сумевшая равно приспособиться как к дневной, так и к ночной мисс Твинклтон, занимает в ее пансионе должность кастелянши, но старается внушить молодым девицам, что знавала лучшие дни. Вероятно, эти туманные намеки и породили господствующее среди служанок и передаваемое ими из уст в уста убеждение, что покойный мистер Тишер был парикмахером.
В пансионе есть общая любимица – мисс Роза Буттон, которую все, конечно, зовут Розовый Бутон, – очень хорошенькая, очень юная и очень своенравная. Молодые девицы питают к ней живейший интерес, ибо им известно, что по воле родителей, должным образом записанной в завещании, для нее уже избран супруг, и опекун Розы обязан, так сказать, из рук в руки передать ее этому будущему супругу, когда тот достигнет совершеннолетия. Подобные романтические настроения среди воспитанниц не встречают сочувствия со стороны мисс Твинклтон в дневной фазе ее существования, и она уже не раз пыталась их умерить, сокрушенно покачивая головой за спиной мисс Розы – очень хорошенькой стройной спинкой – и всем своим видом показывая, что глубоко сожалеет о печальной участи обреченной жертвы. Но результат ее поучений всегда был столь ничтожен – быть может, незримое вмешательство «этого безумца, мистера Портерса» лишало их убежденности, – что вечером в спальнях девицы единодушно постановляли: «До чего же противная притворяшка эта старая мисс Твинклтон!»
Всякий раз как этот предназначенный супруг наносит очередной визит Розовому Бутончику, вся Женская Обитель приходит в волнение. (Девицы твердо убеждены, что он по закону имеет неоспоримое право на свидания с Розой, и если бы мисс Твинклтон вздумала ему препятствовать, ее бы немедленно арестовали и выслали в колонии.) В тот час, когда ожидают его звонка у ворот, и тем более в ту минуту, когда звонок раздается, все молодые девицы, которые могут под каким-нибудь предлогом выглянуть в окошко, уже висят на подоконниках; а те, которые играют на фортепиано, сбиваются с такта; а на уроке французского языка штрафной значок «за невнимание» переходит из рук в руки, словно круговая чаша во время пирушки.
На другой день после того как в домике над соборными воротами происходил описанный выше обед с двумя участниками, у дверей Женской Обители раздается звонок, как всегда порождая внутри смятение.
– Мистер Эдвин Друд к мисс Розе, – докладывает старшая горничная.
Мисс Твинклтон, приняв назидательно-скорбный вид, обращается к юной жертве со словами: «Вы можете сойти вниз, дорогая». Мисс Буттон направляется к лестнице, провожаемая горящими любопытством взглядами.
Мистер Эдвин Друд дожидается в собственной гостиной мисс Твинклтон. Это уютная комнатка, в которой ничто не говорит о науке, кроме двух глобусов, один из коих изображает Землю, а другой – небесный свод. Эти выразительные приборы должны внушать родителям и опекунам убеждение, что мисс Твинклтон даже в часы отдыха готова в любой момент превратиться в некое подобие Вечного Жида и блуждать по земному шару или возноситься в небеса в поисках полезных знаний для своих воспитанниц.
Младшая горничная, недавно поступившая на место и еще не видавшая молодого джентльмена, с которым помолвлена мисс Роза, пытается теперь ознакомиться с ним сквозь щелку неплотно притворенной двери. Заслышав шаги, она отскакивает с виноватым видом и торопливо сбегает по черной лестнице как раз в ту минуту, когда прелестное видение с наброшенным на голову шелковым фартучком проскальзывает в гостиную.
– Господи, как глупо! – произносит видение, останавливаясь и отступая на шаг назад. – Пожалуйста, не делай этого, Эдди!
– Не делать чего, Роза?
– Не подходи ко мне близко. Это так нелепо!
– Что нелепо, Роза?
– Все! Нелепо, что я обручена чуть не с колыбели; нелепо, что девицы и служанки всюду шныряют за мной, словно мыши под обоями; а всего нелепей, что ты пришел!
Судя по голосу, видение в эту минуту держит пальчик во рту.
– Ты что-то не очень любезно встречаешь меня, Киска!
– Подожди минутку, я буду любезней, только сейчас еще не могу. Как ты себя чувствуешь? (Это сказано очень сухо.)
– Я лишен возможности ответить, что всегда чувствую себя хорошо, когда тебя вижу, поскольку в данную минуту я тебя не вижу.
В ответ на этот вторичный упрек из-под фартучка на мгновение выглядывает блестящий черный глаз с капризно насупленной бровкой, но он тут же скрывается, и безликое видение восклицает:
– Ах, боже мой, ты остригся! Половину волос отрезал!
– Кажется, я бы лучше сделал, если бы голову себе отрезал, – говорит Эдвин, ероша помянутые волосы, с досадливым взглядом в сторону зеркала, и нетерпеливо топает ногой. – Что, мне уйти?
– Нет, пока еще не надо, Эдди. А то девицы станут спрашивать, почему ты ушел.
– Слушай, Роза, скажи наконец – намерена ты снять эту тряпку со своей взбалмошной головки и поздороваться со мной как следует?
Фартучек падает, из-под него появляется на свет прелестное детское личико, и обладательница его говорит:
– Здравствуй, Эдди, как поживаешь? Ну? Кажется, это достаточно любезно? Дай я пожму тебе руку. А поцеловать не могу, потому что у меня во рту леденец.
– Ты совсем не рада меня видеть, Киска?
– Ах нет, я ужасно рада. Пойди скорее сядь – мисс Твинклтон!
Эта почтенная дама имеет обычай во время свиданий жениха с невестой через каждые три минуты наведываться в гостиную, либо собственной персоной, либо в лице миссис Тишер; совершая эти жертвоприношения на алтарь Приличий, она всегда делает вид, что ищет какую-то забытую здесь вещь. На сей раз она грациозно проплывает взад и вперед по гостиной, роняя на ходу:
– Здравствуйте, мистер Друд. Очень приятно. Извините за беспокойство. А, вот где мой пинцет. Благодарю вас.
– Я получила вчера перчатки, Эдди. Они мне очень понравились. Просто душки!
– Ну и то хорошо, – смягчаясь, но еще несколько ворчливо отвечает жених. – Я человек скромный и благодарен за малейшее поощрение. А как ты провела свой день рождения, Киска?
– Чудно! Все мне что-нибудь дарили. И у нас было угощение. А вечером бал.
– Вот как. Угощение, а вечером бал. И ты не огорчалась моим отсутствием? Тебе и без меня было весело?
– Ах, очень! – с наивной непосредственностью восклицает Роза; ей и в голову не приходит хотя бы из вежливости выразить сожаление.
– Гм! А какое было угощение?
– Пирожное, апельсины, желе и креветки.
– А кавалеры были на балу?
– Мы, разумеется, танцевали друг с дружкой, сэр. Но некоторые девицы изображали своих братьев. Ах, как было смешно!
– А кто-нибудь изображал…
– Тебя? Ну конечно! – Роза звонко хохочет. – Уж об этом-то они раньше всего подумали!
– Надеюсь, она хорошо играла свою роль, – с некоторым сомнением говорит Эдвин.
– Чудно! Замечательно! Я, конечно, ни за что не хотела танцевать с тобой.
Эдвин отказывается понять неизбежность этого факта и спрашивает, не будет ли Роза так добра объяснить почему?
– Ну, потому, что ты мне ужас как надоел, – быстро отвечает Роза, но, видя выражение обиды на его лице, тотчас умиротворяюще добавляет: – Эдди, милый, я ведь тебе тоже ужас как надоела.
– Разве я когда-нибудь это говорил?
– Говорил? Нет, ты никогда не говорил, только показывал. Ах, как она хорошо это изобразила! – восклицает Роза, снова приходя в восторг от сценических талантов своего поддельного жениха.
– Насколько я понимаю, эта девица большая нахалка, – говорит Эдвин Друд. – Итак, Киска, ты в последний раз встречала свой день рождения в этом старом доме.
– Ах!.. Да!.. – со вздохом откликается Роза и, сложив ручки и потупив глаза, грустно покачивает головой.
– Ты как будто об этом жалеешь, Роза?
– А мне и правда жаль… Жаль этот бедный старый дом… Мне все кажется – он будет скучать по мне, когда я уеду так далеко… такая молодая…
– Роза! Так, может, нам отставить все это дело?
Она кидает на него быстрый, проницательный взгляд; потом снова качает головой, вздыхает и потупляет глаза.
– Как это понимать, Киска? Что мы оба должны смириться?
Она опять кивает, молчит минуту и вдруг выпаливает:
– Ты же сам знаешь, Эдди, что мы должны пожениться и свадьба должна быть здесь, а то девицы будут так разочарованы!
Лицо ее жениха выражает в эту минуту не столько любовь, сколько жалость и к ней и к себе. Потом он заставляет себя улыбнуться и говорит:
– Хочешь, пойдем погуляем, милая Роза?
Милая Роза не знает, хочет она этого или нет; но вдруг ее личико светлеет, утрачивая столь несвойственное ей и потому несколько комическое выражение озабоченности, и она с живостью говорит:
– Хорошо, Эдди, пойдем! И знаешь что? Ты притворись, будто помолвлен с другой, а я притворюсь, будто ни с кем не помолвлена, тогда мы не будем ссориться.
– Ты думаешь, это поможет, Роза?
– Поможет, поможет, я знаю! Тсс! Сделай вид, что смотришь в окно – миссис Тишер!..
Миссис Тишер, которой, по случайному совпадению, именно в эту минуту что-то понадобилось в гостиной, величаво делает тур по комнате, сопровождаемая зловещим шелестом, подобно легендарному призраку старой герцогини в шелковых юбках.
– Надеюсь, вы здоровы, мистер Друд, впрочем, незачем и спрашивать, довольно посмотреть на вас. Не хотелось бы вас беспокоить, но тут был ножик для разрезания бумаги… Ах, вот, благодарю вас!.. – И она исчезает со своей добычей.
– И еще одно, пожалуйста, сделай для меня, Эдди, – говорит Роза. – Когда мы выйдем на улицу, я пойду по наружной стороне тротуара, а ты иди у самой стены дома – прямо-таки прижмись к ней, прилипни!
– Охотно, Роза, если это доставит тебе удовольствие. Но можно спросить, почему?
– Ну потому, что я не хочу, чтобы девицы тебя видели.
– Гм! Сегодня, правда, хорошая погода, но, может быть, мне раскрыть над собой зонтик?
– Не говорите глупостей, сэр. – И, передернув плечиком, она капризно добавляет: – Ты сегодня не в лаковых туфлях.
– А может быть, твои девицы этого не заметят, даже если увидят меня? – спрашивает Эдвин, с внезапным отвращением поглядывая на свои туфли.
– Они все замечают, сэр. И тогда я знаю, что будет. Сейчас же какая-нибудь постарается меня уколоть – они ведь очень дерзкие! – скажет, что ни за что не обручилась бы с человеком, который не носит лаковых туфель. Берегись! Мисс Твинклтон. Я сейчас попрошу у нее разрешения.
Голос этой тактичной дамы уже слышен в коридоре, где она непринужденно светским тоном осведомляется у несуществующего собеседника: «Ах да? Вы в самом деле видели мою перламутровую коробочку для пуговиц на рабочем столике в моей гостиной?»
Она милостиво дает разрешение на прогулку, и юная пара покидает Женскую Обитель, приняв все необходимые меры для сокрытия от глаз молодых девиц столь существенного изъяна в обуви мистера Эдвина Друда и для восстановления душевного спокойствия будущей миссис Эдвин Друд.
– Куда мы пойдем, Роза?
Роза отвечает:
– Сперва в лавочку, где продают рахат-лукум.
– Рахат что?..
– Рахат-лукум. Это турецкие сладости, сэр. Да ты, я вижу, совсем необразованный. Какой же ты инженер, если даже этого не знаешь?
– Почему я должен знать про какой-то рахат-лукум?
– Потому что я его очень люблю. Ах да, я забыла, ты ведь обручен с другой. Ну тогда можешь не знать, ты не обязан.
Помрачневшего Эдвина ведут в лавочку, где Роза совершает свою покупку и, предложив Эдвину отведать рахат-лукума (что он возмущенно отвергает), сама принимается с видимым наслаждением угощаться; предварительно сняв и скатав в комочек пару крохотных розовых перчаток, похожих на розовые лепестки, и время от времени поднося к румяным губкам свои крохотные розовые пальчики, и облизывая сахарную пудру, попавшую на них от соприкосновения с рахат-лукумом.
– Ну, Эдди, будь же паинькой, давай разговаривать. Так, значит, ты обручен?
– Значит, обручен.
– Она хороша собой?
– Очаровательна.
– Высокая?
– Очень высокая. (Роза маленького роста.)
– Ага, значит, долговязая, как цапля, – кротким голоском вставляет Роза.
– Извините, ничего подобного. – Дух противоречия пробуждается в Эдвине. – Она то, что называется видная женщина. Тип классической красоты.
– С большим носом? – невозмутимо уточняет Роза.
– Да уж, конечно, не с маленьким, – следует быстрый ответ. (У Розы носик совсем крохотный.)
– Ну да, длинный бледный нос с красной шишечкой на конце. Знаю я эти носы, – говорит Роза, удовлетворенно кивая и продолжая безмятежно лакомиться рахат-лукумом.
– Нет, ты не знаешь этих носов, – возражает ее собеседник с некоторым жаром. – У нее нос совсем не такой.
– Он не бледный?
– Нет. – В голосе Эдвина звучит твердое намерение ни с чем не соглашаться.
– Значит, красный? Фу, я не люблю красных носов. Правда, она может его припудрить.
– Она никогда не пудрится. – Эдвин все более разгорячается.
– Никогда не пудрится? Вот глупая! Скажи, она и во всем такая же глупая?
– Нет. Ни в чем.
После молчания, во время которого лукавый черный глазок искоса следит за Эдвином, Роза говорит:
– И эта примерная девица, конечно, очень довольна, что ее увезут в Египет? Да, Эдди?
– Она проявляет разумный интерес к достижениям инженерного искусства, в особенности когда оно призвано в корне перестроить всю жизнь малоразвитой страны.
– Да неужели? – Роза пожимает плечиками со смешком, выражающим крайнее изумление.
– Скажи, пожалуйста, Роза, – осведомляется Эдвин, величественно опуская взор к воздушной фигурке, скользящей рядом с ним, – скажи, пожалуйста, ты имеешь какие-нибудь возражения против того, что она питает подобный интерес?
– Возражения? Милый мой Эдди! Но ведь она же, наверно, ненавидит котлы и всякое такое?
– Она не такая идиотка, чтобы ненавидеть котлы, за это я ручаюсь, – уже с сердцем отвечает Эдвин. – Что же касается ее взглядов на «всякое такое», то тут я ничего не могу сказать, так как не понимаю, что это значит.
– Ну там… арабы, турки, феллахи… она их ненавидит, да?
– Нет. Даже и не думает.
– Ну а пирамиды? Уж их-то она наверняка ненавидит? Сознайся, Эдди!
– Не понимаю, почему она должна быть такой маленькой… нет, большой дурочкой и ненавидеть пирамиды?
– Ох, ты бы послушал, как мисс Твинклтон про них долдонит, – Роза кивает головкой, по-прежнему с упоением смакуя осыпанные сахарной пудрой липкие комочки, – тогда бы ты не спрашивал! А что в них интересного, просто старые кладбища! Всякие там Изиды и абсиды, Аммоны и фараоны! Кому они нужны? А то еще был там Бельцони[3], или как его звали, – его за ноги вытащили из пирамиды, где он чуть не задохся от пыли и летучих мышей. У нас все девицы говорят, так ему и надо, и пусть бы ему было еще хуже, и жаль, что он совсем там не удушился!
Юноша и девушка скучливо бродят по аллеям в ограде собора – они идут рядом, но уже не под руку, – и время от времени то он, то она останавливается и рассеянно ворошит ногой опавшие листья.
– Ну! – говорит Эдвин после долгого молчания. – Как всегда. Ничего у нас с тобой не получается, Роза.
Роза вскидывает головку и говорит, что и не хочет, чтобы получалось.
– А вот это уж нехорошо, Роза, особенно если принять во внимание…
– Что принять во внимание?
– Если я скажу, ты опять рассердишься.
– Я вовсе не сердилась, это ты сердился. Не будь несправедливым, Эдди.
– Несправедливым! Я! Это мне нравится!
– Ну а мне это не нравится, и я так прямо тебе и говорю. – Роза обиженно надувает губки.
– Но послушай, Роза, рассуди сама! Ты только что пренебрежительно отзывалась о моей профессии, о моем месте назначения…
– А ты разве собираешься захорониться в пирамидах? – перебивает Роза, удивленно выгибая свои тонкие брови. – Ты мне никогда не говорил. Если собираешься, надо было меня предупредить. Я не могу знать твоих намерений.
– Ну полно, Роза, ты же отлично понимаешь, что я хотел сказать.
– А в таком случае, зачем ты приплел сюда свою противную красноносую великаншу? И она будет, будет, будет пудрить себе нос! – запальчиво кричит Роза в комической вспышке упрямства.
– Почему-то в наших спорах я всегда оказываюсь неправым, – смиряясь, говорит со вздохом Эдвин.
– А как ты можешь оказаться правым, если ты всегда не прав? А что до этого Бельцони, так он, кажется, уже умер – надеюсь, во всяком случае, что умер, – и я не понимаю, какая тебе обида в том, что его тащили за ноги и что он задохся?
– Пожалуй, нам уже пора возвращаться, Роза. Не очень приятная вышла у нас прогулка, а?
– Приятная?.. Ужасная, отвратительная! И если я, как только вернусь, сейчас же убегу наверх и буду плакать, плакать, плакать, так что и на урок танцев не смогу выйти, так это будет твоя вина, имей в виду!
– Роза, милая! Ну разве мы не можем быть друзьями?
– Ах! – восклицает Роза, тряся головой и в самом деле уже заливаясь слезами. – Если б мы могли быть просто друзьями! Но нам нельзя – и от этого все у нас не ладится. Эдди, я еще так молода, за что мне такое большое горе?.. Иногда у меня бывает так тяжело на сердце! Не сердись, я знаю, что и тебе нелегко. Насколько было бы лучше, если б мы не обязаны были пожениться, а только могли бы, если б захотели! Я сейчас говорю серьезно, я не дразню тебя. Попробуем хоть на этот раз быть терпеливыми, простим друг другу, если кто в чем виноват!
Обезоруженный этим проблеском женских чувств в избалованном ребенке – хотя и слегка задетый заключенным в ее словах напоминанием о том, что он насильственно ей навязан, – Эдвин молча смотрит, как она плачет и рыдает, обеими руками прижимая платок к лицу; потом она немного успокаивается; потом, изменчивая, как дитя, уже смеется над собственной чувствительностью. Тогда Эдвин берет ее под руку и ведет к ближайшей скамейке под вязами.
– Милая Киска! Давай поговорим по душам. Я мало что знаю, кроме своего инженерного дела – да и в нем-то, может, не бог знает как сведущ, – но я всегда стараюсь поступать по совести. Скажи мне, Киска: нет ли кого-нибудь… ведь это может быть… право, не знаю, как и приступиться к тому, что я хочу сказать… Но я должен, прежде чем мы расстанемся… одним словом, нет ли какого-нибудь другого молодого…
– Нет, Эдди, нет! Это очень великодушно с твоей стороны, что ты спрашиваешь, но – нет, нет, нет!
Скамейка, на которую они сели, находится под самыми окнами собора, и в это мгновение широкая волна звуков – орган и хор – проносится над их головами. Оба сидят и слушают, как растет и вздымается торжественный напев; в памяти Эдвина вновь оживают признания, услышанные им прошлой ночью, и он сызнова удивляется: как мало общего между этой музыкой и мучительным разладом в душе того человека!
– Мне кажется, я различаю голос Джека, – тихо говорит он в связи с промелькнувшими в его голове мыслями.
– Эдди! Уведи меня отсюда! – вдруг умоляюще говорит Роза и быстрым, легким движением касается его руки. – Они все сейчас выйдут, уйдем скорее! О, как гремит этот аккорд! Но не надо слушать, уйдем! Скорей, скорей!
Ее торопливость ослабевает, как только они оказываются за оградой собора. Теперь они идут под руку, размеренно и степенно, вдоль по Главной улице к Женской Обители. У ворот Эдвин оглядывается – улица пуста – и наклоняется к Розовому Бутончику.
Но она отстраняется, смеясь, – и сейчас она опять лишь дитя, беззаботная школьница.
– Нет, Эдди! Меня нельзя целовать, я слишком липкая! Но дай руку, я надышу тебе в нее поцелуй!
Он протягивает ей руку. Она подносит ее к губам – легкое дыхание касается его сложенных горсткой пальцев; потом, все еще держа его руку, она пытливо заглядывает ему в ладонь.
– Ну, Эдди, скажи, что ты там видишь?
– Что я могу увидеть, Роза?
– А я думала, вы, египтяне, умеете гадать по руке – только посмотрите на ладонь и сразу видите все, что будет с человеком. Ты не видишь там нашего счастливого будущего?
Счастливое будущее? Быть может! Но достоверно одно: что настоящее никому из них не кажется счастливым в тот момент, когда растворяются и снова затворяются тяжелые двери, и она исчезает в доме, а он медленно уходит прочь.