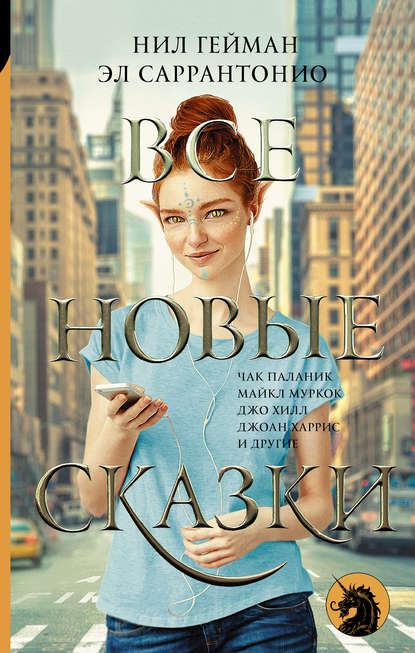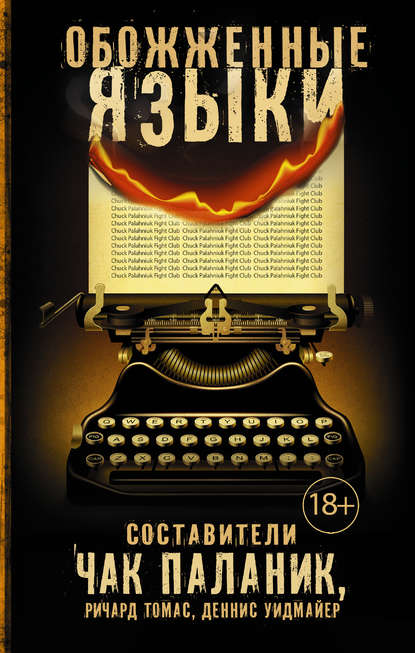Полная версия:
Чак Паланик Бойцовский клуб
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Чак Паланик
Бойцовский клуб
Роман
Chuck Palahniuk
Fight club
© Chuck Palahniuk, 1999
© Перевод. К. Егорова, 2018
© Издание на русском языке AST Publishers, 2019
1
Тайлер находит для меня работу официанта, после чего сует мне в рот пушку и говорит: первый шаг к вечной жизни – смерть. А ведь мы с Тайлером были закадычными друзьями. Люди вечно спрашивают, знал ли я Тайлера Дердана.
Прижимая дуло пистолета к моему нёбу, Тайлер говорит:
– На самом деле мы не умираем.
Языком я чувствую дырки-глушители, которые мы просверлили в стволе. Основной шум при выстреле производят расширяющиеся газы; кроме того, есть еще звуковой удар от быстро летящей пули. Чтобы сделать глушитель, нужно просто просверлить в стволе пушки дырки. Много дырок. Тогда газы выйдут, а скорость пули будет меньше скорости звука.
Если просверлишь дырки неправильно, пушка взорвется в руке.
– На самом деле это не смерть, – добавляет Тайлер. – Мы станем легендой. Никогда не состаримся.
Я прижимаю языком ствол к щеке и отвечаю:
– Тайлер, это про вампиров.
Через десять минут здание, на котором мы стоим, исчезнет. Возьми курящуюся девяностовосьмипроцентную азотную кислоту и смешай с серной в пропорции один к трем. Все это на ледяной бане. Затем глазной пипеткой по каплям добавь глицерин. Получишь нитроглицерин. Я знаю это, потому что знает Тайлер. Смешай нитроглицерин с опилками – и вот она, добрая пластичная взрывчатка. Многие ребята смешивают нитроглицерин с хлопком и добавляют в качестве сульфата английскую соль. Это тоже работает. Другие парни используют парафин в смеси с нитроглицерином. У меня с парафином никогда ничего не получалось.
В общем, мы с Тайлером стоим на крыше Паркер-Моррис-билдинг, я – с пистолетом во рту, и слышим, как разбивается стекло. Загляни за край. Сегодня облачно, даже наверху. Это самый высокий небоскреб в мире, и на такой высоте ветер всегда холодный. Здесь так тихо, что чувствуешь себя мартышкой-астронавтом. Выполняешь простые задания, каким тебя обучили.
Дернуть за рычаг.
Нажать кнопку.
Ты не понимаешь, что делаешь, а потом просто умираешь.
Смотришь за край с высоты ста девяноста первого этажа и видишь, что улица внизу превратилась в пятнистый ковер людей, которые стоят и таращатся вверх. Бьющееся стекло – это окно прямо под нами. Окно на боковой стороне здания разбивается, и вылетает картотека, огромная, будто черный холодильник. Прямо под нами картотека с шестью ящиками срывается с отвесного обрыва стены и падает, медленно переворачиваясь, становясь все меньше, исчезая в плотной толпе.
Где-то под нами мартышки-астронавты из Комитета шалостей проекта «Хаос» носятся сломя голову по ста девяноста одному этажу, уничтожая обрывки истории. Похоже, старая поговорка насчет того, что любимых всегда ранишь сильнее, работает в обе стороны.
С дулом пистолета во рту и стволом между зубами произносить можно только гласные.
Нам осталось десять минут.
Из здания вылетает еще одно окно, осколки стекла напоминают вспугнутую голубиную стаю. За ними дюйм за дюймом вылезает темный деревянный стол, подталкиваемый Комитетом шалостей. Наконец стол накреняется, скользит и превращается в кувыркающийся летучий магический предмет, который исчезает в толпе.
Через девять минут от Паркер-Моррис-билдинг ничего не останется. Если взять нужное количество гремучего студня и обернуть фундаментные столбы, то можно обрушить любое здание. Но не забудьте хорошенько обложить все это дело мешками с песком, чтобы взрыв пришелся на столб, а не на парковку вокруг него.
Подобных советов нет ни в одном учебнике истории.
Три способа приготовить напалм. Первый: смешать в равных пропорциях бензин и замороженный концентрат апельсинового сока. Второй: смешать в равных пропорциях бензин и диетическую колу. Третий: сыпать раскрошенный наполнитель для кошачьего лотка в бензин, пока не загустеет.
Спросите меня, как сделать нервно-паралитический газ. Ах, эти безумные автомобили, начиненные взрывчаткой!
Девять минут.
Паркер-Моррис-билдинг сложится всем ста девяноста одним этажом, медленно, как падающее в лесу дерево. Обрушить можно что угодно. Странно представить, что место, на котором мы стоим, превратится в точку в небесах.
Мы с Тайлером находимся на краю крыши, у меня во рту пистолет, и я гадаю, насколько он чистый. Мы напрочь забываем про убийственно-суицидальные заморочки Тайлера, глядя, как из здания выскальзывает очередная картотека, ее ящики выдвигаются, и ветер подхватывает и уносит листы белой бумаги.
Восемь минут.
Из открытых окон начинает сочиться дым. Подрывная команда подорвет запальный заряд примерно через восемь минут. Запальный заряд подорвет основной, фундаментные столбы рухнут, и серия снимков с Паркер-Моррис-билдинг войдет во все учебники истории.
Пять кадров, цейтраферная съемка. Вот здание стоит. На второй картинке – кренится на восемьдесят градусов. Потом на семьдесят. На четвертой – на сорок пять, и несущая конструкция начинает трещать, а башня – выгибаться. Последний кадр: башня всем своим ста девяноста одним этажом падает на Национальный музей, а он и есть истинная цель Тайлера.
– Теперь это наш мир, наш, – говорит он. – А эти древние люди мертвы.
Если бы я знал, чем все обернется, предпочел бы сейчас быть мертвым и на Небесах.
Семь минут.
На крыше Паркер-Моррис-билдинг, с дулом пистолета во рту. Метеоритный дождь столов, картотек и компьютеров падает на толпу вокруг здания, дым клубится из выбитых окон, в трех кварталах дальше по улице подрывная команда смотрит на часы, а я знаю: все это – пушка, анархия, взрыв – из-за Марлы Сингер.
Шесть минут.
У нас тут нечто вроде любовного треугольника. Я хочу Тайлера. Он хочет Марлу. Марла хочет меня. Я не хочу Марлу, а Тайлер не хочет меня. Больше не хочет. Дело не в любви и заботе, а в собственности и обладании.
Без Марлы у Тайлера ничего не останется.
Пять минут.
Вероятно, мы станем легендой, а может, и нет. Я бы сказал, нет, но поглядим.
Где был бы Иисус, если бы никто не написал Евангелия?
Четыре минуты.
Языком отталкиваю дуло к щеке и говорю: хочешь стать легендой, Тайлер? Друг, я об этом позабочусь. Я был здесь с самого начала.
Я помню все.
Три минуты.
2
Мощные руки Боба сомкнулись вокруг меня, и в темноте я оказался зажат между его новыми потными сиськами, необъятными, как Господь Бог. Каждый вечер мы встречались в церковном подвале, полном мужчин: это Арт, это Пол, это Боб. Широкие плечи Боба наводили меня на мысли о горизонте. Густые светлые волосы Боба были результатом того, что получается, когда гель для волос именует себя моделирующим муссом. Такие густые и светлые, с таким ровным пробором.
Обхватив меня руками, Боб гладит меня по голове, прижимая к сучьему вымени, проросшему на его груди-бочке.
– Все будет хорошо, – говорит он. – Поплачь.
Всем телом я ощущаю, как химические реакции внутри Боба сжигают пищу и кислород.
– Может, они успели вовремя, – продолжает Боб. – Может, это просто семинома. При семиноме выживаемость – почти сто процентов.
Плечи Боба распрямляются в длинном вдохе, а затем никнут, никнут, никнут в судорожных рыданиях. Распрямляются. Никнут, никнут, никнут.
– Поплачь, – говорит Боб, и вдыхает, и всхлипывает, всхлипывает, всхлипывает. – Давай, поплачь.
Большое влажное лицо опускается на мою макушку, скрывая меня внутри. Сейчас я заплачу. Слезы всегда близко, когда ты в душной темноте, внутри кого-то другого, когда понимаешь, что все, чего ты мог достичь, пойдет прахом.
Все, чем гордился, отправится на помойку.
И я скрыт внутри.
Почти неделю я не был так близок ко сну.
Вот так я встретил Марлу Сингер.
Боб плачет, потому что шесть месяцев назад ему удалили яички. Потом – гормональная поддерживающая терапия. У Боба выросла грудь, поскольку у него слишком высокий тестостерон. Подними уровень тестостерона выше нормы – и в поисках равновесия тело начнет усиленно вырабатывать эстроген.
Сейчас я заплачу, ведь вся жизнь сводится к пустому месту, даже не к пустому месту – к забвению.
Слишком много эстрогена – и у тебя вырастет сучье вымя.
Легко заплакать, когда понимаешь, что все, кого ты любишь, отвернутся от тебя или умрут. В долгосрочной перспективе любая выживаемость стремится к нулю.
Боб любит меня, потому что думает, что мне тоже удалили яички.
Вокруг нас в подвале епископальной церкви Святой Троицы, заставленном дешевыми клетчатыми диванами, собралось около двух десятков мужчин и всего одна женщина. Все держатся по двое, большинство плачут. Некоторые пары наклонились вперед, прижавшись друг к другу ушами, словно борцы. Мужчина с единственной женщиной положил локти ей на плечи – по локтю с каждой стороны головы – и плачет, уткнувшись лицом ей в шею. Женщина поворачивает голову, поднимает сигарету.
Я выглядываю из подмышки Большого Боба.
– Вся моя жизнь, – всхлипывает он. – Сам не знаю, зачем я это делаю.
Единственная женщина в «Останемся мужчинами вместе» – группе поддержки больных раком яичек, – эта придавленная незнакомцем женщина курит сигарету и встречается со мной взглядом.
Притворщик.
Притворщик.
Притворщик.
Огромные глаза, как в японских мультиках, тусклые короткие черные волосы, постная, как снятое молоко, желтушная, как пахта, в платье с обойным узором из темных роз. Эта женщина была в моей группе поддержки больных туберкулезом вечером по пятницам. И за круглым столом меланомы вечером по средам. Вечером по понедельникам она была в моем лейкемическом дискуссионном кружке «Крепкая вера». Пробор на ее голове напоминает кривую молнию белого скальпа.
У всех этих групп поддержки – смутно-оптимистичные названия. Моя группа паразитов крови, вечером по четвергам, называется «Свободный и чистый».
Моя группа мозговых паразитов называется «Выше и дальше».
И воскресным вечером, на встрече «Останемся мужчинами вместе» в подвале епископальной церкви Святой Троицы, – эта женщина снова здесь.
Хуже того: я не могу плакать, когда она смотрит на меня.
Это должна быть самая лучшая часть – Большой Боб обнимает меня, и мы вместе безнадежно рыдаем. Мы все так усердно работаем. Это единственное место, где я могу расслабиться и сдаться.
Это мои каникулы.
В первую группу поддержки я пришел два года назад, после того как снова посетил врача по поводу бессонницы.
Я не спал три недели. Три недели без сна – и вся твоя жизнь превращается во внетелесный опыт. Доктор объяснил: «Бессонница – лишь симптом чего-то более серьезного. Выясни, в чем настоящая проблема. Слушай свое тело».
Я просто хотел спать. Хотел маленькие голубые капсулы амобарбитала, по двести миллиграммов. Хотел красно-синие капсулы туинала, ярко-алый секонал.
Доктор велел мне жевать корень валерианы и больше двигаться. Сказал, что в конце концов я засну.
Мое синюшное, сморщенное лицо напоминало лицо трупа.
Доктор сказал: если я желаю увидеть настоящие страдания, мне следует заглянуть в Первое причастие вечером во вторник. Посмотреть на мозговых паразитов. На дегенеративные костные болезни. На органический мозговой синдром. На то, как поживают раковые больные.
И я пошел.
В первой группе люди знакомились друг с другом: это Элис, это Бренда, это Довер. Все улыбались с приставленным к голове невидимым пистолетом.
Я никогда не называю своего настоящего имени в группах поддержки.
Маленькая женщина-скелет по имени Хлоя, в печально обвисших штанах, говорит мне: самое ужасное в мозговых паразитах – то, что никто не хочет заниматься с ней сексом. Она одной ногой в могиле – даже ее страховая разродилась семьюдесятью пятью тысячами баксов, – и чего желает Хлоя? В последний раз потрахаться. Ей нужна не близость, а секс.
Что может на это сказать мужик? Что бы вы сказали?
Началось с того, что Хлоя почувствовала себя немного усталой – а теперь ей настолько все опостылело, что она не хочет лечиться. Порнофильмы – у нее дома куча порнофильмов.
Во время Великой французской революции, сообщила мне Хлоя, женщины-заключенные – герцогини, баронессы, маркизы и прочие – трахались с любым, кто на них залезет. Хлоя дышала мне в шею. Пора платить по счетам. Трах убивает время.
Маленькая смерть, так это называют французы.
Если мне интересно, у Хлои были порнофильмы. Амилнитрит. Смазка.
При обычных обстоятельствах у меня возникла бы эрекция. Однако наша Хлоя – скелет, покрытый желтым воском. С учетом того, как она выглядит, я – ничто. Даже меньше, чем ничто. Но плечо Хлои тычется в мое плечо, когда мы сидим кружком на ворсистом ковре. Мы закрываем глаза. Очередь Хлои вести медитацию, и она рассказывает про сад спокойствия. Мы поднимаемся на холм к дворцу, в котором семь дверей. Внутри дворца – семь дверей: зеленая дверь, желтая дверь, оранжевая дверь; вместе с Хлоей мы открываем каждую – синяя дверь, красная дверь, белая дверь – и смотрим, что за ними скрывается.
Закрыв глаза, мы представляем свою боль шаром белого целительного света, парящим у наших ног, поднимающимся к нашим коленям, поясу, груди. Наши чакры раскрываются. Сердечная чакра. Головная чакра. Хлоя ведет нас в пещеры, где мы встречаем своих тотемных животных. Мой тотем – пингвин.
Пол пещеры был покрыт льдом, и пингвин сказал: скользите. Без каких-либо усилий мы заскользили по туннелям и галереям.
Потом настало время обниматься. Открыть глаза.
Это терапевтический физический контакт, объяснила Хлоя. Каждый должен выбрать себе партнера. Хлоя кинулась мне на шею и зарыдала. У нее дома было эротическое нижнее белье. Она плакала. У Хлои были масла` и наручники, и она плакала, а я смотрел, как секундная стрелка моих часов совершает одиннадцать оборотов.
В общем, я не плакал в своей первой группе поддержки два года назад. Не плакал во второй или в третьей. Не плакал на паразитах крови, или раке кишечника, или органическом мозговом синдроме.
Бессонница – она такая. Все кажется очень далеким, копией копии копии. На расстоянии бессонницы от мира ты ни до чего не можешь дотронуться, и ничто не может тронуть тебя.
Потом появился Боб. Когда я впервые пришел на рак яичек, в «Останемся мужчинами вместе», Лосина Боб, Боб Сырная Лепешка обрушился на меня и зарыдал. Когда настала пора обнимашек, Лосина двинулся через всю комнату, свесив руки и ссутулив плечи. Прижав огромный лосиный подбородок к груди, моргая красными глазенками, шаркая ножищами, цепляя коленями друг за друга, он преодолел подвал и обрушился на меня.
Огромные ручищи Боба обхватили меня.
Он был качком, сказал Большой Боб. Ах, эта молодость, сперва метандиенон, сначала станозолол, лошадиный стероид. Собственный спортзал, у Большого Боба имелся спортзал. Трижды был женат. Занимался раскруткой продукции. Неужели я не видел его по телевизору? Вся программа по расширению груди – практически его изобретение.
От подобных откровений у меня всегда падает. Понимаете, о чем я?
Боб не понимал. Может, у него опустилось только одноhuevos и он знал, что рискует. Боб поведал мне о послеоперационной гормональной терапии.
Многие бодибилдеры колют слишком много тестостерона – и у них вырастает сучье вымя.
Пришлось спросить, что Боб имел в виду под huevos.
Huevos, сказал он. Гонады. Шары. Бубенцы. Яички. В Мексике, где покупают стероиды, их называют яйцами.
Развод, развод, развод, сказал мне Боб и вытащил из бумажника фото самого себя – огромного и на первый взгляд голого, в набедренной повязке, на каком-то конкурсе. Глупо так жить, заявил он, когда стоишь, накачанный и бритый, на сцене, и жира в тебе не более двух процентов, а из-за диуретиков ты на ощупь холодный и твердый, как бетон. Ты ослеп от огней и оглох от шумов в звуковой системе. Но тут судья говорит: «Выставь правую ногу, напряги четырехглавую мышцу и замри». «Вытяни левую руку, напряги бицепс и замри». Это лучше, чем реальная жизнь.
Короткая дорожка к раку, вздохнул Боб. Потом он обанкротился. Двое его взрослых детей не отвечали на звонки.
Лечение вымени заключалось в том, что врач подрезал грудные мышцы и выкачивал жидкость.
Больше я ничего не запомнил, потому что Боб начал сжимать меня своими ручищами, а сверху опустилась его голова. Я очутился в небытии, темном, безмолвном и абсолютном, а когда наконец оторвался от мягкой груди Боба, на его рубашке отпечаталось мое мокрое лицо.
Это было два года назад, в мой первый вечер с «Останемся мужчинами вместе». И с тех пор почти каждый раз Большой Боб доводил меня до слез.
Я не вернулся к врачу. И не стал жевать корень валерианы.
Это была свобода. Полная утрата надежды являлась свободой. Если я молчал, то люди в группе предполагали самое худшее. И плакали сильнее. Я тоже плакал сильнее. Взгляни на звезды – и ты пропал.
Возвращаясь домой из группы поддержки, я ощущал себя более живым, чем прежде. Я не был добычей рака или кровяных паразитов; я был маленьким теплым центром сосредоточения всей жизни мира.
И я спал. Младенцы не спят так крепко.
Каждый вечер я умирал – и каждый вечер рождался вновь.
Воскрешенный.
Два успешных года – до нынешнего вечера. До нынешнего вечера, потому что я не могу плакать, когда эта женщина смотрит на меня. Не могу достичь дна, не могу спастись. Мой язык уже считает, будто обзавелся тиснеными обоями, так сильно я искусал рот изнутри. Я не спал четыре дня.
Когда она смотрит, я – лжец. Она – фальшивка. Она – лгунья. Сегодня во время знакомства мы называли свои имена: я Боб, я Пол, я Терри, я Дэвид.
Я никогда не называю своего настоящего имени.
– Это рак, верно? – спросила она. И добавила: – Привет, я Марла Сингер.
Никто не сообщил Марле, какой именно рак. Мы все нянчились со своим внутренним ребенком.
Мужчина по-прежнему плачет ей в шею, а Марла делает очередную затяжку.
Я слежу за ней из-под сотрясающихся сисек Боба.
Для Марлы я – фальшивка. Увидев ее во второй раз, я потерял сон. Но первая фальшивка – я сам, если только все эти люди не выдумали свои болячки, сопли и опухоли, даже Большой Боб. Лосина. Сырная Лепешка.
Взгляните на его «смоделированные» волосы.
Марла курит и закатывает глаза.
В это мгновение ложь Марлы отражает мою собственную, и вокруг я вижу одну ложь. Посреди их правды. Все цепляются друг за друга и рискуют поделиться худшими страхами: что смерть у порога, что у них во рту – пистолетное дуло. Марла курит и закатывает глаза, а я погребен под всхлипывающим ковром, и внезапно даже смерть и умирание становятся скучной дешевкой, искусственными цветами на видео.
– Боб, ты меня раздавишь, – говорю я. Сперва пытаюсь шептать, потом уже не пытаюсь. – Боб. – Стараюсь говорить тише, затем кричу: – Боб, мне нужно в сортир!
Над раковиной в туалете висит зеркало. Если так пойдет, я встречу Марлу Сингер в «Выше и дальше», группе мозговых паразитов. Разумеется, Марла будет там, и я сяду рядом с ней. После знакомства и направленной медитации – семи дворцовых дверей, белого шара целительного света, – после того, как мы откроем чакры, когда придет пора обниматься, я схвачу сучку.
Прижав ее руки к телу, а свои губы – к ее уху, я скажу: Марла, ты – притворщица, убирайся.
Это единственная стоящая вещь в моей жизни, и ты ее рушишь.
Ты лгунья.
При следующей встрече я скажу: Марла, я не могу спать, когда ты здесь. Мне это нужно. Убирайся.
3
Просыпаешься в международном аэропорту.
При каждом взлете и посадке, когда самолет сильно кренился набок, я молился о катастрофе. Это мгновение, когда мы, беспомощный человечий табак, набитый в фюзеляж, могли погибнуть, исцеляло мою бессонницу нарколепсией.
Так я встретил Тайлера Дердана.
Просыпаешься в О’Харе[1].
Просыпаешься в Ла-Гуардиа[2].
Просыпаешься в Логане[3].
Тайлер подрабатывал киномехаником. Из-за своей натуры он мог работать только по ночам. Если киномеханик сказывался больным, профсоюз звонил Тайлеру.
Есть ночные люди. Есть люди дневные. Я могу работать только днем.
Просыпаешься в Даллесе[4].
Страхование жизни выплачивается в тройном размере, если умираешь в командировке. Я молился о сдвиге ветра, о засасываемых в двигатели пеликанах, и ослабленных болтах, и обледенелых крыльях. При взлете, когда самолет разгонялся по полосе, с поднятыми закрылками, спинками кресел, приведенными в вертикальное положение, закрытыми откидными столиками и ручной кладью, спрятанной в багажные отделения наверху, когда конец полосы несся нам навстречу, а мы даже не могли закурить, я молился о катастрофе.
Просыпаешься в Лав-Филд[5].
В киноаппаратной старых кинотеатров Тайлер переключал бобины. Когда нужно переключать бобины, в аппаратной стоит два проектора, и один из них работает.
Я знаю об этом, потому что знает Тайлер.
Второй проектор заряжен следующей бобиной фильма. Большинство фильмов занимают шесть или семь маленьких бобин пленки, которые располагают в определенном порядке. В новых кинотеатрах из маленьких бобин делают одну пятифутовую. В таком случае не нужно иметь два проектора и переключать бобины туда-сюда: бобина один – переключение – бобина два на другом проекторе – переключение – бобина три на первом проекторе.
Переключение.
Просыпаешься в СиТаке[6].
Изучаю людей на ламинированной карточке в кармане сиденья. Женщина плавает в океане, каштановые волосы разметались по воде, подушка сиденья прижата к груди. Глаза широко раскрыты, но женщина не улыбается и не хмурится. На другой картинке люди, спокойные, как индийские коровы, тянутся со своих сидений к выпавшим из потолка кислородным маскам.
Очевидно, это чрезвычайная ситуация.
Разгерметизация кабины.
Просыпаешься – и ты в Уиллоу-Ран[7].
Старый кинотеатр, новый кинотеатр. Чтобы переправить фильм в следующий кинотеатр, Тайлеру приходится вновь разбивать его на исходные шесть или семь бобин. Маленькие бобины кладутся в два восьмиугольных стальных чемоданчика. У каждого есть ручка. Подними такой чемоданчик – и вывих плеча обеспечен. Настолько они тяжелые.
Тайлер – банкетный официант, обслуживает столики в отеле в центре города, и Тайлер – киномеханик, состоит в профсоюзе киномехаников. Не знаю, сколько моих бессонных ночей проработал Тайлер.
В старых кинотеатрах с двумя проекторами киномеханику приходится стоять в будке и в нужный момент менять проекторы так, чтобы зрители не заметили, когда закончилась одна бобина и началась другая. Необходимо следить за белыми точками в правом верхнем углу экрана. Это предупреждение. Смотри фильм – и увидишь две точки в конце бобины.
Сигаретные ожоги, так их называют киношники.
Первая белая точка – двухминутное предупреждение. Надо запустить второй проектор, чтобы он разогрелся.
Вторая белая точка – пятисекундное предупреждение. Возбуждение. Ты стоишь между двумя проекторами, в будке – настоящая парилка от ксеноновых ламп, на которые нельзя смотреть, иначе ослепнешь. На экране мелькает первая точка. Звук к фильму поступает из большой колонки за экраном. Будка киномеханика звуконепроницаема, потому что внутри стрекочут пулеметами зубчатые барабаны, протягивающие пленку перед объективом со скоростью шесть футов в секунду, десять кадров на фут, шестьдесят кадров в секунду. Ты стоишь между двумя работающими проекторами и держишь рукоятку затвора на каждом. Совсем старые проекторы оснащены сигнализацией на ступице подающей бобины.
Даже после того как фильмы перебрались на телевидение, предупреждающие точки никуда не делись. Их можно увидеть даже в самолетах.
По мере того как все больше пленки наматывается на приемную бобину, она замедляется, и подающей бобине приходится крутиться быстрее. В конце подающая бобина вращается так быстро, что сигнализация начинает трезвонить, предупреждая: пора менять бобину.
В темноте, раскаленной лампами внутри проекторов, звенит сигнализация. Встань между проекторами, возьмись каждой рукой за рукоять затвора и следи за углом экрана. Вот мелькнула вторая точка. Сосчитай до пяти. Закрой один затвор. И в то же мгновение открой другой.
Переключение.
Фильм продолжается.
Никто из зрителей ничего не заметил.
Сигнализация на подающей бобине нужна для того, чтобы киномеханик мог вздремнуть. Киномеханики делают много такого, чего не положено. Не в каждом проекторе есть сигнализация. Иногда просыпаешься в собственной темной постели, в ужасе, что заснул в будке и пропустил переключение. Зрители тебя проклянут. Их кинематографический сон будет потревожен, и менеджер позвонит в профсоюз.