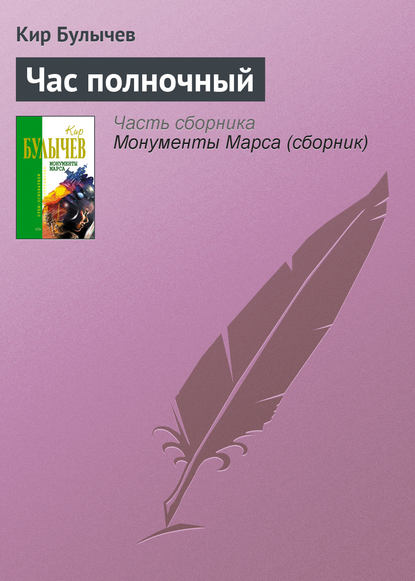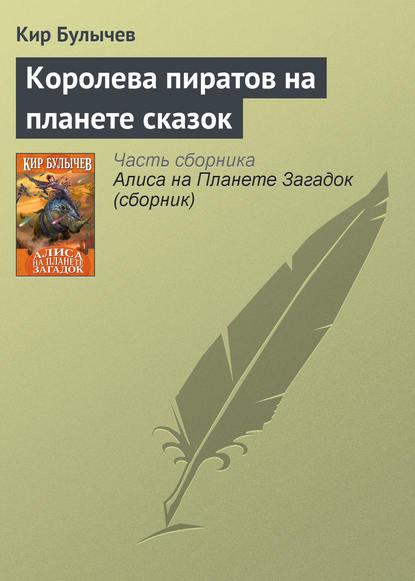Полная версия:
Кир Булычев Петушок
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Кир Булычев
Петушок
1
Улица, огражденная глухими заборами, которые порой нехотя раздвигались, чтобы дать место одноэтажному фасаду в три окна, повернула под прямым углом, и неожиданно я увидел внизу реку.
Улица круто стремилась к берегу, к пристани, а затем, на том берегу, так же круто поднималась наверх и исчезала в лесу. Город переплеснул через реку, но сил его хватило еще на десяток домов.
Пристань была внизу, я видел ее красную крышу. Под крышей прочел название «Мослы». Название меня удивило, потому что сам городок назывался иначе. Но и слово «Мослы» что-то означало.
Возле пристани толпились люди, стояли два фургона и автобус. Снимали кино.
Я знал, что там снимают кино, потому что специально шел туда. И знал, что действие этой комедии происходит в городе «Мослы», потому что такого города нет, я его сам придумал – маленький, чудаковатый городок. Но обыкновенность вывески на пристани и обыкновенность самой пристани заставили меня забыть, что город «Мослы» пять лет назад родился в моем воображении, а надпись сделал, конечно же, художник киногруппы.
И когда я осознал, в чем дело, то улыбнулся от благодарности к художнику, который обманул меня и заставил так просто поверить в собственную выдумку.
Розинский, режиссер фильма и мой приятель, стоял у камеры. Он увидел меня издали, когда я спускался к реке, но, как молодому человеку и начинающему режиссеру, ему важно было показать, насколько он занят. Поэтому он не пошел ко мне навстречу, а ждал меня у камеры.
– Ну как? – спросил он меня. – Ты так себе все представлял?
– Иначе, – сказал я. – Но мне нравится, как ты все это представляешь.
Подошла девочка с белым щенком на руках. Она нетерпеливо ждала, пока мы кончим говорить, ей наш разговор был неинтересен, а я непонятен и чужд. Наконец она не выдержала и сказала:
– Иван Сергеевич, посмотрите, я принесла.
– Вот именно, – сказал Розинский. – Именно такой.
Голос его приобрел несвойственную сладость. Так люди, не умеющие вести себя с детьми, разговаривают с ними.
– Надюша, – сказал он, – наша звезда. И первая помощница. Правда, Надюша?
– Я его кормила, – сказала Надя, гладя щенка. – Можете не кормить.
– Ты будешь играть с ним на травке, – сказал Розинский. – Вон там. А когда проедет машина, ты помашешь ей рукой.
– Я знаю, – сказала Надя. – Мне Виктория говорила.
– Удивительно талантливый ребенок, – сказал Розинский. – Вообще я хочу снимать детский фильм. С детьми так интересно работать. У них есть непосредственность, утерянная актерами. Ты как думаешь?
Я не успел ответить, потому что оператор отбросил окурок сигареты и сказал:
– Солнце уйдет.
Оператор, второй режиссер Виктория и директор картины – старые киноволки – относились к Розинскому снисходительно и не скрывали своего снисхождения. Розинский это чувствовал и старательно скрывал обиду. Это была его первая полнометражная картина, а они сделали по двадцать картин на своем веку и насмотрелись разных режиссеров. И потому, хоть фильм только начинал сниматься, уже были уверены, что из Розинского ничего путного не выйдет.
Они были не правы, но мы с Розинским не могли и не хотели с ними спорить или оправдываться. Доказывать правоту надо было картиной, а пока приходилось терпеть, так как снисходительное отношение к режиссеру выражалось не только во взглядах, но и в полном нежелании совершать лишние движения или усилия, из которых и состоит обычная жизнь съемочной группы.
Проезд машины, которой Надюша должна была помахать рукой, состоялся только к вечеру. Мы с ней оба к тому времени устали, потому что нет ничего утомительнее безделья, когда вокруг тебя все заняты. Надя все время возилась с щенком – щенку было скучно, он капризничал и просился домой. У меня в сумке оказался бутерброд, который я купил утром на вокзале, – из того набора в целлофановом пакете, в который входят два крутых раздавленных яйца, бутерброд с колбасой и огурец.
Мы смотрели с Надей, как щенок брезгливо водит носом над бутербродом, и тут сообразили, что голодны. Я ехал в поезде, а Надя искала щенка. Поэтому я уговорил Надю пойти в столовую, которая была в двухэтажном доме на косогоре. Половина первого этажа – столовая, половина – хозяйственный магазин.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.