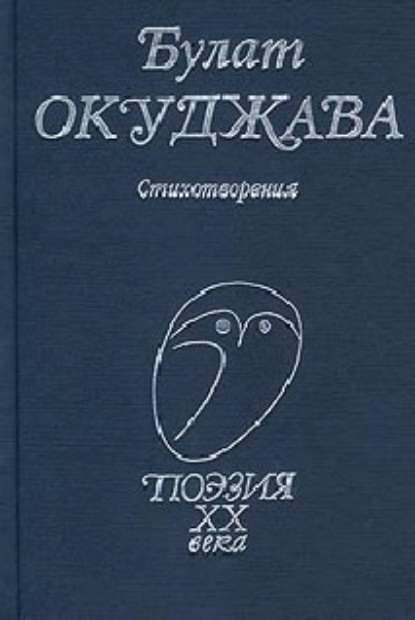Полная версия:
Булат Шалвович Окуджава Надежды маленький оркестрик
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт


Булат Шалвович Окуджава
Надежды маленький оркестрик. Лирика (50-е – 70-е)

Песенка о ночной Москве
Б. Ахмадулиной
Когда внезапно возникаетеще неясный голос труб,слова, как ястребы ночные,срываются с горячих губ,мелодия, как дождь случайный,гремит; и бродит меж людьминадежды маленький оркестрикпод управлением любви.В года разлук, в года сражений,когда свинцовые дождилупили так по нашим спинам,что снисхождения не жди,и командиры все охрипли…Тогда командовал людьминадежды маленький оркестрикпод управлением любви.Кларнет пробит, труба помята,фагот, как старый посох, стерт,на барабане швы разлезлись…Но кларнетист красив, как черт!Флейтист, как юный князь, изящен…И вечно в сговоре с людьминадежды маленький оркестрикпод управлением любви.На Тверском бульваре
На Тверском бульваревы не раз бывали,но не было, чтоб места не хватилона той скамье зеленой,на перенаселенной,как будто коммунальная квартира.Та зеленая скамья,я признаюсь без вранья,даже в стужу согреваланепутевого меня.А с той скамьи зеленой,с перенаселенной,случается, и при любой погодеодни уходят парамидорожками бульварными,другие в одиночестве уходят.Та зеленая скамья,я признаюсь без вранья,для одних недолгий берег,для других дымок жилья.«Эта женщина! Увижу и немею…»
Эта женщина! Увижу и немею.Потому-то, понимаешь, не гляжу.Ни кукушкам, ни ромашкам я не верюи к цыганкам, понимаешь, не хожу.Напророчат: не люби ее такую,набормочут: до рассвета заживет,наколдуют, нагадают, накукуют…А она на нашей улице живет!«Неистов и упрям…»
Ю. Нагибину
Неистов и упрям,гори, огонь, гори.На смену декабрямприходят январи.Нам все дано сполна —и горести, и смех,одна на всех луна,весна одна на всех.Прожить лета б дотла,а там пускай ведутза все твои делана самый страшный суд.Пусть оправданья нети даже век спустя…Семь бед – один ответ,один ответ – пустяк.Неистов и упрям,гори, огонь, гори.На смену декабрямприходят январи.Синька
В южном прифронтовом городе на рынкеторговали цыганки развесной синькой.Торговали цыганки, нараспев голосили:«Синяя синька! Лиля-лиля!»С прибаутками торговали цыганки напустом рынке, в рядах пустых,а черные мужья крутили цигарки,и пальцы шевелились в бородах густых.А жители от смерти щели копали.Синьку веселую они не покупали.Было вдоволь у них синевы под глазами,синего мрака погребов наказанья,синего инея по утрам на подушках,синей золы в печурках потухших…И все же не хватало им синего-синего,как матери – сына, как каравая сытного,а синька была цвета синего неба,которого давно у них не было, не было.И потому, наверное, на пустом рынке,пестрые юбки по ветру кружа,торговали цыганки (чудеса!) синькой,довоенной роскошью, без барыша.Сентиментальный марш
Надежда, я вернусь тогда,когда трубач отбой сыграет,когда трубу к губам приблизити острый локоть отведет.Надежда, я останусь цел:не для меня земля сырая,а для меня твои тревогии добрый мир твоих забот.Но если целый век пройдет,и ты надеяться устанешь,Надежда, если надо мноюсмерть распахнет своикрыла, ты прикажи, пускай тогдатрубач израненный привстанет,чтобы последняя гранатаменя прикончить не смогла.Но если вдруг когда-нибудьмне уберечься не удастся,какое б новое сраженьени покачнуло шар земной,я все равно паду на той,на той единственной гражданской,и комиссары в пыльных шлемахсклонятся молча надо мной.Веселый барабанщик
Встань пораньше, встань пораньше, встаньпораньше,когда дворники маячат у ворот.Ты увидишь, ты увидишь, как веселыйбарабанщикв руки палочки кленовые берет.Будет полдень, суматохою пропахший,звон трамваев и людской водоворот,но прислушайся – услышишь, как веселыйбарабанщикс барабаном вдоль по улице идет.Будет вечер – заговорщик и обманщик,темнота на мостовые упадет,но вглядись – и ты увидишь, как веселыйбарабанщикс барабаном вдоль по улице идет.Грохот палочек… то ближе он, то дальше,сквозь сумятицу, и полночь, и туман…Неужели ты не слышишь, как веселыйбарабанщиквдоль по улице проносит барабан?!«Время идет, хоть шути – не шути…»
Время идет, хоть шути – не шути,как морская волна вдруг нахлынет и скроет…Но погоди, это всё впереди,дай надышаться Москвою.Мало прошел я дорогой земной.Что же рвешь ты не в срок пополам мое сердце?Ну не спеши, это будет со мной,ведь никуда мне не деться.Видишь тот дом? Там не гасят огня,там друзья меня ждут не больным, не отпетым…Да не спеши! Как же им без меня?Надо ведь думать об этом.Дай мне напиться воды голубой,придержи до поры и тоску и усталость…Ну потерпи, разочтемся с тобой —я должником не останусь.«Женщины-соседки, бросьте стирку и шитье…»
Женщины-соседки, бросьте стирку и шитье,живите, будто заново, все начинайте снова!У порога, как тревога, ждет нас новое житьеи товарищ Надежда по фамилии Чернова.Глаза ее суровы, их приговор таков:чтоб на заре без паники, чтоб вещи были собраны,чтоб каждому мужчине – по паре пиджакови чтобы ноги – в сапоги, а сапоги – под седлами.Прощайте, прощайте, наш путь предельно чист,нас ждет веселый поезд, и два венка терновых,и два звонка медовых, и грустный машинист —товарищ Надежда по фамилии Чернова.Ни прибыли, ни убыли не будем мы считать —не надо, не надо, чтоб становилось тошно!Мы успели всяких книжек сорок тысяч прочитатьи узнали, что к чему и что почем, и очень точно.«Не верь войне, мальчишка…»
Не верь войне, мальчишка,не верь: она грустна.Она грустна, мальчишка,как сапоги тесна.Твои лихие конине смогут ничего:ты весь – как на ладони,все пули – в одного.«…И когда удивительно близко…»
…И когда удивительно близкоостается идти до тебя,отправляется нежность на приступ,в свои тихие трубы трубя.И поротно, и побатальоннольется в душу она сгоряча,и ее голубые знаменана твои упадают плеча.Знаешь, Оля, на улочке этой,где старинные стынут дома,в поединках сходились поэты,гимназистки сходили с ума.Продолжается жизни движеньевдоль по улочке. Век непочат.Продолжается листьев круженье,каблуки по асфальту стучат.И за щедрой твоею рукоючто-то брезжится мне впереди,и в груди назревает такое,что уже не хватает груди.«Глаза, словно неба осеннего свод…»
Глаза, словно неба осеннего свод,и нет в этом небе огня,и давит меня это небо и гнет —вот так она любит меня.Прощай. Расстаемся. Пощады не жди!Все явственней день ото дня,что пусто в груди, что темно впереди —вот так она любит меня.Ах, мне бы уйти на дорогу свою,достоинство молча храня!Но старый солдат, я стою, как в строю…Вот так она любит меня.Голубой шарик
Девочка плачет: шарик улетел.Ее утешают, а шарик летит.Девушка плачет: жениха все нет.Ее утешают, а шарик летит.Женщина плачет: муж ушел к другой.Ее утешают, а шарик летит.Плачет старушка: мало пожила…А шарик вернулся, а он голубой.«Не бродяги, не пропойцы…»
Не бродяги, не пропойцы,за столом семи морейвы пропойте, вы пропойтеславу женщине моей!Вы в глаза ее взгляните,как в спасение свое,вы сравните, вы сравнитес близким берегом ее.Мы земных земней. И вовсек черту сказки о богах!Просто мы на крыльях носимто, что носят на руках.Просто нужно очень веритьэтим синим маякам,и тогда нежданный берегиз тумана выйдет к вам.Ванька Морозов
А. Межирову
За что ж вы Ваньку-то Морозова?Ведь он ни в чем не виноват.Она сама его морочила,а он ни в чем не виноват.Он в старый цирк ходил на площадии там циркачку полюбил.Ему чего-нибудь попроще бы,а он циркачку полюбил.Она по проволке ходила,махала белою рукой,и страсть Морозова схватиласвоей мозолистой рукой.А он швырял в «Пекине» сотни,ему-то было все равно.А по нему Маруся сохнет,и это ей не все равно.А он медузами питался,циркачке чтобы угодить.И соблазнить ее пытался,чтоб ей, конечно, угодить.Не думал, что она обманет:ведь от любви беды не ждешь…Ах, Ваня, Ваня, что ж ты, Ваня?Ведь сам по проволке идешь!
«Нева Петровна, возле вас – всё львы…»
А. Шуб
Нева Петровна, возле вас – всё львы.Они вас охраняют молчаливо.Я с женщинами не бывал счастливым,вы – первая. Я чувствую, что – вы.Послушайте, не ускоряйте бег,банальным славословьем вас не трону:ведь я не экскурсант, Нева Петровна,я просто одинокий человек.Мы снова рядом. Как я к вам привык!Я всматриваюсь в ваших глаз глубины.Я знаю: вас великие любили,да вы не выбирали, кто велик.Бывало, вы идете на проспект,не вслушиваясь в титулы и званья,а мраморные львы – рысцой за вамии ваших глаз запоминают свет.И я, бывало, к тем глазам нагнусьи отражусь в их океане синемтаким счастливым, молодым и сильным…Так отчего, скажите, ваша грусть?Пусть говорят, что прошлое не в счет.Но волны набегают, берег точат,и ваше платье цвета белой ночимне третий век забыться не дает.«Мне нужно на кого-нибудь молиться…»
О. Батраковой
Мне нужно на кого-нибудь молиться.Подумайте, простому муравьювдруг захотелось в ноженьки валиться,поверить в очарованность свою!И муравья тогда покой покинул,все показалось будничным ему,и муравей создал себе богинюпо образу и духу своему.И в день седьмой, в какое-то мгновенье,она возникла из ночных огнейбез всякого небесного знаменья…Пальтишко было легкое на ней.Все позабыв – и радости, и муки,он двери распахнул в свое жильеи целовал обветренные рукии старенькие туфельки ее.И тени их качались на пороге,безмолвный разговор они вели,красивые и мудрые, как боги,и грустные, как жители земли.Вобла
Холод войны немилосерд и точен.Ей равнодушия не занимать.…Пятеро голодных сыновей и дочеки одна отчаянная мать.И каждый из нас глядел в оба,как по синей клеенке столаслучайная одинокая воблак земле обетованной плыла,как мама руками теплымиза голову воблу брала,к телу гордому ее прикасалась,раздевала ее догола…Ах, какой красавицей вобла казалась!Ах, какою крошечной вобла была!Она клала на плаху буйную голову,и летели из-под рукинавстречу нашему голодучешуи пахучие медяки.А когда-то кружек звон,как звон наковален, как колоколов перелив…Знатоки ее по пивным смаковали,королевою снеди пивной нарекли.…Пятеро голодных сыновей и дочек.Удар ножа горяч как огонь.Вобла ложилась кусочек в кусочек —по сухому кусочку в сухую ладонь.Нас покачивало военным ветром,и, наверное, потомуплыла по клеенке счастливая жертванавстречу спасению моему.«На белый бал берез не соберу…»
На белый бал берез не соберу.Холодный хор хвои хранит молчанье.Кукушки крик, как камешек отчаянья,все катится и катится в бору.И все-таки я жду из тишины(как тот актер, который знает ценучужим словам, что он несет на сцену)каких-то слов, которым нет цены.Ведь у надежд всегда счастливый цвет,надежный и таинственный немного,особенно, когда глядишь с порога,особенно, когда надежды нет.Песенка о солдатских сапогах
Вы слышите: грохочут сапоги,и птицы ошалелые летят,и женщины глядят из-под руки?Вы поняли, куда они глядят?Вы слышите: грохочет барабан?Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней…Уходит взвод в туман-туман-туман…А прошлое ясней-ясней-ясней.А где же наше мужество, солдат,когда мы возвращаемся назад?Его, наверно, женщины крадути, как птенца, за пазуху кладут.А где же наши женщины, дружок,когда вступаем мы на свой порог?Они встречают нас и вводят в дом,но в нашем доме пахнет воровством.А мы рукой на прошлое: вранье!А мы с надеждой в будущее: свет!А по полям жиреет воронье,а по пятам война грохочет вслед.И снова переулком – сапоги,и птицы ошалелые летят,и женщины глядят из-под руки…В затылки наши круглые глядят.Король
Б. Федорову
Во дворе, где каждый вечер все играла радиола,где пары танцевали, пыля,ребята уважали очень Леньку Королеваи присвоили ему званье короля.Был король, как король, всемогущ.И если другу станет худо и вообще не повезет,он протянет ему свою царственную руку,свою верную руку, – и спасет.Но однажды, когда «мессершмитты», как вороны,разорвали на рассвете тишину,наш Король, как король, он кепчонку, как корону —набекрень, и пошел на войну.Вновь играет радиола, снова солнце в зените,да некому оплакать его жизнь,потому что тот король был один (уж извините),королевой не успел обзавестись.Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота(по делам или так, погулять),все мне чудится, что вот за ближайшим поворотомКороля повстречаю опять.Потому что на войне, хоть и правда стреляют,не для Леньки сырая земля.Потому что (виноват), но я Москвы не представляюбез такого, как он, короля.Ангелы
Выходят танки из леска,устало роют снег,а неотступная тоскабредет за ними вслед.Победа нас не обошла,да крепко обожгла.Мы на поминках водку пьем,да ни один не пьян.Мы пьем напропалуюодну, за ней вторую,пятую, десятую,горькую десантную.Она течет, и хоть бы черт,ну хоть бы что – ни капельки…Какой учет, когда течет?А на закуску – яблоки.На рынке не развешенныедрожащею рукой,подаренные женщиной,заплаканной такой.О ком ты тихо плакала?Все, знать, не обо мне,пока я топал ангеломв защитной простыне.Ждала, быть может, слова,а я стоял едва,и я не знал ни слова,я все забыл слова.Слова, слова… О чем они?И не припомнишь всех.И яблочко моченоеупало прямо в снег.На белом снегулежит оно.Я к вам забегудавным-давно,как еще до войны,как в той тишине,когда так нужнывы не были мне…Первый день на передовой
Волнения не выдавая,оглядываюсь, не расспрашивая.Так вот она – передовая!В ней ничего нет страшного.Трава не выжжена, лесок не хмур,и до порыобъявляется перекур.Звенят комары.Звенят, звенятвозле меня.Летят, летят —крови моей хотят.Отбиваюсь в изнеможениии вдруг попадаю в сон:дым сражения, окружение,гибнет, гибнет мой батальон.А пули звенятвозле меня.Летят, летят —крови моей хотят.Кричу, обессилев,через хрипоту:«Пропадаю!»И к ногам осины,весь в поту,припадаю.Жить хочется!Жить хочется!Когда же это кончится?Мне немного лет…гибнуть толку нет…я ночных дозоров не выстоял…я еще ни разу не выстрелил…И в сопревшую листву зарываюсьи просыпаюсь…Я, к стволу осины прислонившись, сижу,я в глаза товарищам гляжу-гляжу:а что, если кто-нибудь в том сне побывал?А что, если видели, как я воевал?Полночный троллейбус
Когда мне невмочь пересилить беду,когда подступает отчаянье,я в синий троллейбус сажусь на ходу,в последний,в случайный.Полночный троллейбус, по улице мчи,верши по бульварам круженье,чтоб всех подобрать, потерпевших в ночикрушенье,крушенье.Полночный троллейбус, мне дверь отвори!Я знаю, как в зябкую полночьтвои пассажиры – матросы твои – приходятна помощь.Я с ними не раз уходил от беды,я к ним прикасался плечами…Как много, представьте себе, добротыв молчанье,в молчанье.Полночный троллейбус плывет по Москве,Москва, как река, затухает,и боль, что скворчонком стучала в виске,стихает,стихает.Медсестра Мария
А что я сказал медсестре Марии,когда обнимал ее?– Ты знаешь, а вот офицерские дочкина нас, на солдат, не глядят.А поле клевера было под нами,тихое, как река.И волны клевера набегали,и мы качались на них.И Мария, раскинув руки,плыла по этой реке.И были черными и бездоннымиголубые ее глаза.И я сказал медсестре Марии,когда наступил рассвет:– Нет, ты представь: офицерские дочкина нас и глядеть не хотят.Новое утро
Не клонись-ка ты, головушка,от невзгод и от обид.Мама, белая голубушка,утро новое горит.Все оно смывает начисто,все разглаживает вновь…Отступает одиночество,возвращается любовь.И сладки, как в полдень пасеки,как из детства голоса,твои руки, твои песенки,твои вечные глаза.«Настоящих людей так немного!..»
Настоящих людей так немного!Всё вы врете, что век их настал.Посчитайте и честно, и строго,сколько будет на каждый квартал.Настоящих людей очень мало:на планету – совсем ерунда,на Россию – одна моя мама,только что ж она может одна?Песенка об открытой двери
Когда метель кричит как зверь —протяжно и сердито,не запирайте вашу дверь,пусть будет дверь открыта.А если ляжет дальний путь,нелегкий путь, представьте,дверь не забудьте распахнуть,открытой дверь оставьте.И, уходя, в ночной тишибез долгих слов решайте:огонь сосны с огнем душив печи перемешайте.Пусть будет теплою стенаи мягкою скамейка…Дверям закрытым – грош цена,замку цена – копейка!Песенка о Фонтанке
По Фонтанке, по Фонтанке, по Фонтанкелодки белые холеные плывут.На Фонтанке, на Фонтанке, на Фонтанкеленинградцы удивленные живут.От войны еще красуются плакаты,и погибших еще снятся голоса.Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.