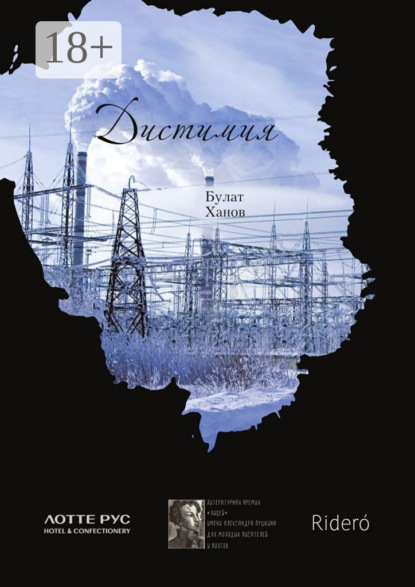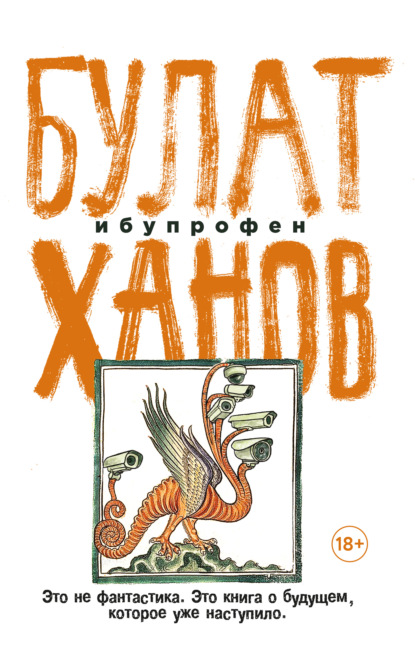Полная версия:
Булат Альфредович Ханов Гнев
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
Лида стала порывистой и беспокойной из-за предстоящего дня рождения. Целыми вечерами она обдумывала меню, перебирая феерические комбинации из блюд, некоторые из которых, подозревал Глеб, на территории Казани едва ли кто готовил. В эти моменты Веретинский сожалел, что у жены изощренные вкусы.
– Может быть, фасолевый салат с авокадо?
– Я не ем фасоль. Твои родители, полагаю, тоже?
– Увы. Тогда индейку с ананасами в красном вине? Я такой рецепт вычитала!
– Лида, успокойся. Это лишнее.
– Давай хотя бы суп с грибочками! Со свежими, сейчас ведь сезон заканчивается.
– По-моему, отличная идея.
– С белыми?
– Пускай с белыми.
– Ура! А на второе?
Через час затея с грибным супом подвергалась ревизии. Глеб втайне жалел Лиду, наперед видя, как ее пыл охладят ее же вредные родители. Цистернообразный папаша, чуждый изящества, с равным аппетитом будет уплетать хоть перепелок под гранатовым соусом, хоть шпроты в машинном масле. Придирчивая мать, напротив, будет с энтомологическим интересом присматриваться и принюхиваться к каждому кусочку на вилке. В итоге Лида, закрыв с натянутой улыбкой дверь за родителями, сразу ударится в слезы, убежденная, будто где-то напортачила.
Это надо преодолеть. Как и любой праздник.
Лида периодически осведомлялась, доволен ли Глеб картиной и не планирует ли он, например, выгодно ее продать. В самых обтекаемых формулировках Веретинский отвечал, что пока не время. Оба чувствовали, какие острые мучения доставляют им подобные разговоры.
От переживания текущих и грядущих невзгод Глеба отвлекала работа. Он добил статью по ничевокам и отослал ее в воронежский журнал, с которым у него была устная договоренность. Кроме того, Веретинский загодя подготовил отзыв на кандидатскую диссертацию мордовского аспиранта. В электронные письма соискателя тонкой нитью вплеталась нарастающая предзащитная истерия. Чтобы подбодрить будущего кандидата, Глеб отправил ему мотивирующее на свой лад послание:
Мне незачем подхватывать интонацию, которую обычно подключают в подобных случаях, и утверждать, будто остался последний рывок, будто ты стоишь у врат Большой Науки, и проч., и проч. Выражусь иначе. Через год ты уже не вспомнишь, с какой интенсивностью беспокоился о защите. Ты скажешь вслед за Блоком: «Так мчалась юность бесполезная, в пустых мечтах изнемогая». Или не скажешь. Бесконечные сборы документов, подписей, походы в типографию и на почту – все сгладится в памяти. Это даже не боль, которую надо перетерпеть, а всего лишь последовательность бюрократических операций. Ты обнаружишь, какое будничное это событие: обзавестись статусом кандидата наук. Будничное и все-таки далеко не рядовое.
Из-за дефицита времени до минимума сократились сношения с оцифрованными подругами, что радовало. Мозг, освобожденный от холостых выбросов энергии в преступных масштабах, вознаградил Глеба повышенной работоспособностью и ясностью мысли.
Алиса перестала выкладывать в «Инстаграм» фото и видео с собой. За месяц в ее профиле появился только косой затемненный кадр с осенним небом. Под кадром помещалось стихотворение Ахматовой «Я научилась просто, мудро жить…»
Научилась она, как же.
Лана безудержно хвасталась – новым настроением, новой прической, новым портретом Мэтью Беллами, потребовавшим недюжинных, по ее словам, творческих усилий. Лана заверяла, что в «Смене» скоро откроется выставка ее работ.
Веретинский смекнул, что полотна Ланы и Артура выставят одновременно.
Автора картины со стены своего кабинета Глеб представлял по-разному: то как одаренного всклокоченного самоучку с неврозом навязчивых состояний, то как немногословного смуглого кавказца с пронизывающим взором, то как солидного ревнителя искусства с педантичными привычками и европейским воспитанием. Одно было ясно: на фоне творчества Артура со всей очевидностью высвечивалось убожество и низменность поделок Ланы.
Университет начинал наскучивать, хотя и не вызывал прозаической, совсем не экзистенциальной тошноты, обычно обострявшейся в конце семестра. Прилежная Федосеева поглощала всю стиховедческую литературу, которой кормил ее Веретинский. Глеб добавил студентку «ВКонтакте» и остался доволен ее страницей. Ира не выставляла селфи – ни с цветами, ни без; в перечне ее подписок не значились ни феминистические паблики, ни группы с инфантильным юмором про котиков, винишко и прокрастинацию.
Во второе воскресенье месяца Веретинского пригласил в гости профессор Тужуров. Известный чеховед, Борис Юрьевич сам походил на персонажа то ли Аверченко, то ли Пелевина. Тужуров умудрялся быть и скучнейшим обывателем, и возмутительным чудаком одновременно. Его помятые костюмы и запачканная обувь выдавали в нем жуткого мещанина. Лекции чеховеда усыпляли, блеклая речь перемежалась эканьем и оживлялась только в случае, если слуха профессора касались волшебные слова – «реализм», «Чехов», «Манчестер Юнайтед», «виски». Борис Юрьевич предъявлял студентам блеск и мощь компаративистского метода, в красках сопоставляя игровые модели Фергюсона и Моуриньо, и с наслаждением распространялся о преимуществах островных односолодовиков перед равнинными сортами. Дипломники и аспиранты карманы наизнанку выворачивали, лишь бы угодить капризному научруку редкими торфяными релизами.
Тужуров искренне считал университетских преподавателей цветом нации и осторожно, то есть сугубо в тесном кругу, поругивал бездарных чиновников, держащих «цвет нации» впроголодь. Притом что отнюдь не бедствующий Борис Юрьевич мог позволить себе тур по Шотландии с посещением любимых вискокурен.
Правда, он владел двумя квартирами, одну из которых сдавал.
В день, когда Глеб наведался к Борису Юрьевичу, жена последнего, доцент психфака, укатила в командировку. Радушный хозяин встретил гостя в барском шелковом халате и шерстяных носках.
– На остров Скай хочу, – сказал Тужуров. – На Айлу и Джуру тоже, но на Скай больше. Вы знали, Глеб Викторович, что Оруэлл написал на Джуре «1984»? Премерзкое, надо сказать, местечко, со всех сторон продуваемое ветрами. Населения человек двести, из достопримечательностей лишь дистиллерия да домик Оруэлла.
В честь визита Веретинского Борис Юрьевич откупорил бутылку десятилетнего «Талискера», нарезал тончайшими ломтиками сало и пять сортов сыра. Насладиться виски Глебу так и не довелось, поскольку Тужуров мешал своими наставлениями, как вдыхать аромат и как катать напиток на языке.
– Знаете, Глеб Викторович, я раньше в «Талискере» из фруктов только цитрусовые улавливал. Теперь же чувствую пронзительное представительство персиков – скорее узбекских, чем абхазских. И этот неповторимый оттенок остывшей золы. Как будто костерок на ночь притушили, а утром пепел еще не развеялся. Чуете ведь, чуете?
За минуту до матча Тужуров вытащил на свет шарф «Манчестер Юнайтед». У Веретинского уши вяли от занудных комментариев старого болельщика, иной раз, точно юный глор, срывавшегося в умиленный лепет. В такие моменты Глеб вспоминал о специфическом чувстве юмора профессора. Иной раз даже рядовая глупость вроде «О спирт, ты мир!» вызывала у чеховеда хихиканье до слез, до трясучки.
В тот же вечер Веретинский потянулся к Лиде – неуклюже, неуверенно, словно в первый раз. Легко возбудившись, она тем не менее быстро высохла и прервала Глеба на середине. Тот, не проронив ни звука, слез с жены и, как запрограммированный, поплелся с телефоном в ванну. Лида, уязвленная отсутствием оскорблений, возражений, горестных вздохов, крикнула вслед:
– Прости, Глебушка, прости! Мне больно сейчас.
Веретинский механически отметил про себя, что с лесбиянкой постель нагревалась чаще, чем с женой.
– Прости, пожалуйста! Я не бревно, не думай так…
Глеб без оживления слил на японскую школьницу и забрался в ванну под холодный душ. Новую ванну он заказал сразу после похорон тети. Тогда от мыслей, что он будет мыться там, где ее, немощную и оплешивевшую, купала сиделка, Веретинского бросало в дрожь.
Говорят, если лечь головой под тонкую струю, чтобы ласковая теплая водичка текла на лоб, то через десять минут такого блаженства сойдешь с ума. Правда ли?
2Г одами Веретинский отмахивался от мысли, что этот день настанет.
У Глеба заскрипел сустав. Коленный. Это значило, что очередной рубеж сдан при отступлении. Теперь тело обречено издавать в движении непроизвольные звуки. В нем завелась ржавчина. Это далеко не то же самое, что лишний вес или морщины. Складки на лбу Веретинского не носили драматического характера, а живот у него прирастал медленно. В этом плане Глеб безнадежно уступал некоторым ровесникам, чье неукротимое брюхо выпирало под футболкой, как украденная с прилавка подушка.
Сустав – иное дело. Болеть он пока не болел, однако ритмичный хруст при подъеме по лестнице впечатывался в сознание и раздражал хуже беспардонных студентов. Неужели он такой – саундтрек грядущей старости?
– Ржавчина, говоришь? Смажь солидолом, – посоветовал Слава.
Они встретились в кафе, которое незаметным для обоих образом обрело статус территории для околобытийных бесед. Глеб заказал свиной стейк на кости и две стопки водки. Слава по традиции взял сырный суп и облепиховый чай. У бывшего армейца появилась пассия – магистрантка с философского отделения. Как определил из рассказов друга Глеб, особа задиристая и в высшей степени противоречивая.
– Отличница, с президентской стипендией, на конференции ездит, Беньямина почитывает, в «Смену» ходит, – перечислил Слава. – И вдобавок мерзко матерится.
– Например?
– Как мы с тобой ругаемся? Ввернем время от времени крепкое, соленое выражение, чтобы подчеркнуть важность наших слов. Важность вербального, так сказать, посыла. Лика же матерится однообразно. В каждое предложение вставляет свои «хер» да «срать». Как будто вместо смазки. Когда я возразил, что это некрасиво, особенно для девушки, в ответ получил целый обвинительный приговор. При чем здесь, мол, девушка? То есть мужчинам дозволено ругаться, а женщинам нет? Это, на хер, нормально такие предъявы кидать? Тебе не срать вообще? Таких вещей от нее наслушался…
– Монолог в духе оскорбленного бойца за гендерное равноправие, – прокомментировал Глеб.
– Лика меня за мужлана принимает, – сказал Слава. – Притом что это ни разу не так. Я образованный человек, хоть и без диплома. Бердяева читал, Гегеля.
– Поверь, пусть лучше она видит в тебе солдата, – сказал Глеб. – Для женщины твоя надежность и сила куда ценнее, чем способность отличить Гегеля от Шлейермахера, например.
– Я бы и не отличил, – сказал Слава. – Кстати, у тебя с женщинами полный порядок. С одной уют строишь, вторую ненавидишь, для третьей, студентки… как уж ее?
– Федосеева.
– Для студентки выступаешь духовным наставником, символическим отцом. Три женщины – это как три измерения. Развиваешься во все стороны.
– Разрываюсь во все стороны.
– Я серьезно. Женщина – это все равно что экзамен на состоятельность. А уж когда их много…
– Кажется, пью я, а пьянеешь ты.
– Да правда же, Глеб! Три женщины – это как трилогия вочеловечения. Теза, антитеза, синтез.
Порой Слава разражался обрывочными знаниями из университетского курса.
– Три женщины – белая, черная, алая – стоят в моей жизни. Зачем и когда вы вторглись в мечту мою? Разве немало я любовь восславлял в молодые года? – продекламировал Веретинский.
После встречи со Славой Глебу предстояло щепетильного рода обязательство, а именно визит к родителям. Они жили в монументальной сталинке напротив филармонии. По пути на остановку Веретинский купил жевательной резинки с острым ментоловым вкусом, чтобы перебить запах водки.
К родителям Глеб испытывал смешанное чувство, граничащее с виной, уважением и неудовлетворенностью, но не являвшееся ни тем, ни другим, ни третьим. Дед и отец преподавали историю в университете, а мама справедливо считалась одним из лучших специалистов по педагогике высшей школы в Казани. Это были примерные интеллектуалы в русском изводе – с аккуратной манерой речи, с почтением к старине, с умилением перед благородной простотой, со стандартным набором замечаний к невежеству и бескультурью, с недоверием ко всему чувственному и спонтанному, со страстными нападками на теории коллег по гуманитарному цеху, с привычкой переминаться с ноги на ногу перед большими дилеммами и огибать стороной все острые углы на пути. Родители Глеба обладали образцовой семейной библиотекой, где число непрочитанных книг неизменно превышало число прочитанных.
В детстве Глеб стеснялся своей потомственной интеллигентской натуры, поэтому учился грубо и развязно говорить, дрался со старшеклассниками и мечтал работать на заправке где-нибудь вдалеке от крупных городов и шумных магистралей, на позабытой цивилизованным человечеством трассе, соединяющей одну экзотическую глушь с другой. Будучи гибкими дипломатами, родители не вытесняли бунтарский дух увещеваниями о благе образования, о пользе классической литературы, о красоте добрых поступков и прочей благолепной воспитательной чуши, а обрабатывали сына на более тонком уровне. Они не вовлекали его в принудительный совместный досуг вроде рыбалки или синхронного выкапывания сорняков кверху задом, догадываясь, что любая навязанная форма единения интуитивно покажется их сыну ущербной, уродливой и глубоко лживой.
Его интерес к воде, неосторожно проявившийся в последнее дошкольное лето, послужил поводом для записи в бассейн. Мама водила Глеба в лучшую в городе школу скорочтения, а затем и на кружок английского при университете. Продвинутая игровая приставка и музыкальный проигрыватель с завидной коллекцией кассет примиряли с ограничениями, наложенными на жизнь сына родителями с их интеллигентской мягкостью и деликатностью. В памяти сохранился момент, как Глеб перед выпускным слушал «Nirvana», «Red Hot Chili Peppers», «The Cranberries» и полагал себя свободным и бесподобным.
Достигнув двадцати, Веретинский осознал, что рок – та же попса. Только более качественная. А еще он осознал, что вырос дисциплинированным и ответственным, не прикладывая к тому усилий.
Кроме того, родители незаметно для него самого уберегли Глеба от уличных группировок и банд, затянувших в пучину не одного его сверстника.
Когда перестала передвигаться тетя Женя, одинокая и бездетная сестра матери Глеба, он и его родители наняли сиделку, поделив расходы пополам. Все стороны – Глеб, родители, даже сама тетя – испытывали облегчение оттого, что способны передоверить тягостные обязанности кому-то третьему и с чистой совестью не ведать об унизительных подробностях. Об этом думал каждый, хоть и не произносил вслух.
После смерти тети Жени и переезда Веретинского в освободившуюся квартиру отношения с родителями только усложнились. Всякое общение с ними, и раньше лишенное доверительной интонации посиделок у камина (какими эти посиделки виделись сценаристам семейных комедий), теперь вовсе свелось к набору бесцельных в конечном счете ритуалов. Глеб звонил родителям раз в неделю и наносил визиты дважды в месяц. Разговоры, всегда вертевшиеся вокруг главного, к главному, во избежание неловкостей, никогда не приближались. Взаимное смущение, укреплявшееся год за годом, скрывалось за спасительной маской вежливости и простосердечия.
И сегодня Веретинский с тяжелым сердцем прибрел к сталинке, в которой вырос. Он предчувствовал поднадоевший вкус смородинового варенья. Только бы не халва – вот что набило оскомину.
В поле его зрения угодил черный ангел с длинными ресницами, тощими крылышками и громадными вычурными яйцами, маркером нарисованный на стене в подъезде. Ангел натягивал тетиву.
Мать Россия, о родина злая, кто же так подшутил над тобой?
Отец изобразил радость, мать с преувеличенной суетливостью бросилась заваривать жиденький чай.
– Как в целом? Как студенты? – справился отец.
– Да ничего. Ленятся. Как твои?
– Мои тоже ленятся. Искры нет.
– Искры нет.
– Как Лида?
– Ничего, работает.
Глеб не определился, откуда возникло это охватившее его и родителей смущение. Исходило ли оно из висевшего в воздухе негласного обязательства, которое предписывало родственникам до скончания века уделять внимание друг другу? Или причина коренилась в привычке обозначать взаимную заинтересованность, что само по себе накладывало отпечаток неискренности и принуждения?
– Как Лида планирует справлять день рожденья? – спросила мама.
– Дома, наверное. Мы пока не решили.
Глеб и Лида понимали, что звать на семейное торжество его родителей – затея откровенно подрывная. Встреча интеллигентов Веретинских и пролетариев Сухарниковых за одним столом взвинтит градус неловкости, и тогда никакая выпивка и компанейские анекдоты положение не выправят. Клеить обои или менять плитку в ванной и то менее хлопотно и мучительно, чем собирать родню вместе. Каждый, включая и самих родителей Глеба, осознавал, что их присутствие на празднике нежелательно, и уповал на удачное стечение обстоятельств, когда ситуация разрешится сама собой.
3Т огда, пять лет назад, на прощание Алиса добила его строчками: «Враг мой вечный, пора научиться вам кого-нибудь вправду любить», – процитировав их с надлежащим пафосом.
Глеб отреагировал не менее торжественно, пообещав сделать будущую избранницу счастливой и продемонстрировать, как Алиса ошибалась на его счет.
За вечер Веретинский ухлопал полбутылки абсента. Казалось, Глеба будет рвать до тех пор, пока внутренности по частям не вылезут наружу.
Даже спустя пять лет те мгновения вспоминались с содроганием – до того жалко выглядела бравада в обоюдном исполнении. Вправду любить, сделать кого-то счастливым – такая порывистость, такая неосновательная заявка на основательность. Точно графоманский лепет пубертатного периода.
Нельзя сказать, что впоследствии Глеб сторонился женщин и считал их придатком человечества или выходцами из ребровой кости, на шатких правах прописавшимися рядом с мужчинами. Напротив, Веретинский зарегистрировался на сайте знакомств и заведомо отсекал лишь одиноких матерей, не отдавая предпочтение ни интеллекту, ни внешности, ни сетевой активности. Преподаватели с кафедры, втайне жалея замкнутого бобыля, пытались свести его с достойными, по их мнению, кандидатурами. Попытки эти принимали все более и более назойливый характер. Так, на одном из новогодних корпоративов холостяка усадили рядом с цветущей аспиранткой, которая без умолку трещала то о Жирмунском, то о салатах, то о сроках приема работ на Ломоносовскую конференцию. Целый вечер Глеб ловил на себе пытливые взгляды, обладателей которых без всякой паранойи можно было бы уличить в вуайеристских наклонностях.
Веретинского пугала перспектива обручиться с кем-то, кто причастен к университетскому кругу. Брак с филологической девой приравнивался едва ли не к инцестуальной связи. Эксцентричное предубеждение проистекало не из ненависти к литературоведению или лингвистике, а из страха сделаться частью той самой клановой системы, которая с детства отталкивала Глеба. Интеллектуалы, притворяясь инакомыслящими, идеально вписывались в окружающий ландшафт. Профессорские династии не с меньшим рвением, чем воровские кланы, следили за чистотой крови; управленцы и коммерсанты среднего и высшего рангов, чтобы минимизировать издержки и риски, с ранних лет сводили отпрысков между собой, цинично демонстрируя на собственном примере преимущества кластерного подхода; потомственные работяги зарождали в своих детях с младых ногтей подозрение ко всему, что хотя бы отдаленно напоминало ученость и высоколобие. Такого рода предопределенность, обретавшая сословные контуры, не вязалась в сознании Веретинского ни с истиной, ни с красотой, ни с благом – с теми ценностями, что воспевала университетская среда. Скорее клановость, как и любая закоснелая форма, сигнальными огнями свидетельствовала о мертвечине.
Поначалу Глеб в уме твердо отделял Лиду от мертвечины.
А теперь, когда Лида отчитывала его за историю с суставом, сомневался, верно ли проложил границу в своем воображении.
– Он у тебя ноет? – доискивалась Лида.
– Нет.
– Ломит?
– Говорю же, скрипит.
– Если тебя волнует, запишись к врачу.
– Запишусь. Решил пока тебе рассказать, поделиться. Все-таки рубежное событие в жизни, – Глеб по-прежнему пытался отшучиваться.
– Запишись. Врач тебе скажет, что это нормальные возрастные процессы. Тебе не пятнадцать.
– Всего тридцать два.
– А как будто пятнадцать! Ломаешься, как подросток. То беспокоит, се беспокоит. Если беспокоит, предприми что-нибудь. В «Гугле» вон поищи. Взамен того, чтобы терроризировать меня целый вечер, забей туда вопрос: «Что делать, если скрипит сустав?»
Лида все перевирала. Глеб никого не терроризировал. Он лишь поделился с ней переживаниями. Поведал, как по-старчески хрустело колено при подъеме на третий университетский этаж. Признался, что этот пенсионный звук вызывал досаду и тревогу. Казалось, скрип разлетался по коридорам и аудиториям, свидетельствуя о том, что еще один человек на этой грешной планете вместо того, чтобы умереть молодым, обрек себя на бесславное увядание, на инертную борьбу с артритами и артрозами и на прозябание в очередях за льготными лекарствами. Веретинский рассказал Лиде ровно столько же, сколько и Славе, а она будто с цепи сорвалась. Она по-прежнему определялась с праздничным меню и раздражалась по пустякам.
Но ведь сустав – это не пустяк.
– Лида, это важно для меня, – сказал Глеб, собрав всю свою вежливость. – Когда ты чем-то озабочена, я не отмахиваюсь.
– Никто и не отмахивается!
– Тогда что это?
– Что это, что это? – передразнила она. – Это нытье.
– Вот как? Может, скажешь еще, что это недостойно мужчины?
– Так и есть. Нормальный мужик не парится по таким мелочам. Нормальный мужик живет и ходит, пока у него что-нибудь не отвалится или не сломается.
Это был удар ниже пояса. Глеб осекся. Его словно швырнуло о стену.
– Дура ты косая! – выпалил он.
Веретинский хлопнул дверью кабинета, чтобы отгородиться от рыданий. Пусть хоть стонет протяжно, пусть хоть слезами утопит соседей снизу.
Глеб открыл «ВКонтакте» и опубликовал пост:
Постареть: done.
Вдруг, как в сказке, у меня скрипнул коленный сустав, и все мне ясно стало теперь. Сначала подведут кости и мышцы, затем отнимутся конечности, а в финале предаст память.
Отныне требую уступать мне сиденье в автобусе и прощать мне маразматические чудачества в случае оных.
Кстати, никто не видел моих капель? Кажется, оставил их на тумбочке. Или в шкафу?
Из каких глубин всплыла эта «косая»? Веретинский ни разу не называл Лиду так и ничего подобного о ней не думал. Лида не косила и не промахивалась, в прямом и переносном смыслах. Уж ругательства-то ее, очевидно, били в цель.
Судьба свела Глеба с Лидой в супермаркете. Разделенные кассовым аппаратом и конвейерной лентой, они смутились безо всякой на то причины. Чтобы прервать паузу, Глеб пошутил, что по плечу симпатичной кассирши крадется мохнатый сизый паук и вот-вот заползет за ворот. Обескураженная Лида вместо ста пятидесяти семи рублей сдачи отсчитала пятьсот пятьдесят семь, а щедрый бонус был замечен Веретинским лишь дома. Несмотря на плаксивый дождик, Глеб повторно направился в магазин и спас Лиду от недостачи. Уже на следующий вечер они бросили все и поехали в планетарий, где по счастливому стечению обстоятельств оба давно планировали побывать, не находя раньше на то весомого повода. Через неделю Лида перебралась к Глебу.
Эта романтик стори скармливалась всем, кроме Славы. Правда о знакомстве на сайте для одиноких казалась слишком пресной, если не мещанской, поэтому не годилась для удовлетворения чужого любопытства. В конце концов, легенда о кассе, пауке и недостаче исключала сентиментальные крайности вроде вызволения из лап разбойников или неистовых страстей, заполыхавших от искры первого взгляда.
Веретинский, ревностно стороживший свои убеждения, в том числе и от внутренних нападок, время от времени гнал прочь мелькавшую на периферии мысль, что выбор за него сделал желудок. Если Лида и соблазнила его вкусными обедами, которые приносила в университет, любовно упаковав в контейнер и завернув тот в полотенце, причина была не в них. Точнее, далеко не только в них. Причин всегда неисчислимое множество и никакая из них не определяет конечный результат сама по себе.
Если суммировать, то Глеб влюбился на фоне немой кручины, которая без разбора настигала всех и каждого. Кто-то ведь и на молодых кондукторш кладет глаз, ища их затем в соцсетях, так почему бы и не сосредоточить устремления на девушке за кассой, на девушке в красном жилете с логотипом компании в районе сердца?
Лида обновляла «Инстаграм» раз в месяц и не заполняла уши жужжанием о тряпках. Окончившая безликий экономический колледж, она не успела обзавестись скверными интеллектуальными привычками, отличавшими тех поверхностно образованных особ, с кем Глеб был вынужден регулярно иметь дело. Непосредственность Лиды умножалась на ее наблюдательность, какую Веретинский не встречал у коллег по кафедре. Например, на втором свидании Лида тактично заметила, что он держит ложку не тремя пальцами, а пятерней, чтобы смотреться более развязно. От Лиды Глеб узнал то, чего не сообщала ему Алиса: что он предпочитает сладкой пище соленую, что уголки его рта характерно раздвигаются перед каждой шуткой, что спит он с тревогой на лице, точно ему снится снежная лавина. Выяснилось, что и после тридцати можно переосмыслить и себя, и свое место в мире.