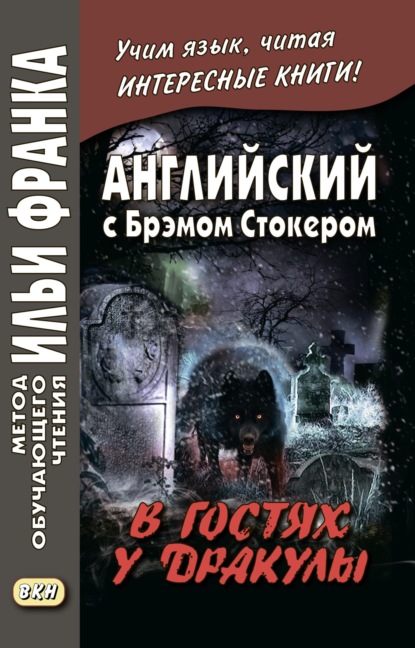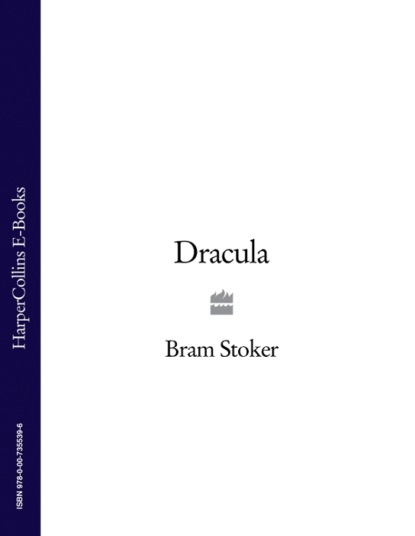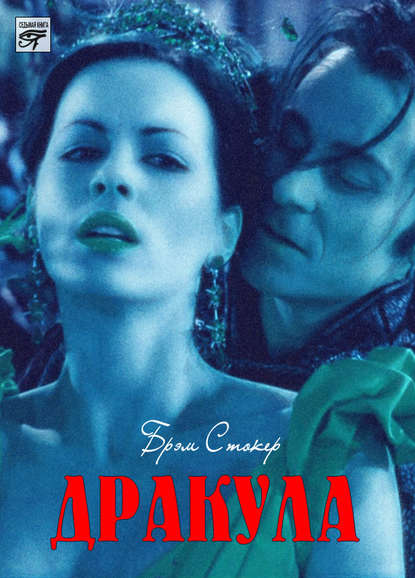
- Рейтинг Литрес:4.6
- Рейтинг Livelib:4.2
Полная версия:
Брэм Стокер Дракула
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Брэм Стокер
Дракула
Глава 1
Путевой журнал Джонатана Харкера (стенография)
3 мая, Бистрица. – Покинул Мюнхен 1 мая в 8.35 вечера и приехал в Вену ранним утром следующего дня; время прибытия по расписанию – 6.46, однако поезд опоздал на час. Будапешт – прекрасное место, судя по крайней мере по тому, что я успел увидеть из окна купе, и по моей короткой прогулке (я опасался слишком удаляться от вокзала, поскольку прибыли мы с опозданием, и поэтому время стоянки, наверняка, должны были сократить). Мое наиболее сильное впечатление – я покидаю Запад и попадаю на Восток; самый «западный» из всех восхитительных мостов над Дунаем (который, кстати, здесь очень широк и полноводен) – яркий образец османской архитектуры.
Поезд тронулся в положенное время, и после полуночи мы прибыли в Клаусенбург. На ночь я остановился в отеле «Ройал». На обед, или скорее на ужин, мне принесли цыпленка с подливкой сплошь из красного перца: очень вкусно, но страшно остро (зап.: списать рецепт для Мины). Спросил официанта, как это блюдо называется, и тот произнес: «Паприка хендль»; поскольку это национальная еда, я смогу ее заказывать повсюду в Карпатах. Мой весьма поверхностный немецкий здесь очень пригодился; я и правда не знаю, как бы управился без него.
Выкроив свободную минуту в Лондоне, я сходил в Британский музей, где по картам и книгам провел собственное исследование Трансильвании; должен признаться, меня чрезвычайно поразил тот факт, что предварительное знакомство со страной настолько полезно, что действительно помогает в общении со здешней знатью. Я обнаружил, что местность, которую он упоминал, расположена на крайнем востоке страны, аккурат на границе трех государств – Трансильвании, Молдовы и Буковины, в самом сердце Карпат; к слову сказать, это наименее изученная часть Европы. Я так и не смог найти карты или атласа, указывающих точное расположение замка Дракулы: эта страна их до сих пор не выпускает, поэтому сравнить данные с теми, что дает Британская топографическая служба, не представляется возможным. Тем не менее я обнаружил, что Бистрица – город, почтой которого пользуется граф, – достаточно известное место. Я еще сделаю здесь пару записей, чтобы освежить память, когда буду рассказывать Мине о своем путешествии.
Население Трансильвании более или менее четко делится на четыре группы: саксонцы на юге, вперемешку с которыми живут валахи – потомки древних дакинов; мадьяры на западе, а секлеры на севере и востоке. Нынче я нахожусь среди секлеров, которые считают себя потомками Аттилы и гуннов. Может статься, они и правы, поскольку, когда мадьяры в одиннадцатом веке захватили страну, здесь им пришлось сразиться с гуннами. Я прочел, что в карпатской «подкове» собраны всевозможные религии и суеверия, как будто некий невообразимый ураган забросил их всех в эти горы. Если это правда, то поездка моя, несомненно, станет очень познавательной (зап.: спросить графа о религии).
Спал я крайне беспокойно, и, хотя кровать казалась достаточно удобной, меня мучили всяческие кошмары. Всю ночь под моим окном выла какая-то собака; возможно, это она повинна в моих терзаниях. А может, здесь дело в паприке: я выпил всю воду из графина, и тем не менее жажда ничуть не утихла. Лишь под утро ко мне пришел сон. Разбудил меня настойчивый стук в дверь, из чего я заключаю, что спал вполне крепко. На завтрак снова подали паприку, а еще там была мамалыга – каша из кукурузной муки – и баклажаны, фаршированные мясом, – замечательное блюдо, называется имплетата (зап.: записать рецепт). С едой пришлось поторопиться, поскольку поезд отправлялся в восемь, вернее, должен был отправиться. После того как я примчался на вокзал в 7.30, мне пришлось еще битый час сидеть в вагоне, прежде чем мы наконец-то тронулись. У меня складывается впечатление, что чем дальше продвигаешься на восток, тем менее точны поезда. Что же тогда творится в Китае?
Целый день мы ползли по стране, полной неописуемого очарования. Время от времени мимо проплывали городишки и замки, стоящие на вершинах отвесных холмов, будто сошедшие со страниц старого требника. Иногда дорогу пересекали реки и ручьи, укрепленные берега которых свидетельствуют о частых наводнениях. Действительно, течение в них бурное, и судя по его виду, оно вполне способно снести любые заграждения. На каждой станции встречались группы, а иногда и толпы народа в более чем пестрых нарядах. Некоторые из них точь-в-точь наши крестьяне или те, которые попадались мне во Франции и Германии, – в коротких куртках, круглых шляпах и домотканых штанах. Однако остальные выглядели куда живописней. Здешние женщины вполне симпатичны (конечно, если не подходить к ним близко), но за талией они явно не следят. Каждая была одета в белое платье с широкими рукавами и огромным лифом, с которого свисали какие-то шнурочки, словно у балерин. И все же самая странная одежда у словаков – наиболее варварской группы среди здешних народностей – большие пастушьи шляпы, широченные грязно-белые штаны, линялые рубахи и чудовищно тяжелые кожаные ремни, часто подбитые медными гвоздями. Мужчины носят высокие сапоги, в которые они заправляют брюки; у них длинные волосы цвета вороньего крыла и огромные черные усы. Да, они определенно колоритны; однако разглядывать их нельзя – здесь свои суеверия. Все вместе они выглядят как орда древних восточных разбойников. Тем не менее мне сказали, что эти люди совершенно безобидны, будто дети.
Когда сумерки окончательно сгустились, мы наконец-то прибыли в Бистрицу – старое и очень интересное место. Расположенный практически на границе (Боргский тракт отсюда идет в Буковину), этот город знавал бурные времена, следы которых заметны и по сей день. Пятьдесят лет назад здесь бушевали страшные пожары, и полное запустение воцарялось пять раз. В самом начале семнадцатого века его осаждали целых три недели, и от битвы, голода и болезней погибло тринадцать тысяч человек.
Граф Дракула заказал мне номер в гостинице «Золотая корона», которая, к великому моему удовольствию, оказалась очень старой, и мне представилась возможность изучить особенности здешней архитектуры. Меня, очевидно, уже ждали, так как не успел я войти, как меня встретила бодрая румяная старушка в простом крестьянском платье – белая рубаха и двойной фартук, слишком пестрый и тесный, чтобы назвать его скромным. Когда я подошел к стойке, она, поклонившись, спросила:
– Герр англичанин?
– Да, – ответил я. – Джонатан Харкер мое имя.
Она улыбнулась, дала какие-то распоряжения старику, скорее всего мужу, и тот, отлучившись на пару секунд, вернулся с письмом в руках.
«Друг мой, добро пожаловать в Карпаты. Жду Вас с нетерпением. Спокойной Вам ночи. Завтра в три часа дилижанс отправляется в Буковину; в нем забронировано место. На Боргском тракте Вас будет ждать моя карета. Надеюсь, переезд из Лондона прошел приятно. Теперь Вы сможете насладиться здешними красотами.
Ваш друг,
Дракула».4 мая. – Как выяснилось, управляющему гостиницы поручили обеспечить меня лучшим местом в экипаже; что до деталей моей поездки, то старик проявил завидную сдержанность, всем своим видом дав понять, что не может разобрать мой немецкий. Однако я склонен в этом усомниться, поскольку до нынешнего момента он вполне сносно отвечал на мои расспросы. Сейчас же и он, и его жена лишь испуганно переглядывались и беспомощно разводили руками. Хозяин пробормотал, что в письмо были вложены деньги и что больше ему ничего не известно. Когда я поинтересовался, знаком ли он лично с графом и знает ли он что-нибудь о замке, старик одновременно с женой перекрестился и, ответив, что к уже сказанному ему добавить нечего, разговор прекратил. Близилось время отъезда, поэтому расспрашивать кого-нибудь еще было некогда. В целом у меня сложилось тревожное впечатление: я чувствовал, что какая-то тайна окутывает имя моего клиента.
Перед тем как мне съехать, хозяйка поднялась в мою комнату и неожиданно истерично обрушилась на меня со словами:
– Неужели вы должны ехать? Ох, молодой господин! Неужто вы и впрямь поедете?
Возбуждение ее оказалось столь сильным, что она растеряла все то немногое, что знала из немецкого, немыслимо смешивая свои причитания с каким-то не понятным мне языком. Удерживать нить разговора помогали лишь ее бесчисленные вопросы. Когда я заявил, что должен ехать немедленно и что меня ждут по важному делу, она снова спросила:
– Вы знаете, какой сегодня день?
Получив в ответ, что нынче четвертое мая, старуха лишь покачала головой.
– О да, я знаю это, я знаю! Но известно ли вам, что сегодня за день?
Уяснив, что я ее не понимаю, она продолжила:
– Сегодня канун дня Святого Георгия. Неужели вы не знаете, что, когда часы пробьют полночь, в силу вступит зло? Знаете ли вы, куда едете и зачем вы там нужны?
Состояние бедной женщины было столь напряженным, что мне пришлось по мере возможностей ее успокаивать, но все напрасно. В конце концов она упала на колени, умоляя меня остаться по крайней мере на день-другой. Все это казалось таким странным, что душа моя беспокойно металась, и я терялся, как мне поступить. Однако дело прежде всего, и я не нашел веских причин для того, чтобы свою поездку отложить. Таким образом, мне пришлось поднять ее с колен и сказать как можно тверже, что работа у меня стоит на первом месте и что я должен ехать сегодня. Старуха устало вытерла глаза и, сняв с шеи распятие, протянула его мне. Я ума не мог приложить, что мне с ним делать, поскольку, принадлежа к англиканской церкви, я должен был бы отвергнуть такой дар, усмотрев в нем идолопоклонство, но, с другой стороны, отказаться принять бесхитростный подарок плачущей старухи стало бы верхом черствости и неблагодарности. Наверное, она поняла мои колебания, поэтому сама накинула мне шнурок на шею и, сказав: «Это ради вашей матери», – быстро вышла из номера.
Я делаю эту запись, ожидая дилижанс, который, разумеется, опаздывает. Крестик все еще у меня на шее. Скорее всего, если страх хозяйки и не передался мне, то уж точно стал причиной какого-то смутного беспокойства. Если Мина прочтет эти строки раньше, чем я увижу ее сам, пусть получит мои наилучшие пожелания. Карета подана!
5 мая, в замке. – Серость раннего утра разогнали первые лучи, и вот уже солнце высоко над горами, освещая что-то вроде дальних хребтов, покрытых лесами, – это так далеко, что точнее отсюда определить невозможно. Спать не хочется. Поскольку будить меня не велено, я стану писать свой журнал, покуда не засну вновь. Мне предстоит рассказать о многих странных вещах.
Дабы тот, кому попадут в руки эти записи, не подумал, что я слишком плотно поел в Бистрице перед отъездом, детально опишу свой обед. Подавали то, что здесь называется «разбойничий бифштекс» – куски бекона, лук и говядина; все это густо посыпано красным перцем, насажено на прутья и зажарено на открытом огне (блюдо простое, как та конина, которую в Лондоне мы покупаем для кошек!). К мясу наливали золотистое вино, которое пощипывает язык; на вкус оно очень приятное. Я выпил пару бокалов, но не больше.
Усаживаясь в дилижанс, я обратил внимание на то, что извозчик подошел к моей хозяйке, и они стали о чем-то беседовать. Вскоре я понял, что предметом их обсуждения была моя скромная персона; такой вывод напрашивался сам собой, так как время от времени они на меня оборачивались. Некоторые из тех, что сидели у двери (она называется здесь словом, в переводе обозначающим «носитель заклятия») гостиницы, подходили ближе, слушали и тоже смотрели на меня; у большинства в глазах читалось сочувствие. До меня то и дело доносились одни и те же слова, произносимые многоголосой толпой, весьма странные слова… Я потихоньку достал из саквояжа словарь. То, что я в нем обнаружил, чрезвычайно меня расстроило: ордог – дьявол, покол – ад, стрегойка – ведьма, вролок или влслак – первое по-словацки, а второе по-сербски обозначают одно и то же – оборотень, вампир (зап.: расспросить графа о местных суевериях).
Как только мы тронулись, толпа у дверей, успевшая значительно разрастись, заволновалась: все как один перекрестились, а потом каждый направил в мою сторону два растопыренных пальца. Чуть позже с огромным трудом мне все же удалось разговорить одного из своих попутчиков и вытянуть из него объяснение такому странному поведению крестьян; поначалу тот не отвечал, но, услышав, что я англичанин, наконец нехотя признался, что это был оберег от дурного глаза. По правде говоря, такое начало поездки в чужую страну к незнакомому человеку ничуть не радовало. Однако в пути тревоги как-то рассеялись, а окружающие меня люди оказались такими сердечными и отзывчивыми, такими симпатичными, что я незаметно успокоился. До конца своих дней не забыть мне той живописной толпы на постоялом дворе, осеняющей себя крестным знамением на фоне яркого неба, большой старой арки и густой зелени олеандров… Извозчик, натянув широкие поводья, щелкнул хлыстом, и все четыре маленькие лошадки прибавили шагу. Путешествие началось.
Мои смутные опасения растаяли на фоне великолепного пейзажа, хотя, доведись мне знать язык или даже языки, на которых переговаривались пассажиры, не думаю, что страхи пропали бы с той же легкостью. Перед нами простиралась холмистая равнина, покрытая лесами и рощами, сквозь которые проглядывали пригорки, заросшие буйным многотравьем, с крестьянскими хатами на вершинах. Все окрест тонуло в пышном цвету: осыпались яблони, сливы, груши, вишни, роняя свои нежные лепестки в яркую зелень. Вокруг холмов (Миттель-ланд – здешнее название этой местности) извивалась дорога, то взбираясь вверх, то теряясь в сосняках, поднимающихся по пригоркам, подобно языкам пламени. Колея была разбита, и все же казалось, что мы не ехали, а летели над ней в какой-то лихорадочной спешке. Не имея понятия, отчего мы так торопимся, я, немного поразмыслив, решил, что кучер хочет сократить опоздание и прибыть в Борго Прунд в назначенный час. Говорили, что этот тракт хорош лишь летом, а сейчас он еще недостаточно просох после стаявших зимних снегов. Вообще, услышать в Карпатах о хорошей дороге – большая редкость: среди местных традиций ремонтные работы отсутствуют. Обычай этот корнями уходит в древность, когда господари боялись строительством дорог спровоцировать турок на начало войны, угли которой тлели, но не гасли в течение веков.
Из-за роскошной зелени Миттель-ланда выглядывали бастионы могучих лесов, сквозь которые время от времени виднелись степи, уходившие к самому подножию гор. Подобно огромным крепостям, с обеих сторон надвигались на нас Карпаты, освещенные ярким полуденным солнцем; темно-синие и пурпурные в тени, зеленые и желтые на покрытых травой выступах, с ослепительно белыми вершинами, они тянулись до самого горизонта, где терялись в мглистой дымке. Присмотревшись, можно было заметить гигантские ущелья, и когда случайный луч падал в их глубины, на солнце взлетали вверх серебристые искры водопадов. Когда карета обогнула подножие очередного холма, следуя прихотливому изгибу дороги, перед нами вырос монолит, заснеженный верх которого таял высоко в облаках. Один из пассажиров, благоговейно перекрестившись, дотронулся до моей руки и воскликнул:
– Смотри! Истен-шек – «Божий трон»!
Путь все тянулся куда-то в бесконечность, солнце клонилось все ниже и ниже, и вскоре со всех сторон на нас наползли длинные вечерние тени. Снег на вершине могучей скалы все еще освещался гаснущими лучами, искрясь холодным розоватым блеском, и от этого темнота, спустившаяся в долину, казалась еще мрачнее. По дороге то здесь, то там мелькали фигурки чехов и словаков, а также многочисленные придорожные распятия, при виде которых мои попутчики почтительно крестились. Под ними, как правило, стояли на коленях какие-то люди, которые настолько глубоко ушли в молитву, что не замечали, не видели и не слышали приближающегося экипажа.
По дороге я заприметил много чего необычного: скирды сена на деревьях, плакучие березы, нежные стволы которых отсвечивают в сумраке настоящим серебром…
Время от времени мы разъезжались с ляйтервагонами – обычными крестьянскими повозками с длинным остовом, призванным сглаживать неровности дороги. В них неизменно сидели возвращавшиеся с полей крестьяне, чехи в белом, словаки в пестрых пастушьих одеждах, с топорами и баулами на плечах. С приходом вечера заметно похолодало; на смену сумеркам опустилась темнота, а вместе с ней и туман, окутавший сосны, березы и дубы, под которыми кое-где виднелись клочья грязного прошлогоднего снега. Если карета ныряла в какую-нибудь рощу, чернота обступала ее со всех сторон; она давила и навевала на людей тоску и тревогу, высвобождая те самые мрачные и причудливые фантазии, что при свете дня прячутся глубоко в сердце и терпеливо ждут часа, когда закат окрасит пурпуром туман над Карпатами, а долины погрузятся в ночь. Иногда колея была настолько разбита, что, несмотря на беспокойство возничего, лошадям приходилось еле плестись по непролазной грязи. При одной из таких задержек мне захотелось сойти и прогуляться вдоль обочины, как это мы обычно делаем дома, однако в ответ на такую мысль кучер лишь замахал руками: «Нет, нет, вам нельзя здесь ходить, собаки слишком злые». Немного помолчав, он не без доли злорадства оглядел пассажиров, словно ожидая одобрительных улыбок, и добавил: «Вам еще предстоит кое-чего пережить, прежде чем вы отправитесь сегодня спать!» После этого мы единственный раз ненадолго притормозили, когда кучер зажигал фонари.
С приходом темноты люди как-то заметно оживились и наперебой стали разговаривать с извозчиком, не умолкая ни на минуту и словно давая понять, что неплохо бы поторопиться. Хлыст нещадно гулял по спинам лошадей, и тишину ночи часто разрывал залихватский свист. Впереди обозначилось что-то светло-серое, очень похожее на громадную расщелину. Беспокойство моих попутчиков заметно возросло, а безумие кучера достигло предела, и теперь весь наш экипаж напоминал утлое суденышко, пробивающее себе путь сквозь штормовые валы. Приходилось держаться за поручень. Однако постепенно дорога стала выравниваться. Теперь горы наступали со всех сторон, нависая над нами тяжелыми складками. Начинался Боргский тракт. Один за другим попутчики стали предлагать мне подарки, причем делали это столь чистосердечно и настойчиво, что об отказе не могло быть и речи: ими оказались разного рода штуковины, принимая которые, я слышал добрые напутствия и благословения. Не укрылись от меня также и те странные признаки ужаса, что так памятны мне по Бистрице, – крестные знамения и обереги от сглаза. Внезапно возничий подался вперед, а пассажиры уставились в темноту. Очевидно, нечто очень важное либо уже случилось, либо ожидалось с минуты на минуту. Все мои расспросы ни к чему не привели, и люди упорно отмалчивались. В таком напряженном состоянии мы проехали еще немного, как вдруг заметили, что скалы расступились и тракт перевалил на восточный склон. Под нами клубился туман, а воздух казался тяжелым и давящим, словно предвещал грозу. Меня не покидало впечатление, будто горы стали естественной границей между атмосферой обычной и чужой, холодной и враждебной. Мои глаза уже искали карету, что должна доставить меня к графу. Каждое мгновение я ждал, что вот-вот в темноте мелькнет огонек фонаря, но увы, окрестности по-прежнему окутывала мгла. Единственным источником света в этом унылом месте оставался наш собственный фонарь, в лучах которого поднимался пар от спин уставших лошадей. Перед нами простиралась пустынная каменистая дорога. Со вздохом облегчения пассажиры расселись по местам, словно желая тем самым лишь усилить мое разочарование. Я уже начал было подумывать, что предпринять, раз экипаж за мной не прислали, когда извозчик, взглянув на часы, что-то быстро и тихо произнес, как мне показалось, «на час позже обычного», а потом обернулся ко мне и на немецком, куда более слабом, чем мой, к слову сказать, весьма посредственный, заявил:
– Кареты нет. Видимо, господина не ждут. Он сейчас поедет в Буковину и вернется завтра. Лучше днем.
Пока тот произносил свою речь, лошади начали фыркать и взбрыкивать так сильно, что пришлось их сдерживать. Под нестройный хор голосов и ставшее уже привычным крестное знамение я заметил карету с четырьмя лошадьми в упряжке, беззвучно подкатившую к нам сзади. При скудном свете наших фонарей я увидел, что эти великолепные животные оказались угольно-черной масти. На козлах сидел высокий мужчина, длиннобородый, в черной шляпе, которая скрывала в своей тени все его лицо. Из-под шляпы сверкала лишь пара глаз, при свете фонаря отливавших красным. Он обратился к нашему кучеру:
– Сегодня вы рано, мой друг.
– Английский господин очень спешил, – заикаясь, ответил тот.
– Именно поэтому, я полагаю, – съязвил незнакомец, – вы и решили увезти его в Буковину. Меня не обманешь, приятель: я слишком много знаю, а кони мои резвы.
Он улыбнулся, и свет упал на нижнюю часть его лица, показав неестественно красные губы и длинные зубы, белые, как слоновая кость. Один из моих попутчиков шепотом процитировал своему соседу строку из Бургера:
«Denn die Todten reiten schnell».(Ибо мертвые быстры.)Незнакомец, очевидно, расслышавший эти слова, обнажил свои зубы в довольном оскале. Пассажир отвернулся, наскоро перекрестился и сделал «рогатку».
– Подайте мне багаж господина, – приказал слуга графа, и мои пожитки моментально переместились в его карету. Стальным обручем он сомкнул руки на моем плече, подсаживая меня, и в этом объятии чувствовалась недюжинная сила. Не произнеся ни слова, он натянул вожжи, и мы понеслись в темноту. Оглянувшись назад, я бросил прощальный взгляд на нашу повозку, почти уже исчезнувшую в тумане, и на бывших своих попутчиков, по-прежнему истово крестившихся. Через несколько мгновений все вошли в дилижанс, возничий щелкнул хлыстом, и лошади понеслись дальше, в сторону Буковины. Глядя вслед удаляющемуся экипажу, который уже едва виднелся во мраке, я поймал себя на том, что весь дрожу, что мне жутко и очень одиноко; в тот же миг на моих плечах оказался плащ, на коленях плед, и я услышал слова, произнесенные на безукоризненном немецком:
– Ночь холодна, мой господин, а граф приказал позаботиться о вас самым тщательным образом. Если вам угодно, под скамьей вы найдете фляжку со сливовицей (это местный сорт бренди).
Собственно, ничего такого мне не требовалось, и все же было очень приятно осознавать, что, случись непредвиденное, я всегда смогу согреться. Я чувствовал себя немного не в своей тарелке, но куда сильнее, чем неудобство, меня терзал страх. Представься мне возможность выбирать нынче, и я с радостью отказался бы от этого ночного путешествия навстречу неизвестности…
Карета тяжело катила вперед, затем резко повернула, потом мы снова долго ехали прямо. Постепенно у меня родились подозрения, что мы попросту ездим по кругу; выбрав для себя в качестве ориентира приметный утес, я вскоре убедился в собственной правоте. При других обстоятельствах я бы тут же спросил извозчика, что сие означает, но сейчас я боялся. Где-то в глубине души я понимал, что в моем положении глупо пытаться изменить ход событий, и коль скоро чьей-то воле угодно, чтобы мы задержались, то так оно и будет. Еще немного погодя мною овладело любопытство, сколько времени мы уже кружим по этим скалам. Я чиркнул спичкой и при свете пламени взглянул на часы: наступала полночь. Невольно я поддался леденящему ужасу, поскольку здешние предрассудки относительно этого часа, по-видимому, все же оставили след в моей душе. Все так же молча я начал терзаться самыми кошмарными подозрениями.
Где-то очень далеко, внизу от дороги, наверное, в одной из крестьянских хат начала лаять собака, и вскоре голос животного стал звучать так, что не оставалось сомнений: подобные звуки может издавать лишь существо в агонии или полное страха. В ответ на лай по соседству завыл еще один пес, потом еще и еще, покуда все окрестности тракта не огласились этими жуткими завываниями; казалось, не только из соседней деревни, но и ото всех сел страны, со всего света, окутанного тьмой, исходил этот холодящий кровь звук. Заслышав шум, лошади начали было дергаться, однако возничий их успокоил, тихо что-то прошептав; и все же бедные животные продолжали бояться, дрожали и обливались потом, будто только что вышли из-под проливного дождя. Вскоре где-то вдалеке, высоко в горах, по обе стороны нашей дороги разнесся новый звук – еще более громкие и пронзительные завывания волков, – от которого я почувствовал себя, очевидно, так же, как и наша несчастная четверка, поскольку в этот миг мною овладело страстное желание выскочить из кареты и бежать куда глаза глядят. Лошади теперь безумствовали, возничий изо всех сил старался их удержать, и лишь мгновения отделяли нас от падения в пропасть. Разумеется, через пару минут вой этот уже не так резал ухо, а кучер успел соскочить с козел и встать перед испуганными животными. Он оглаживал шкуры, трепал за ушами и что-то мягко нашептывал, точь-в-точь как объездчик на родео, и к удивлению моему, под этой лаской лошади вновь стали послушными и управляемыми, несмотря на то, что страх засел в них очень глубоко. Возничий вернулся на свое место и, натянув вожжи, снова погнал вперед. Когда мы в очередной раз максимально удалились от тракта, он неожиданно свернул на узкую тропу, уводившую вправо.