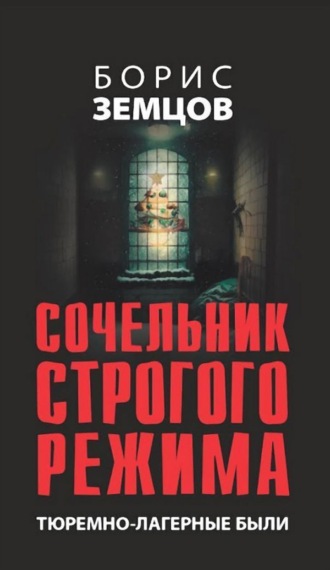
Борис Земцов
Сочельник строгого режима. Тюремно-лагерные были
© Земцов Б. Ю., 2023
© Книжный мир, 2023
© ИП Лобанова О. В., 2023
* * *
Диагноз. Рецепт. Руководство Предисловие полковника В. В. Квачкова
Сборник рассказов Бориса Земцова на тюремно-лагерные темы «Сочельник строгого режима» важно прочитать каждому соотечественнику. Независимо от социального положения, возраста, наличия высшего или любого прочего образования. Рекомендую не потому, что сам пробыл в тюрьмах и лагерях 11 лет, и кроме «родной» колонии ИК-5 в Мордовии позади ещё шесть СИЗО, в том числе три московских, две тюремные больнички и две «психушки». Несмотря на особый тюремный язык, в котором жил Б. Земцов и его сокамерники, автор не скатился на употребление жаргонного стиля, дабы показать свою осведомлённость, рассказы написаны правильным русским языком, в лучших традициях отечественной художественной литературы и поэтому, многие из них, благодаря увлекательным сюжетам, читаются «на одном дыхании». Но куда важнее и актуальней, что содержание этих рассказов – своего рода социальный срез общества, частью которого сегодня являемся и мы с вами.
По сути, книга Бориса Земцова – это точный и беспристрастный пейзаж сегодняшнего российского государства со всеми его плюсами и минусами, достижениями и пороками, перспективами и тупиками. Внимательный и думающий читатель наверняка обнаружит в этих рассказах и ответы на вечные национальные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?». Вольно или невольно, на собственном примере и на примерах судеб своих товарищей «по неволе», сокамерников и солагерников, автор даёт и оценку нынешнего состояния правоохранительной системы в России, качеству правосудия в нашем государстве. Соответственно ставится диагноз нашему государству и обществу. Диагноз безжалостный, но объективный и аргументированный. Этот диагноз я, как человек, не понаслышке знающий, что такое «камера», «этап», «зона», полностью подтверждаю. Очень показательно, вроде как вскользь обронённое, но такое точное, опять очень личное наблюдение автора из рассказа «Ангел на пальме»: «В “пятёрке”, в СИЗО № 5, где до приговора отсидел почти полгода, сменил он три камеры. За это время прошло перед ним больше сотни арестантских судеб. И не одна эта судьба не была озарена торжеством справедливости или счастливого послабления. Это означало, что никто ни из одной камеры на волю не вышел: все только на этап, только в зону, только из одной разновидности неволи в другую».
Самое время вспомнить, что процент оправдательных приговоров в нынешнем российском правосудии на порядки ниже, чем в сталинские времена, из которых по-прежнему пытаются делать «страшилку» лукавые либералы. Выходит, нынешние жернова отечественного правосудия крутятся исключительно в одну сторону: на беспощадное перемалывание человеческих судеб. Значит, в руках у сегодняшней нашей Фемиды весов и вовсе нет, значит, в каждой руке у неё только по острому мечу, которыми она без устали крушит и крушит судьбы соотечественников. Тех самых соотечественников, что на воле, у заводского станка, на сельской пашне, на передовой украинского фронта смогли бы быть куда полезней нынешнему российскому государству, чем на нарах, в бараке, в переполненных душных «столыпиных» и «зековозах».
По-своему показателен и очень важен в плане понимания и принципиальной оценки нынешней российской действительности построенный по образцу русской сказки рассказ Бориса Земцова «Как дед Калинин детским писателем стал». Его герой, уже немолодой, досыта нахлебавшийся неволи во всех возможных измерениях бывший зек вдруг пишет книгу о своих злоключениях. Уже готовую рукопись он предлагает в трёх разных издательствах, и …отовсюду в гневе и недоумении уходит после мерзких и гадких предложений, в которых безошибочно угадываются стиль и почерк нашего времени. В одном издательстве его просят восхвалить нынешнюю исключительно продажную и подлую тюремную систему, в другом сделать реверанс в сторону набирающих нынче тренд содомитов, в третьем воспеть так называемых правозащитников, которые никого никогда не защищали и защищать вовсе, похоже, не собираются. Всем этим предложениям герой даёт принципиальный и жёсткий отпор, он остаётся на высоте, личную «планку» сохраняет, а вот какова, согласно этому повествованию, «планка» нынешнего общества и государства остаётся только догадываться.
Нет смысла пересказывать сюжеты рассказов Бориса Земцова. Их надо читать. И при этом ещё раз убедиться, что главное их достоинство не только в объективном показе, спрятанной для большинства из соотечественников за колючей проволокой, реальности российской неволи. Куда важнее, что эти рассказы учат, как за этой самой колючей проволокой не просто выжить, но и остаться человеком, сохранить порядочность и достоинство. Словом, остаться русским человеком – и на воле, и в неволе.
В недалёком прошлом порядочный арестант полковник Владимир Квачков.
Субботничек
В тюрьме поздняя осень и мрачней и муторней, чем на воле. Это потому что непогода, короткий день и прочие сезонные нерадости накладываются на пронзительное ощущение несвободы и зловещую неопределённость твоего близкого будущего.
В итоге давящая тоска в камере клубилась и расползалась. Она плотной, вполне осязаемой становилась, даже мерещилось, будто тоска эта всё пространство заполняла и своей массой прочь воздух выдавливала. Хотя, какой воздух в хате [1], где вместо двенадцати постояльцев больше двадцати набито, где круглые сутки курят, что-то варят, стирают и сушат, а вместо окон – единственная форточка размером с кошачью голову в глухом углу. Понятно, не воздух здесь был, а спресованный смрад, и смрадом этим дышали мы круглые сутки, бронхи и лёгкие свои царапая и мозг свой разрушая.
В один из таких тягостных ноябрьских вечеров смотрун [2] Серёга Косарь, покуривая у тормозов [3], ненавязчиво, но многозначительно призвал нас, сокамерников:
– У кого возможность есть, затягивайте [4] в кабанах [5] бумагу белую… Четвёртый формат…
В тюрьме вопросов лишних задавать не принято. Никто и не задавал. Смотрун сам пояснил:
– Хату поклеить надо… Светлее будет…
И добавил совсем не эстетичное и вовсе не толерантное:
– А то живём как у негра в ж…
Не знаю, как там в дебрях негритянских внутренностей, но на нашем, очень ограниченном пространстве, действительно, откровенно темно было. Хата располагалась в полуподвальном этаже здания СИЗО [6], уже упомянутая форточка, размером с кошачью голову, едва на уровень асфальта тюремного двора выходила и никакого света не давала. Единственная обосновавшаяся на потолке слабая лампочка просто не в силах была пробить слоистый коктейль испарений и табачного дыма.
Ещё присутствовал в камере никогда не выключаемый телевизор, но он излучал не свет, а пульсирующую ядовитую муть. Понятно, что некогда покрашенные в зелёный цвет и насквозь пропитанные никотином стены выглядели при таком раскладе грязно-бурыми и просветлению пространства вовсе не способствовали. Выходило, ничего не преувеличивал смотрун камеры, оценивая степень освещённости места нашего вынужденного обитания.
Две недели ушло на сбор нужного количества бумаги, день потратился на изготовление клейстера [7] из тюремного хлеба, который, кстати, для еды и не сильно пригодным был. Наконец, в один из вечеров, всё так же покуривавший у тех же камерных тормозов Косарь возвестил:
– Вот сегодня и займёмся…
И занялись.
Даже какое-то разумное разделение труда сложилось. Одни процеживали через куски бинта и лоскуты пожертвованной «на общее» простыни клейстер, другие аккуратно смазывали им листы бумаги, третьи, балансируя, по верхнему ярусу продавленных шконок [8], что некогда какой-то особо остроумный арестант назвал «пальмой», клеили эти листы на стены.
В один из моментов коллективного действа, оказался я рядом с Косарем. Почему-то увидел он во мне и слушателя и собеседника. Потому и сообщил с доверительной, очень человеческой интонацией:
– В тюрьме важно, чтобы все люди заняты были… Иначе тёрки, разборки, проблемы всякие…
Возможно, и спорный вывод из области социально-психологических наблюдений, только смотруну видней. Он – арестант бывалый. По первой ходке восемь лет отмотал. По какой-то тяжёлой статье. А сейчас и вовсе с двумя жмурами [9] заехал. Детали делюги не совсем традиционные. Во всех смыслах. Вроде как, вышел он из дома вечером с собакой в парк прогуляться. По пути на двух милующихся представителей меньшинств наткнулся. Ну, и… отреагировал. В полном соответствии с собственными понятиями о терпимости, естественности интимной ориентации и активной личной позиции. Возможно, и какие ассоциации по первому сроку обретённые добавились. Перестарался. Итог… два трупа. Значит, лет около двадцати, срока, ему теперь, как в тюрьме говорят, корячилось. У меня, первохода [10], такие цифры, да и события за ними стоящие, в голове пока трудно укладывались. Потому и в разговорах с ним молчал больше. Вот и в тот вечер я диалог разве что деликатным кивком поддержал. Косарю кивка мало было. Ему, похоже, живого слова хотелось. С поддержкой и одобрением, разумеется. Потому смотрун более чем конкретно поинтересовался:
– Как тебе субботничек?
А тут и слова специальные подбирать и, тем более, душой кривить не пришлось.
– Нормально… Светлее в хате стало…
В камере, действительно, от свеже оклеенных белой бумагой стен посветлело. Как в доме утром, когда ночью первый снег выпал.
Удивительно, что и простора в нашей перенаселённой хате прибавилось. Будто кто стены раздвинул и потолок приподнял, а шконари двухъярусные, что основное пространство между собой делили, в размерах урезал и в пол втопил. Показалось, даже дышать легче стало, хотя тюремный смрад на вольный воздух никто здесь не заменял, да и возможно ли такое в месте нашего принудительного обитания?
И ещё одна деталь на себя внимание настырно разворачивала.
На одной из стен прилепился в нашей хате иконостас кустарный, из бумажных иконок разных сюжетов и размеров составленный. Он нам в наследство от прежних постояльцев достался.
Казалось, что не так часто мы на него внимание обращали. Можно было даже предположить, будто иконостас – вовсе лишняя деталь нашего специфического интерьера. Тем более, что и вечно курили с ним рядом впритык, тут же и забористо матерились.
Про иконы вспоминали всё больше по потребительской необходимости: подходили желающие приложиться или перекреститься, когда на суд кому за приговором ехать или кому на этап отправляться.
Получалось, не сильно как расположены к православию обитатели нашей камеры. Но так только до поклейки стен представлялось. Своими глазами видел, с какой трепетной аккуратностью арестанты с иконостасом обошлись, как листы бережно подрезали, белоснежное поле вокруг обеспечивая. Больше того, пришло кому-то в голову собрание иконок украсить. Из фольги серебряной, что основу молочного пакета составляла, затейливый орнамент вырезали, по периметру расположили. Тем же клейстером приклеили. Совсем по-другому, нарядно и даже величественно смотрелся теперь самодельный, ранее такой неказистый, иконостас. Даже совестно стало за недавний поспешный вывод о, якобы, невысоком уровне религиозного чувства в сознании сокамерников. Впрочем, с какой стати я себя самого из всего населения хаты выделять буду? И моя Вера была на тот момент и неокрепшей и неуверенной, и до полного понимания сути Веры Православной, ох как, далеко тогда было…
Засыпая, окинул взглядом и подсвеченное новым, едва ли не торжественным, светом пространство нашей камеры и по-новому воспринимаемый теперь кустарный иконостас. Успел даже предположить, что между свежеоклеенными стенами и обновлённым иконостасом, возможно, существует таинственная, но очень прочная и важная связь. От таких мыслей, кажется, со светлой улыбкой и заснул я в ту ночь.
А проснулся от …разноголосого мата. Ругались многие: и те, кто проснулся раньше меня, и те, кто вовсе не спал в ту ночь, дожидаясь своей очереди занять шконарь, потому как не у каждого в нашей перенаселённой камере было своё постоянное спальное место. Ругались, потому что видели, как накануне с таким трудом приклеенные бумажные листы формата А4 один за одним отделялись от стен камеры и, тяжело планируя, а то и просто шмякаясь, падали вниз. Одни из них оставались на пальме, другие, выделывая причудливый манёвр, залетали на первый ярус шконарей, третьи ложились на пол, образуя причудливую мозаику. Белыми эти листы уже не были. Серый цвет, вперемешку с мрачно-бурым, с грязно-голубым и угрюмо-синим, преобладал в них.
Спросонья я не мог понять сути и причин происходящего. Казалось, кто-то невидимый, многорукий, когтистый и ловкий отдирал и отбрасывал прочь результаты нашего хлопотного и, как успело показаться, даже возвышенного труда. Непонимание длилось недолго. Звучавшие в промежутках между матерными восклицаниями комментарии прояснили ситуацию.
– Забыли, что стены сырые…
– По мокрым стенам клестер и сполз…
– Листы воды набрали и попадали…
За это совсем короткое время успел отметить, что освобождающиеся от накануне приклеенных, уже вроде как и не белых, бумажных квадратов стены выглядят ещё хуже, чем до коллективного действа, названного смотрящим нашим субботничком. Показалось, что грязней и мрачней они стали. Заодно представилось, будто накануне, вроде как раздавшаяся в объёме камера не просто вернулась в прежние свои параметры, а ещё более скукожилась, стала у́же и ниже. На миг даже померещилось, что покидающие стены бумажные листы забирают с собою и то, что очень условно считалось в камере воздухом, чем мы вынуждены были дышать, бронхи и лёгкие свои царапая и мозг свой разрушая. Будто, ещё минута, и вовсе не останется ничего, пригодного для дыхания, и навалится на нас не какое-то, а смертное удушье, от которого ни отсрочки, ни спасения.
Проснувшийся позднее смотрун Косарь, в случившемся сориентировался быстро, нисколько не удивился, только коротко выругался. Позднее, закурив на своём привычном месте у тормозов, озвучил собственную версию неудачного финала субботника:
– Клейстер жидковат оказался… Надо было круче заваривать…
Не дождавшись реакции на сказанное, продолжил:
– Или клей надо было вольный затягивать… Этот хлеб ни жрать, ни на клейстер не годится…
Ближе к обеду тяжёлые и липкие от клейстера листы собрали в служивший в камере мусорным ведром картонный ящик с неровно оборванными краями. Какого цвета стали эти листы, внимания никто не обратил. Никто в разговорах не возвращался и к теме вчерашнего субботничка. Разве что уже вечером самый пожилой из нас, дед Гордей, заехавший за кровавую разборку с соседом по коммуналке, в которой фигурировали и пустая бутылка, и утюг, и лыжная палка, поправив скреплённые грязной резинкой очки, сказал, ни к кому не обращаясь:
– Беды́ эти стены столько в себя впитали, что белый цвет им ни к чему… Отвергли они его… А где цвет – там и свет…
Не было ясности, был ли дед Гордей в той разборке потерпевшим или совсем наоборот, зато была у него на тот момент в хате снисходительная репутация то ли баптиста, то ли слегка сумасшедшего. Потому что часто листал он какую-то книгу без обложки, и порою сам с собой разговаривал, с головой накрывшись на шконаре в са́мом углу, у той самой форточки размером с кошачью голову.
Возможно, поэтому никто разговор и не поддержал.
Про беду, похоже, он очень кстати вспомнил. Слово «беда» в неволе свой особенный смысл имеет. «Беда» здесь – то же, что и «делюга», короче, синоним состава преступления. У каждого переступающего порог тюремной камеры просят не статью обвинения назвать, а так и спрашивают:
– Какая у тебя беда?
Тут лишь в очередной раз удивиться оставалось, насколько безупречно точен арестантский язык. Потому что «беда» каждого третьего из нынешнего населения нашей хаты представляла собой чудовищный гибрид результата невезения человеческого и произвола отечественных правоохранителей.
Вот Витя-молдаванин. Приехал в Москву на заработки, на стройку устроился. Сначала всё нормально: трудился, деньги семье на Родину посылал. Потом с выплатами – заминка, а жрать надо, начал в универсаме подворовывать. По мелочи, чтобы ноги не протянуть. Раз сошло, два получилось, на третий раз охранники магазина бдительностью блеснули. С поличным скрутили, сразу предложили:
– Давай полтинник – замнём, отпустим… Нет – мусорам сдадим…
Полтинник в этом случае – пятьдесят тысяч рублей. Не было у Вити таких денег, и взять было неоткуда. Потому и оказался он в ближайшем от универсама РОВД [11], где ещё одно очень похожее предложение услышал:
– Плати сотку и вали на свою стройку… Нет – значит суд впереди, а потом – срок…
Таких денег тем более взять было неоткуда. Вот и дожидался Витя в нашей хате суда, а значит и неминуемой зоны, а слово «беда» лучшим синонимом его истории было.
Вот Саша Каспер. Тот с наркотой залетел. Насколько действительно виноват был, не сейчас судить, но объявился в его деле адвокат, пообещавший, что «всё решить можно». За деньги, понятно. Говорил, что и со следаками и судьёй «всё схвачено» На первый «взнос» родители всю наличность собрали. На второй машину и дачу продали. На третий долгов и кредитов набрали. Только адвокат со всеми этими деньгами перед самым судом пропал. Вроде заболел, на суде вместо него его коллега был. Суд восемь лет назначил. Телефон первого адвоката так и не отвечал. Первые два дня после суда Каспер не пил, не ел, не спал, только курил и в одну точку смотрел. Понятно, что и для его случая «беда» слово самое подходящее.
Повторюсь, но таких «бедоносцев» в нашей камере добрая треть была…
Днём позднее, смотрун Косарь обратил внимание, что вырезанный из серебряной фольги, украсивший самодельный иконостас, орнамент вовсе не отклеился, а остался на своём, определённом участниками субботничка, месте. Объяснил это по-своему:
– У фольги основа другая… Потому и клейстер схватился…
И эта тема обитателям камеры интересной не показалась.
Вскоре о субботничке вовсе забыли. Не уверен, что кто-то из обитателей нашей хаты вспоминал о нём позднее. Разве что я, уже на воле, спустя столько лет, вспомнил. Даже этот рассказ написал. На тот момент мне, пожалуй, лет уже больше, чем тогда деду Гордею было.
А вот связь между белым цветом и белым светом я, кажется, усвоил. Именно после субботничка. Со слов деда Гордея. Которого, то ли баптистом, то ли сумасшедшим считали.
Жаль, не успел в своё время поинтересоваться, что за книгу без обложки он читал.
Злой привет от майора Кузи
Сначала было так.
Была у майора Кузьмина жизнь, которую на девяносто девять процентов составляла служба в зоне строгого режима. И это ему нравилось. И по-другому, наверное, он свою жизнь не представлял.
Со стороны могло даже показаться, будто не жизнь это, а сплошное творчество, какая-то форма самоутверждения личности.
Заступает в наряд дежурным по лагерю майор Кузьмин – ползёт из барака в барак невесёлое и даже угрожающее: «Кузя дежурит…»
Это значило, что в любое время дня и ночи, когда в сопровождении наряда, а когда и совсем один, мог он появиться в самом неожиданном месте, в самый неподходящий момент. Например, когда арестанты брагу разливают, или «трубу» заряжают [12]. Соответственно, всякий раз в такой день из лагерного блаткомитета [13] и от отрядных смотрунов падала жёсткая установка: «Запреты на верхах не держать, с игрой осторожней и во всём прочем не обострять, не провоцировать…» Как пояснение, а может и для усиления сказанного добавлялось: «Кузя заступает…»
Неведомым образом просочилась с воли и давно жила в лагере «фишка», как майор Кузьмин сам себя дома тренирует: попросит жену мобильник в комнате спрятать и … ищет с включённым секундомером! Вроде как нюх отрабатывает, чтобы потом телефоны и прочие запреты на шмонах легче находить было.
Ещё поговаривали, будто были у него во всех отрядах свои, трижды засухарённые осведомители, о которых даже кум был не в курсе, и которые работали на него, майора Кузьмина, исключительно. Только это вряд ли. Скорее всего, помогала ему особая мусорская, обострённая и отшлифованная в нём до совершенства, «чуйка». Сам видел, как зашёл однажды Кузя в нашу локалку [14]. Только и скользнул взглядом по арестантам, что в курилке сидели. Сразу выцепил одного. Поднял. Отвёл в сторону. Хлопнул по его карманам. Не ошибся. Улов – труба новая, только что затянутая, плюс зарядка к ней. Опять же поговаривали на зоне, будто за любой такой улов мусор отличившийся премию получал. За премию не знаю. При вручении не участвовал. Зато знаю точно: тот арестант, кому труба и зарядка принадлежала, свою «десяточку» изолятора после рапорта Кузи получил.
Соответственно, понятно, какое отношение было у арестантов к майору Кузину.
Кажется, и его отношение к арестантам в уточнениях не нуждалось.
Но так, повторяю, только сначала было.
Потом всё изменилось. Резко изменилось.
Будто калейдоскоп с разноцветными стёклышками, из которых жизнь складывается, кто-то не просто крутанул резко, а, что есть силы, о булыжник шмякнул.
Родился у майора Кузьмина сын. Сын – всегда радость, а тут радость многократная. Потому как первый, быстро треснувший, брак у него был отмечен дочерью, что осталась при бывшей, куда-то уехавшей жене, и как будто пропала, а во втором, вроде и счастливом, детей долгое время не было. Короче, радость долгожданная и понятная. Аккурат, на следующий день предстояло Кузьмину дежурным по зоне заступать. Он и заступил.
По неписанной, но строго соблюдаемой среди мусоров-офицеров традиции, «проставился» майор на своём дежурстве по причине обретения наследника. Пил полночи с коллегами по нелёгкой работе водку под сготовленные тёщей пироги и домашнее сало, опять же той самой тёщей засоленное. Потом… потом что-то невероятное случилось. Понесло майора Кузина из дежурки в зону. И не на «промку» [15], где третья смена трудилась, и не в рядовой барак, а в барак номер два, где собраны были арестантские сливки, и в котором базировался лагерный блаткомитет. А дальше, вопреки всем инструкциям (мусорским), законам (арестантским) и даже здравому смыслу получилось так, что банкет свой майор Кузин продолжил в этом самом втором бараке. В отрядной чайхане (так в зоне называют отдельную комнату в бараке, отведённую под чаепитие и прочие куцые арестантские радости). В компании самых авторитетных в лагере зеков! Пил уже не вольную магазинную водку под тёщины харчи, а ядрёный арестантский самогон под карамельки, в лагерном ларьке купленные.
Уже этот факт совсем нелогичным и очень чреватым для всех участников представлялся. Однако имел место такой факт, и это лишь началом происшествия было. В середине застолья разомлевший майор Кузин скинул с себя уфсиновский китель, освободил разгорячённую голову от форменной фуражки… Вот тут-то и началось самое интересное.
Пока один из арестантов разливал в очередной раз ядрёное пойло по прочифиренным кругалям [16], другой, прихватив майорский китель и фуражку, юркнул с ними в соседнюю кевеэрку. Ну и закрутилось… Сначала арестанты примеряли мусорской прикид и фотографировались в самых раскованных позах на извлеченные из курков мобильники. Потом в фотосессии и сам, уже совсем отяжелевший, обладатель прикида участие принял. Охотно фотографировался с теми, кого обязан охранять, воспитывать и у которых эти самые мобильники отбирать должен, так как любые средства связи на зоне строго запрещены.
По причине великого веселья в тот момент и совсем нестандартные кадры родились. Это, когда рядом с арестантом, обряженном в китель и фуражку майора Кузьмина, сам майор в накинутом на могучие плечи лепеньке зековском и в лихо сбитой на затылок опять же зековской феске.
Какие тосты в ту ночь под сводами того барака произносились и вообще о чём тогда говорилось в ходе того, мягко сказать, стихийного веселья, не знаю.
Зато доподлинно знаю: ещё до того как рассвело, снимки с уникальной фотосессии появились в интернете.
К уже описанным сюжетам ещё один добавился: спящий расхристанный майор Кузьмин в интерьере кевеэрки [17] на фоне характерной наглядной агитации в кокетливо заломленной арестантской феске с хорошо узнаваемом зековским кругалём-трёхсоткой в руке.
Немногим больше, чем через час, так толком и не проспавшийся, майор Кузьмин расположение второго отряда покинул. Уходил, чуть пошатываясь, в кителе, обсыпанном табачном пеплом, в фуражке с непоправимо помятой тульёй.
Шныри [18], из тех, кто в административном корпусе убирают, видели Кузю днём в этом здании. Будто курсировал он между кабинетом замполита и кабинетом «хозяина» [19] и вид имел предельно понурый. Словно он накануне вместо зеков-грузчиков фуру мешками с дроблёным мелом в одиночку загрузил. Разве что белой пылью не был запорошен.
Некоторые из арестантов, говорили, что видели его в тот же день и позднее, около корпуса администрации, перед самой сдачей дежурства. Вроде, судя по кителю и фуражке, он был и вроде совсем не он. Потому как вместо статного, почти двухметрового плечистого мужичины видели они горбатого старика-коротышку.
А лица у этого старика не было вовсе. Голова, увенчанная той самой фуражкой со сломанной тульёй, была. Шея, начинавшаяся из ворота того самого, уже увековеченного интернетом, уфсиновского кителя, была. Лица – не было! Вместо него между воротом кителя и козырьком фуражки было ничего не понимающее и никого не видящее серое пятно. Усы, чёрные, всегда ранее заметные, в этом пятне совсем не просматривались. И глаз не находилось. Казалось, частью чего-то неодушевлённого было это пятно.
Как и полагалось, после любого лагерного ЧП, появилась на следующее утро в отряде комиссия. Кроме уже в лицо зекам знакомых мусоров из управы, были там и какие-то неизвестные люди. И в форме, и в штатском. Приглашали всех арестантов, участвовавших в недавнем ночном банкете в кабинет отрядника, что-то спрашивали, чего-то записывали. Только и спрашивали не настырно, и записывали не внимательно. Тех, кто говорить и писать отказывался, с миром отпускали. Странная какая-то комиссия! Следом даже и повального шмона не грянуло.
А майора Кузьмина никто больше не видел. Ни в лагере. Ни в городке, на окраине которого лагерь наш располагался. От этого городка отделены мы были тройным забором, но связь с ним и обмен информацией, благодаря многим арестантам из местных, были постоянными. По этому каналу и пришла новость, что Кузя из городка уехал. Следом снялась и вся семья, включая не только сына-грудничка, но и тёщу. Никаких подробностей о дальнейшей жизни бывшего майора Кузьмина так и не возникло. Будто и в лагере нашем он не служил, и в городе этом не проживал.
Конечно, последнее дежурство Кузи вспоминали. Доходили слухи, будто мусора́ эту историю как классический пример зековского коварства оценили. Правда, мстить за коллегу они не стали. Возможно, по особым на это причинам. Жил в лагере слух, что сами мусора Кузю уважением не жаловали, даже не любили откровенно за его излишнюю самостоятельность и служебное рвение. А ещё не могли ему простить, что главным мусорским приработком – затаскиванием в зону мобильников и алкоголя, Кузьмин брезговал, а потому никогда в этом замечен не был.
Случалось, что в бесконечных неспешных разговорах за чифиром и в курилке вспоминали майора Кузю и арестанты. Мнения звучали разные. Старики, воспитанные на правильных традициях, нехотя, но безапелляционно говорили, что арестантам с мусором пить негоже, а уж мусорской прикид на себя примерять совсем неправильно. Обоснования под эту точку зрения у них находились вполне убедительные.
Правда, очень скоро ушли старики со своей позицией в тень и безмолвие. Чаще и громче по поводу истории с Кузей стало высказываться злорадное одобрение: мол, мусорам так и надо, что в борьбе с мусорами все средства хороши, и не о какой порядочности здесь просто речи быть не может. Желающих возражать не находилось. Такая точка зрения в качестве окончательной вроде как и начала утверждаться.
Постепенно тема майора Кузи из арестантских разговоров и вовсе потерялась. Но только на время, чтобы потом вернуться в совсем неожиданном аспекте.
Выпало так, что горох, в завтрак предложенный, сырым оказался. Так бывает, если его с вечера не замочат на кухне.
В придачу к гороху несъедобному ещё и чай несладкий пришёлся. И такое выпадает, когда кто-то в арестантскую пайку сахара лапу накануне запустит.
И первый и второй минусы в арестантской жизни – явления заурядные, но, понятно, света в этой жизни не прибавляющие. Несложно догадаться, в какой атмосфере тот горох жевали, с каким настроением тем чаем запивали. На таком фоне за столом вдруг и прозвучало:
– А вот, когда Кузя заступал, не бывало такого … Он сам проверял, чтобы горох заранее запаривали, сам рядом стоял, когда сахар по котлам засыпали…
Кто сказал?
Гриша Грек сказал. Тот самый, что второй срок досиживает, а оба срока у него по червонцу. Тот самый, что год назад за чифиром между делом обронил:
– Хорошо бы, если в стране у нас вор в законе начал править… Тогда бы всё по справедливости было…
И дед Василий, скупой на любой разговор, поддержал:
– Кузя мусор был правильный…
А у деда Василия двенадцать лет срока за участкового, из охотничьего ружья по пьяному делу подстреленного.
И Мага-чеченец голос подал. С акцентом неповторимым:
– Были бы все мусора такими, как этот Кузя, в натуре, сидеть было по-другому…
У Маги – статья «народная», за наркоту в больших объёмах, только весь лагерь знал, что те же мусора его в зону упрятали за прошлое, когда он в лесах с автоматом вместе с боевиками-«шайтанами» свою правду искал.
Мой же срок тогда только начинался. С учётом отсиженной скромной полторашки оставалось только внимательно слушать, по возможности понять, а, главное, запомнить, чтобы потом, устно ли, письменно, на воле людям передать. Чтобы тем легче разобраться было, кто такие современные российские арестанты, что у них на душе и в голове. Чтобы поняли, наконец, как мало у этих арестантов, арестантов настоящих, общего с теми арестантами, выдуманными, которых им каждую неделю по ящику показывают, или про которых в книжках в ярких бумажных обложках пишут те, кто зоны не нюхал.
Казалась эта установка единственно правильной. Но так только казалось.
Через год уже, вроде бы как, напрочь забытая тема майора Кузи снова вернулась в нашу жизнь. Не вломилась, не ворвалась, а тихо, но неудержимо втёрлась, жёстко отодвинув всё прочее и остальное.
Сначала в лагере стало известно, что опять объявился Кузя в городке, из которого год назад так поспешно и нехорошо снялся. Прицепом к первой новости вторая: у бывшего майора теперь свой бизнес, и, кажется, вполне удачный. Из второй новости на автомате третья: специфика этого бизнеса такова, что непременно будет наша колония со своим меловым производством теперь важным партнёром для Кузи.







