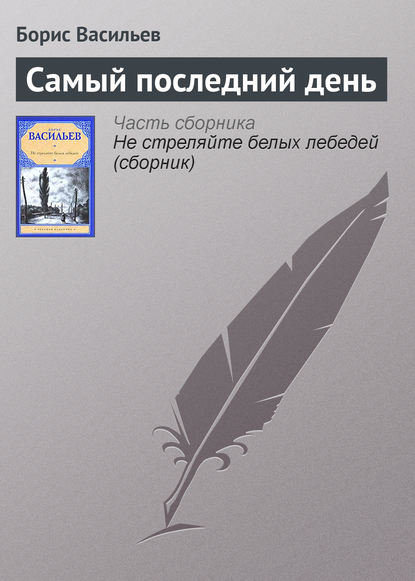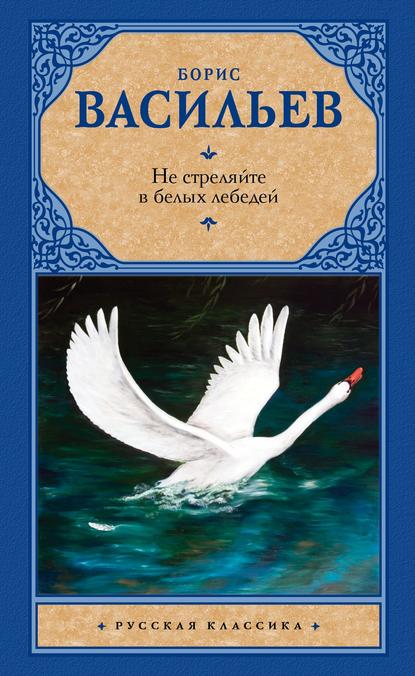Полная версия:
Борис Львович Васильев Отрицание отрицания
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Борис Васильев
Отрицание отрицания
Россия – странная страна. Ее истоки следует искать не в истории, не в легендах и даже не в мифах. Она – прямое порождение ледника, а потому – согласно законам диалектики – и гибель ее заключается в леднике. Тепло населяющих ее душ обязано заледенеть изнутри, уничтожив все. Ласку и приветливость, добродушие и сострадание, любовь и нежность.
Россия – дочь Отрицания жизни.
Оглянемся и посмотрим далеко-далеко, в сизые льды, когда-то медленно и неторопливо отступавшие на север. А на их месте постепенно появлялись лишайники и мох, трава, плауны, ползучие плети хвощей, изредка выбрасывающие из своих узлов робкие столбики, похожие на крохотные елочки. На согретых ими местах начали робко появляться первые кустики, они накапливали корни, рождали новые побеги и упрямо росли. Росли вопреки всему. Бедной почве, ледяному прослою земли, студеным злым ветрам. Росли вопреки всему, и этот «рост вопреки» через много лет привел к господству кустарников.
Они заполонили собою все пространство, нехотя, с метелями и жгучими морозами уступаемое ледником. Лоза, мелкий осинник и березняк, крушина, волчьи ягоды, нескончаемые заросли малины и красной смородины, таволги, крыжовника, черемухи, багульника заняли все пространство свободных земель России, не давая никакой возможности прорастать деревьям. Они губили их семена во мхах и травах, они крали у них нежаркое солнце и высасывали все соки из тощей почвы. Это было их царство, за которое они боролись с остервенением, ничего нигде не уступая.
И когда могучие деревья все же вознесли свои кроны, научились прятать семена в шишках, разбрасывая потом их повсюду, кустарники продолжали борьбу. В конце концов тайга победила, выгнала их из-под своих непробиваемых солнцем крон, но кусты по-прежнему продолжали свою тихую войну, захватывая всякое свободное пространство. Борьба эта продолжается и поныне, хотя деревья гордо возвышаются над ними – где лесом, где перелеском, а где и отдельными гордыми упрямцами.
И поныне кусты упрямо лезут на нивы, пажити и даже в огороды. И люди были вынуждены включиться в войну на стороне деревьев, беспощадно вырубая упрямые кусты.
Столбовые деревья и сегодня ведут свой нескончаемый бой с упорной кустарниковой ратью. И война эта бесконечна, ибо опирается на Отрицание.
Ведь и в человеческой жизни кусты изо всех сил мешают деревьям, а деревья стойко продолжают борьбу. И только тогда, когда «социальный» кустарник дозрел до мысли об объединении, получил численное преимущество, армии кустов смели с лица России ее последние тысячелетние дубы и вековые сосны.
Однако начнем разговор не с капризов природы, а с отрицания как дела рук человеческих.
Итак…
Отрицание первое, или Гунькина коза
1
Почему так называлась малоприметная возвышенность в чистом поле, никто уже и не помнил. Даже старожилы из ближайшей деревни Хлопово, в которой, правда, кроме старожилов, уже никто и не проживал. А на самой возвышенности не было ни козы, ни Гуньки, а только хрен. Дремучие хреновые заросли, которых хватило бы на всю область. Если бы было, с чем его есть. Ну, представьте себе картину бывшей Великороссии, ныне за что-то прозванной Нечерноземьем. От селища до селища – выстрел из береговой батареи. Здесь укрупняли обедневшие вконец деревни, как утверждалось, ради того, чтобы запустить могучую сельскохозяйственную технику, а на самом-то деле, чтобы народишко подсобрать из разбежавшихся селений. Тут, почитай, любой парень, на службу призванный, в родную избу уж и не возвращался, а девчонки, каждый год из-за такого государственного расклада без женихов оставаясь, на любую стройку завербовывались, лишь бы в старых девах не оказаться. Месили голыми ногами ледяной бетон на великих стройках коммунизма, лопатами рыли каналы и котлованы, клали тяжеленные шпалы без всяких подъемных кранов, добровольно записывались прокладывать метрополитен, пробивать в горах тоннели, поднимать целину, строить новые города в глухомани. Природа, она природа и есть, и никакой завтрашний социальный рай ей не требуется. Ей сегодняшний нужен, чтоб сама жизнь не прекращалась.
А вместо жизни получили пампасы из хрена.
Старики на завалинках вспоминали времена радостных гармошек при коллективизации. А чего гармонь через пузо не растянуть, когда соседа раскулачивают? Оно, конечно, самое полезное для хозяйства куда-то утекало, но и соседям перепадало – если не старая лошадь, так хоть старый хомут. Только вот старики толковали, что и до коллективизации она уже была. Эта самая коллективизация. Только что называлась по-другому, так разве ж в названии дело?..
– Порешил сход помещика-кровопийцу из дома выселить со всем семейством, а землю никакому не колхозу, а крестьянству по жеребию, – важно рассказывал седой до мертвой желтизны старик. – Ну и имущество, конечное дело, тоже по жеребию, как положено. Чтоб, значит, всем, а не одному крикуну-агитатору. Помню, в двадцать четвертом годе солдаты с войны вернулись, сход собрали, да и порешил тот сход…
– Какой еще сход? – не понимая, а потому с унтерпришибеевским раздражением перебил корявый, без руки, но весь в медалях, очень заслуженный солдат.
– Сказали, мол, такая установка нынче, что, значит, всем всего поровну. Без всяких кровопивцев…
– Катись ты, дед, со своим сходом! И не сход вовсе, а мы, которые кровь проливали, порешили все то дело.
А неподалеку жили-были – тому уж добрых две сотни лет – мелкопоместные дворяне Вересковские. Земля чахлая да и немного ее, а в семье одних детей аж пять душ. Старший сын Александр на фронте с пятнадцатого, слава богу, до командира батальона дослужился, орденов – поликоностаса да плюс – солдатский Георгий, особо почитаемый именно офицерами, так как давался по ходатайству роты за личную отвагу в рукопашном бою. За ним две дочери-погодки последовали – Таня и Наташа. Хорошие девочки, в губернском городе в гимназии учились. Таня с золотой медалью окончила и собиралась в Московский университет на медицинский факультет. В связи с войной туда теперь и женщин принимали. Наташа из-за болезни на год опоздала, окончила гимназию только в семнадцатом и мечтала о консерватории. Еще – Павел. Ну, с ним сложнее дело обернулось, а последней Настенька родилась. Любимица, красавица, только что здоровьем тоже вроде бы слабовата, как и старшие девочки. Так считала мама Ольга Константиновна. Семья имела в губернском городе квартиру с прислугой, но старшие предпочитали жить в поместье, а в квартире проживали девочки, когда учились в гимназии. За ними Антонина Кирилловна присматривала, ну и горничные, естественно.
В старые-престарые времена Вересковским принадлежали две деревеньки, а села ни одного не было, так что и церковь-то чужой оказалась, подле которой они упокоившихся своих хоронили. Когда-то предок очень по этому случаю расстраивался, но последние хозяева в меру заразы атеистической нахватались. Во храм ходили по привычке – крестины да похороны, двунадесятые праздники да привычные свадьбы. И расстройство предка забылось.
Старшие в поместье жили безвыездно. Хозяин, отставной генерал Николай Николаевич, ученым был, что-то там писал историческое, а жена Ольга Константиновна за дворней присматривала. Был у них старый дворецкий, хозяина в детстве обихаживавший, повар, экономка да две горничные. Еще кто-то мелькал, но это так. Приживалы, что ли. Или – долгие гости скорее. Вересковские хлебосольством на всю округу славились.
С соседями своими – то бишь с бывшими крепостными – жили душа в душу. Парни каждое Рождество в каждой деревне елку ставили, а девочки ее украшали вместе с местными ребятишками. И так это всем нравилось, что с елок тех ни разу ни одной игрушки не пропало. Крестьянам это по душе было, мальчишек приструнивали, но парни тогда особо не озорничали, схода побаиваясь. Ведь рекрутский набор обществом решался по заведенной издревле привычке, тут было, отчего забояться.
И вот в конце того же двадцать четвертого года, что ли, бывалые, колотые и стреляные, тертые-перетертые, газом травленные и казачьих сабель навостренность собственным телом постигшие, свою сходку собрали. Сказали, правда, что любой дед-прадед с правом спора на нее приглашается, как и все прочие по всяким хворям не служилые мужики. Только бабам ход туда был заказан, потому как отвыкли солдаты от бабьего слезного воя настолько, что уж и слушать его не захотели.
– Равенство нам обещают после дождичка в четверг! – проорал косматый солдат. – А наши подзолистые души не в четверг, а сегодня дождичка желают! Какой сегодня день, старики уважаемые?
– Четверг.
– Самое, стало быть, оно!
Рванули было с места да на рысь, только один из дедов вовремя закричал тоненько:
– Ишь, куды ж?.. Ружья наземь… клади!..
И вся рысь замерла. Положили солдаты ружья – аккуратно положили, как вот такими дедами велено было, – а потом пошли шагом. Тоже привычным – четыре версты в час. За ними чуть поодаль бабы шли, малышни орава да мужики неслужилые. А парнишки постарше неспешно вели под уздцы нестроевых крестьянских лошадок с пустыми телегами. Это обратно кони должны были потрудиться по доставке добычи, необходимой для наступления всеобщего равенства.
Приехали. Нестроевые с парнишками остались, а бывалые, пороха понюхавшие, вперед вышли.
– Эй, хозяева!
Хозяева на крыльце появились. Сам Николай Николаевич, сама Ольга Константиновна и – девочка Настасья, а остальных детей лихие дни раскидали неизвестно куда. И она, эта последняя девочка, что-то радостно закричала, углядев в третьих рядах подружек, с которыми каждый год весело наряжала в деревнях елки.
Но толпа безмолвствовала, что, как известно, ей свойственно в ситуациях озадачивающих.
– Грабить пришли? – помолчав, спросил Сам.
– Грабить – слово буржуйское, – хмуро сказал солдат с отсохшей рукой. – А наше слово – зекс… эксприация.
– Не понял, – сказал Сам.
Тут какой-то дед, передних раздвинув, к крыльцу вышел и достал мятую бумагу, которую еще не успели раскурить. Развернул ее и зачастил, не читая:
– Постановление схода. Всего нашего общества то есть. Все ваше личное имущество можете взять с собой, мы вам даже телегу дадим, только своих коников нам оставите, они вам больше без пользы. Потому тогда грабеж, когда личные вещи берут. А когда не трудом добыто, а наследством это называется, нет на то согласия бедняцкой части.
– Да у меня предки во всех коленах за Россию кровь проливали. – Хозяин даже в грудь кулаком тюкнул. – У меня старший сын Александр на фронте с пятнадцатого года, три ранения получил, четыре ордена имеет и солдатским Георгием награжден за личное мужество!
– Достоин, стало быть, – сказал старик. – Потому мы и не грабим, как некоторые. Мы по-людски. Полчаса на сборы хватит?..
Заплакали Ольга Константиновна и барышня, если, стало быть, по-старому считать. Но сам генерал Николай Николаевич Вересковский зыркнул глазом, и пошли они собираться.
А толпа стояла и молчала. Может, и копошилась в какой ни то душе некоторое несогласие, но наружу не вылезало. Опыт уже был – свое при своем храни, дольше проживешь. Потому-то и молчали все.
Вышли хозяева и их горничные вместе со старым дворецким. И каждый – с чемоданом, и девочка с чемоданом, а Сам – аж с двумя баулами. Но тут взроптали солдатики: мол, чего прешь-то, хозяин? Может, золото какое?
– Золото, – сказал хозяин и открыл оба баула.
Подошли. Посмотрели.
– Бумажки какие-то…
– Работа это моя, – вздохнул хозяин, застегивая баулы. – Всей жизни работа… О русской армии.
Помолчали все с уважением. Даже не спросили: «Почему, мол, русской, а не Красной?..»
Еще живо было, видать, в их уже тронутых бессердечием душах уважение. Это потом с ним, с уважением то есть, расстанутся, потом, когда придет соответствующее распоряжение. А тогда еще такого распоряжения не было. Потому никто в опустевший дом и не ринулся, пока бывшие жильцы да телега с ними да пожитками их с глаз не скрылась.
Медленно, мучительно медленно расставался народ с духовным своим богатством. Это погодя, потом все ускорили, когда церкви да монастыри громить распоряжение вышло. А заодно и могилы раскапывать в поисках золотишка под бдительным надзором молодцов в кожаных куртках с маузером через плечо аж до колена.
Да и в пустой дом не навалом, не кто первый, тот и в дамках, вошли. А вполне степенно и даже, как бы мы сегодня сказали, словно на экскурсию. На стенах – картины в рамах, на полу – ковры, кровати все постелены, а в буфетах – их целых три оказалось – чего только нет! И все – чистое, все хрусталем отливает, серебром отсвечивает и красками – словами и не перескажешь. Бабы первыми не выдержали, разахались, но дед, которого сход выделил, сказал строго:
– Делить все – по-честному. А как так – по-честному-то? А так. Ты, к примеру, спиной к буфету оборачиваешься, я во что-то тыкаю, а ты кричишь, кому достанется. Можешь, конечно, и «мне!..» заорать, а вдруг не угадаешь, во что глазища завидущие уткнулись? Вот потому и орешь: «Марье!»
Ан Марье-то заветное и досталось. Очень от таких дележей сердца изнашиваются, очень. Считается, что к тридцать седьмому году совсем износились, ученые так говорят.
Вот так, в общем-то мирно и тихо, и шел дележ. Насте – поварешку, Федору – седло, Игнату – кресло, Прасковье – стул, ну и так далее. И все бы вполне мирно и закончилось, если бы бывалые да настырные солдаты в погреб не заглянули. Заглянули… Батюшки, все полки – в бутылках, все бочки – с вином!.. И это – при сухом-то законе!.. Так они оттуда и не вылезли, от запаху обалдев. Сперва от разного запаху, а потом и от разного вкусу.
А наверху тем временем дележ шел.
Все разделили по справедливости, то есть с условием, когда за тебя кто-то выбирает. Так мы с седых времен ее, то есть справедливость, и воспринимаем. И когда эта справедливая дележка была закончена и все, что только оказалось в доме, было вытащено через окна и двери, тогда и ушли, про солдат и не вспомнив. И очень довольные разошлись по домам. А дома приняли на грудь самогоночки по семейному любовному соглашению. И принявши по согласию, закусили чем бог послал, и завалились спать, устав от непривычного дня. И никто о солдатах так и не вспомнил, за исключением тех семей, откуда они происходили. Но и в тех семьях особо не кручинились, привыкнув, что русский солдат сам собою возникает и сам собою растворяется.
Только ночью полыхнуло вдруг в полнеба злым багровым заревом. Тут уж не до сна стало, тут вспомнилось проклятье библейское за злодейство, как попы с малолетства всем талдычили.
Повскакали. Заорали спросонок:
– Усадьба горит!..
Ну, тут все дружно поднялись, как извеку положено было. Кто с ведром, кто с багром. Только ветер тоже поднялся и погнал дым, искры да и само пламя точнехонько на деревню. Заметались все – кто избы тушит, кто скотину выводит, кто добро подальше от огня оттаскивает, кто ревмя ревет и зазря под ногами путается. А лето-то, как на грех, сухим выдалось, и как ни кричали, как ни суетились, как ни плескали на огонь, сгорела та деревня дотла. Тогда заорали:
– Пожог!.. Баре проклятые с полпути вернулись!..
– В Чеку!.. В Чеку заявить надобно! Пусть пожогщиков накажут прилюдно!.. На месте, сами глядеть желаем!..
Послали двоих верховых. Часа через четыре вернулись они вместе с крепким милицейским отрядом и пожарной машиной с колоколом. Только тушить уж было нечего.
А на пожарище вой стоит, детишки мечутся, скотина ревет. Тут и начальство местное пожаловало. Поглядело, вой послушало и велело завалы после тушения разбирать. Да не деревенские – там все дотла выгорело, – а бывшего хозяина Вересковского. Разобрали, а там – два сгоревших под завалами да два вусмерть упившихся в подвале. Тогда и Чека приехала, только ничего эта Чека не нашла. А личности быстро установили: вояки деревенские. И причину пожара – по обломкам рояля, который ни в какую дверь не пролезал, почему его и не вынесли. А два пьяных воина рояль разломали да и жечь его начали. Может, поджарить чего хотели…
Погорельцам по решению области поселок построили по типичному образцу. В каждом бараке – по четыре квартиры и при каждой квартире – маленький палисадничек. И построили не на старом месте, а на выгоне. Ряд в ряд, как казармы. И назвали Вересковкой.
Только вот хлевов в этой новой Вересковке никто не предусмотрел. Помаялись новоявленные вересковцы со скотинкой, повздыхали да и порезали ее. А что делать прикажете, когда из крестьянского сословия они напрочь выпали, а в рабочее сословие еще не впали.
Но власть решение приняла, и все трудоспособное население помаленьку начало обживать бывший уездный городишко. Там аккурат кое-что строить начали, а тут – рабочая сила. И построили вскорости целых три предприятия. Завод колючей проволоки, фабрику пошива шинелей да почему-то парашютный завод. Про запас, что ли?.. Но местный автобус зато пустили, и все вересковцы, в одну огненную ночь превратившиеся в пролетариат, стали теперь ездить туда на работу. Точно к началу трудового дня.
Зато, правда, в колхоз не угодили и получили через несколько лет паспорта, чего колхозники не имели еще не одно десятилетие. А им – повезло, почему они с красными флагами и просветленной душой радостно ходили на всякие демонстрации.
Вот какая история стала прологом интенсивной индустриализации данного энского района.
2
А теперь отъедем назад. В 1917 год. Понимаю, что в жанре повествования это не очень-то принято, но нарушим традиции ради связного рассказа.
Роковой для России год этот застал штабс-капитана Александра Вересковского в военном госпитале губернского города Смоленска. Угодил он туда в июне, не упав вовремя от огня австрийского пулемета. Мог упасть, но заставил себя не делать этого. Вообще не любил при солдатах осторожничать, но главное – уже фронты разваливались, уже солдаты в атаки бежали с неохотой, уже офицеры после отказа государя не верили ни в победу русского оружия, ни в восстановление монархии.
– Оставьте, господа, – говорил Александр в Офицерском собрании. – Россия обречена на монархию несмотря на то, что иногда ее монарха зовут Борисом Годуновым. Ну, поорет Россия, постреляет, пожжет, пограбит, а потом все равно восславит очередного батюшку-царя.
– Кого, капитан, кого? Михаил отказался от скипетра, цесаревич мал и безнадежно болен.
– Может, родственников из-за границы пригласить?
– Да нет уж. Своего искать надо.
– Горластого социал-демократа.
– Керенского, что ли?
– Что вы, господа офицеры? Россия ненавидит интеллигенцию, так что скорее согласится на любое пролетарское происхождение.
– Ну, вас-то как раз солдатики любят.
– А я из воинов, а не лавочников. И тайком под одеялом офицерский паек не жру. Я его слабосильным отдаю, как то предками было заведено, а сам ем из солдатского котла.
Смертельно уставший на долгой, грязной, бессмысленной войне никого любить не может, потому что для любви нужны силы, а их уже нет, исчерпались они ковшом кровавым. Александр об этом знал, не обманывался, но – верил в своих солдат и берег как мог. Как предки завещали. И потому-то перед пулеметом не упал: командирский пример на солдат действует, как неизбежность. И они не испугались, а наоборот, в ярость пришли. И пулеметчика гранатами забросали, и в окоп ворвались, закрепились, и санитарам время дали, чтобы командира вытащить.
За этот бой он получил последний орден. Но не последнюю награду, о чем, естественно, еще не догадывался.
Из госпиталя его выписали в конце сентября, но не на фронт, а в офицерский резерв, обязав раз в неделю ходить на перевязки и осмотр. Не он один на эти процедуры ходил, зато первым отметил процедурную сестру милосердия. Так их исстари на Руси называли, но, когда милосердие себя до донышка исчерпало, стали именовать сестрами медицинскими. Чтобы еще с какими-нибудь сестрами не спутали, что ли.
Назвать сестру милосердия красивой или даже хорошенькой было бы затруднительно. И скулы чуть выше положенного залезли, и носик подкачал, и фигурка не статуэтка, как говорится. И все же в ней что-то было. Что-то необыкновенное, прочное что-то. Вглядеться следовало, и Александр вгляделся не окопным истосковавшимся взором, когда все женщины становятся прелестными, а отдохнувшим, что ли. Или ухом вслушался, уже достаточно привыкшим к шуршанию юбок за время постельного режима.
Словом, звали ее Аничкой, и это Александру понравилось. Что так по-домашнему зовут: не Анечка, а Аничка.
– А меня – Александром.
– Вы – господин капитан. – Аничка мило улыбнулась.
И он улыбнулся.
– Вы – местная?
– Смоленская.
– А я никогда в Смоленске не был. Госпитали черт-те где, извините. То есть на Покровской горе.
– Весь Смоленск – на юге. За Днепром. Там – крепость и очень красивый центр самого города.
– Если бы вы согласились быть моим гидом.
– С удовольствием. Послезавтра, если вам удобно.
– Благодарю, мадемуазель Аничка.
– Подцепил? – усмехнулся сосед по комнате. – Она, между прочим, дочка патологоанатома.
– Я не суеверный, поручик.
Через день он нанял коляску и заехал за Аничкой в условленное место. День был солнечным и задумчиво тихим – не вздрагивали даже начавшие наливаться бронзовым цветом листья кленов. И яблок еще не собрали, и торчали те яблоки через заборы нестерпимо сочными боками и оскомины не вызывали.
– Смотрите, какие яблоки искусительные, – сказал штабс-капитан. – Вам бы мне хоть одно протянуть, Ева.
Ева, то бишь Аничка, промолчала.
Спустились вниз, к Рыночной площади, где привычно шумели вокзалы, пересекли Днепр и через пролом в крепостной стене въехали на Большую Благовещенскую…
– Влево уходит улица на Рачевку, – поясняла Аничка. – Там теперь лесосплав, плоты сплачивают и буксиром тащат до Рославля. А когда-то там протекала река Смядынь, на которой изменник повар зарезал несчастного князя Глеба.
Возле огромного собора толпились прихожане, нищие, беженцы, бродяги. А дальше улица круто взяла вверх, лошадь перешла на шаг, и ее шустро обогнал маленький звонкий трамвай.
– В нашем городе был пущен первый электрический трамвай, – не без гордости объявила Аничка. – Зимой обычная конка не могла подниматься по этой крутизне. Лошади падали.
– А почему трамваи вниз скатываются пустыми?
– Дешевле, – улыбнулась Анечка. – Горожан до Днепра и ноги донесут. Левее Большой Благовещенской идет параллельная улица, которая называется Резницкой. Папа говорит, что ее прозвали так потому, что по ней текли реки крови, когда поляки ворвались в город, который оборонял боярин Шеин. А это – женская гимназия, в которой я училась…
Аничка смущалась и поэтому болтала без умолку. А Александр поймал себя на том, что старательно запоминает все улицы и переулки, о которых она рассказывает. Почему? Инстинкт боевого офицера, что эти знания когда-то понадобятся ему?.. А ведь – понадобились…
– …А это – центр Смоленска: видите часы? Это знаменитые часы, от них отмеряют все расстояния, а под ними назначают свидания. Направо уходит Кадетская, улица вечерних прогулок с дамами и тросточками. Но мы сначала поедем прямо. К Молоховским воротам.
Проехали к узким, сводчатым и мрачноватым Молоховским воротам, которые упорно не сдавались наполеоновским войскам, полюбовались на памятник 1812 года, где орлица, охраняя гнездо, цепко держит руку галла с мечом. Проехали вдоль крепостной стены и южных башен до плаца для парадов по праздничным дням под сенью обелиска в честь защитников Смоленска, велели кучеру ждать и прошли в Лопатинский сад.
– Его заложил губернатор Лопатин, почетный гражданин города. А его дети расписались на развалинах второго крепостного вала, позже превращенного в застенок. Хотите посмотреть?
Перешли по красиво изогнутому над протокой меж прудами деревянному мостику и очутились в проломе старинного крепостного вала, заросшего поверху деревьями. Входы в его таинственные подземелья были закрыты тяжелыми коваными решетками.
– Это была страшная подземная тюрьма, – сказала Аничка почему-то приглушенным голосом. – Здесь сидел Кочубей со своим верным Искрой в ожидании казни.
Александр с уважением подергал решетку.
– А теперь посмотрите, что выбито перед нею.
– Ка-бо-грал-ло. Что это значит?
– Это значит «Капитолина, Борис, Григорий, Александр Лопатины». Дети губернатора Лопатина. Остались на века.
– На века останется только Смоленск, – сказал Александр. – Древнейший город собственно России. Насколько мне известно, он упомянут в византийских хрониках еще шестого века. Извечный страж Москвы, как его когда-то называли наши предки.
– И не случайно, – сказала Аничка. – Идемте, господин капитан. Я покажу вам документ, подтверждающий это гордое название.