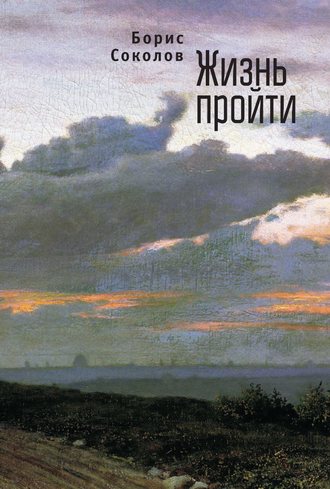
Борис Соколов
Жизнь пройти
«М осква – она широка, брат…»
Эта фраза, весело произнесённая Петром, вспомнилась мне, когда произошла она – эта самая, упомянутая выше, история.
Но прежде надо вернуться к началу.
Жить в этом городе и не знать, какому ужасному несчастью подверглись его мирные жители во время войны, – было невозможно. Кажется, он стал единственным городом в мире, для которого столь жуткий смысл приобретало это слово – блокада.
И вот читаю в журнале рассказ одной экзальтированной дамы о той ужасной – первой блокадной – зиме. Там у неё замученная голодом девочка идёт по замершему, погружённому в лютую стужу, городу – идёт себе по улице, видит покрытую ледяной корой, как панцырем, стену здания и, придя в умиление, любуется этой красотой…
У меня заперло дыхание. Выжившим, помнящим ужасы блокады, лёгкой рукой малевать такие «акварели»?! Да ведь это – эстетическая и какая угодно ложь!
Я не мог успокоиться. Негодование толкнуло меня на поистине отчаянный шаг: самому написать на блокадную тему, рассказав правду об ощущениях потрясённого голодом детского организма. Блокады пережить мне не довелось, но что это такое – голод, особенно для ребёнка, – уж это я хорошо знал, не понаслышке.
Принялся писать я с внутренней дрожью – мной владело чувство сапёра, который ошибается только раз. Я не мог позволить себе ни единой – даже самой малой – фактической неточности, не мог допустить ни одного небрежного, приблизительно передающего смысл, сло́ва. И, прежде чем предлагать готовый рассказ в печать, – я показал его нескольким блокадникам. Делал я это для себя, для своей совести – исключительно из боязни пропустить ошибку, в чём-то соврать. И со страхом ждал приговора: если кто-то взбунтуется – будет чем растопить буржуйку на даче…
Но получил я замечательные и даже благодарные отзывы! И конечно был водушевлён. Ведь это была несомненная творческая победа, если на таком суровом материале мне удалось не погрешить против правды. И при всём том, показывая переживания мальчишки, оставшегося с матерью в ледяном осаждённом городе, – я сумел сказать нечто сокровенное, своё, никем ещё не названное – то, о чём я нигде не читал и не слышал. Это было своего рода небольшое открытие: я показал, как оголодавший мальчонка (организм которого – в отличие от взрослого – должен расти, непрерывно строить себя, умножать клетки и властно, жестоко требует питания), как отощавшее тело его ощущает и переживает изматывающее чувство голода. Собственно, именно оно, это чувство, выворачивающее наизнанку слабую душу ребёнка, – и оказалось неким смысловым акцентом рассказа.
Судьба этого моего детища оставалась неутешительной ещё и, как видно, потому, что я периодически и надолго исчезал из городского пространства, не будучи в силах повлиять на рассмотрение моего труда – ведь на пути к публикации те, от кого это зависит, почему-то больше любят личное присутствие автора, чем вглядывааться в то, что им написано. И когда я в очередной раз появлялся в городе и пытался достучаться к представителям мира печатного – это неизменно заканчивалось ничем.
Итог был печален. Несчастный мой блокадный рассказ, то теряясь, то находясь и снова возвращаясь к автору, блуждал по разным редакциям… почти четыре года! (Ах, читатель! Глупый автор из патриотизма упрямо хотел, чтоб напечатан он был непременно в городе, перенёсшем ужасную трагедию.) И в конце концов дело дошло до курьёза. На очередном этапе ненужность публикации была мотивирована тем, что в «Блокадной книге» Гранина и Адамовича уже всё сказано. Но тут вышла неувязка: помимо того что всё может сказать только Бог, рассказ мой был написан раньше да и в той замечательной книге нельзя было найти нечто, содержащееся в моём рассказе.
В таких делах бесполезно что-то доказывать. Вспомнилась мне шутка Петра, что в редакциях «сидят, своих обслуживают». А может, и вправду так?
Убедившись в который раз, что меня водят за нос, во время телефонного разговора с литсотрудником журнала «Ленинградский альманах», я изъявил желание забрать своё детище. После какой-то паузы выяснилось, что в редакции его почему-то уже нет – и мне было предложено обратиться в отделение Союза писателей на улице Воинова. В полном недоумении, какого чёрта небольшая рукопись могла залететь к писателям, к коим её автор не принадлежит, – я отправился в их резиденцию и застал в том уютном доме странную суматоху: оказалось, накануне у его обитателей была приятная – и, похоже, весёлая – поездка по области. Группа творческих работников только что воротилась из неё, переполненная впечатлениями.
В какой-то комнате, заваленной рюкзаками, сапогами и всяким походным снаряжением, весёлый молодой человек едва отыскал злосчастный мой опус, обнаружившийся почему-то в кипе разрозненного хлама, брошенного на столах. Как он здесь оказался, ничего вразумительного никто сказать мне не мог.
Вспомнив булгаковское выражение: «рукописи не горят», я был доволен уж тем, что они исчезают не насовсем.
Уже на улице, на подходе к Дому писателей, попался мне навстречу скуластый человек в очках, всем видом своим во все стороны излучающий флюиды счастья: глаза его вместе со стёклами сыпали искрами, он бодро мурлыкал какую-то песенку и, как мальчишка, как-то даже подпрыгивал на ходу, чуть ли не в пляс пускался – словом, он был потрясающе весел, доволен жизнью, которая, как видно, складывалась у него весьма удачно. Казалось, от избытка чувств он готов был расцеловать первого встречного – да вот хоть бы и меня.
Я узнал его: это был широко печатавшийся автор и, в отличие от героя известного анекдота, настоящий чукча-писатель, который удачно попал в идеологическую струю, ибо малым народам у нас везде дорога. Пронёсся он мимо, как весенний ветер, ласкающий тундру, а я лишний раз ощутил себя недотёпой – полным неумехой устраивать свои литературные дела.
Шло время, вместе с другими блокадный мой рассказ был похоронен в ящике стола, но именно о его судьбе я печалился больше всего. Вопрос его публикации стал для меня делом чести.
Воспользовавшись служебной командировкой в Москву, я прихватил его с собой, решив обратиться в отдел критики «Литературной газеты», с тем чтобы, наконец, выяснить, кто тут прав – автор рассказа или те, кто отказываются его публиковать.
И вот – с бьющимся сердцем, держа в уме номер комнаты, который мне назвали на проходной, – я поднимаюсь в лифте на шестой, последний, этаж редакционного здания и попадаю в огромное, как спортзал, похожее на чердачное, помешение, по сторонам разгороженное на отдельные «комнатки» – этакие, как в пушкинском лицее, кельи с фанерными, не достигающими потолка, перегородками.
Подхожу к одной из них с нужным мне номером – оттуда столбом возносится к потолку сизый дым, будто кто-то внутри разложил костёр. Стучу – «Входите!» – открываю дверь и вижу: справа за столом, у пишущей машинки, сидит худощавый, черноволосый человек, с аккуратно подбритой от висков к подбородку, щеголеватой чёрной бородой, и, не выпуская изо рта нещадно дымящую сигарету, что-то печатает – бьёт по клавишам. Не отрываясь от своего занятия, спрашивает:
– Что у вас?
Я объяснился как можно короче.
– Привезли с собой?
– Да.
– Покажите.
Я протянул рукопись. Бородач, попыхивая сигаретой, заглянул в начало на первой странице. Пролистнул. Задержался на секунду, полистал ещё в том же духе и открыл последнюю – всё это заняло, должно быть, минутудругую. В таком темпе он просмотрел мой десятистраничный рассказ, в работе над которым мне нелегко давалась каждая фраза!
Ознобный холод коснулся моей спины. Всё ясно как божий день: в столице своих забот хватает. Москва слезам не верит…
Сотрудник отдела критики сложил мои листочки, бросил перед собой на стол и, задумчиво глядя перед собой – будто прочёл он на перегородке невидимое решение, – как-то даже скучно и буднично произнёс:
– Это надо печатать.
Меня взяла оторопь. Я не поверил своим ушам – в эту минуту я просто не готов был услышать то, что услышал. Ведь за мгновение до того я был уверен: сейчас повторится то, что бывало уже не раз. Мне будет сказано нечто, подходящее к случаю – и я, как всегда бывало, молча повернусь и уйду. Ибо не в моих правилах ни отстаивать, ни доказывать что-то. Вот же и в питерских редакциях месяцами полёживали себе эти десять страничек и никто не обнаружил в них ничего сто́ящего – а тут на моих глазах полистать и сказать такое?!
В волнении я как-то не сообразил, что в этой келье сидел настоящий профессионал.
И то, о чём я так долго и бесплодно мечтал, – свершилось. Литгазета на своих страницах редко печатала прозу – мой рассказ «День до вечера» был передан в журнал «Смена», где вскоре и был опубликован. В тексте не было изменено ни единого слова (по цензурным соображениям было убрано лишь несколько строк, в которых говорилось о спекулянтах хлебом).
Это была удача, открывшая мне глаза: славный город, в котором я живу и которому предан всем сердцем, оказался не на высоте, а столица – в лице моего бородатого крёстного – показала широту своего характера и снова решила публиковать моё отвергнутое детище. Наконец-то мне по-настоящему повезло: судьба свела меня с литератором, для которого в его работе не существовало никаких других – посторонних – соображений, кроме одного – качества написанного. И этот человек, сидевший за пишущей машинкой в клубах сигаретного дыма, совершенно сразил меня мгновенной реакцией на текст и коротким безаппеляционным приговором.
Это был сон, приснившийся наяву.
Но этим дело не кончилось. При следующей нашей встрече Владимир Коркин спросил, нет ли у меня к публикации ещё чего-нибудь написанного, и, услыхав мой утвердительный ответ, сказал, что заниматься пересылкой по почте – дело долгое и что, если есть у меня такая возможность, проще привезти на экспрессе, а уж остановиться при случае можно и у него.
В моём деревенском прошлом, после войны, в нашей семье было в обычае иногда привечать приезжавших к отцу по служебным делам, и, бывало, они на день-два останавливались у нас. А тут мне подобную вещь запросто предлагал житель столицы. И через короткое время деловые взаимоотношения автора и литсотрудника газеты переросли в дружеские. Я привёз Владимиру рассказ «Мешок травы для кормилицы», который – по его рекомендации – был напечатан в еженедельнике «Литературная Россия».
Всё складывалось так, что для развития успеха надо было бы перебираться в Москву и делать, что называется, литературную карьеру. Но это было невозможно, ибо годы были потеряны – ушло то время, когда я был один и свободен. Теперь же: обременён семьёй, в которой двое детей; работой в Университете, оставить которую было просто непредставимо.
Спустя много лет, мне ничего другого не остаётся, как с печалью вспомнить замечательного человека, с которым нельзя было расставаться. Но жизнь сурова, разводит людей не спросясь. Надвигалась перестройка. Жили мы тогда в разных городах, встречались, к сожалению, нечасто, а сумасшедшие девяностые и вовсе – выбросили меня из страны.
Отлучение
А тогда – с лёгкой руки Владимира – удача, казалось, не оставляла меня.
Московское издательство «Современник» предложило прислать что-нибудь для сборника. Я отослал три рассказа – из них был отобран к публикации «Тайфун».
Дошла до меня новость, что в издательстве «Молодая гвардия» готовится сборник современной прозы, в который вошёл и мой, уже опубликованный, рассказ «Мешок травы…» (позже я узнал, что Комиссарова, редактор будущей книги, заплакала при чтении и решила включить его в список публикуемых). Что я почувствовал, узнав об этом, говорить излишне. Но попутное ощущение, что теперь мне продолжает везти, – оказалось обманчивым.
С этим рассказом произошла другая история, показавшая, что в этом самом литературном процессе утвердившиеся нравы существуют повсюду – и в столице тоже, что в конечном итоге всё зависит от конкретной личности, находящейся «при исполнении».
Вскоре мне стало известно, что случилось несчастье: Комиссарова заболела, слегла и скончалась в больнице. Вести прозаический сборник теперь дожна была некая Адель Ивановна, заместитель покойной.
Какое-то время я не решался звонить в издательство – не было настроения. Славная женщина, вечная ей память, плакала, сердцем прочувствовала то, что передано автором. И это были не просто женские слёзы: по роду своих занятий – редакторства – ей конечно же доводилось много чего читать. Так что слёзы её – всё равно что драгоценные капли для автора. Можно ли ждать чего-то похожего от новой редакторши да и станет ли она перечитывать то, что уже собрано в будущую книгу, – вот вопрос.
Наконец, я позвонил, назвался, спросил о сборнике.
– Работаем, – был ответ. – Сейчас окончательно утрясается список включённых произведений, – и после паузы я услышал: – Знаете, ваш рассказ под вопросом…
– Разве? Да ведь он уже был включён Комиссаровой, о чём, кстати, запрашивало ваше издательство.
– Да, это так, но тут есть причины, по которым…
– Адель Ивановна, – я начал заводиться, – какие-такие причины? Рассказ, что ли, плох?
– Нет-нет, рассказ-то хороший…
– Так в чём же дело?
– Ну, вы понимаете… Сборник посвящён советской классике, там известные имена: Казаков, Нагибин… А вас, как автора, никто не знает…
В подобных ситуациях меня всегда подводил мой характер. Подвёл и на этот раз, захотелось крикнуть: «Так открывайте, чёрт вас дери, это новое имя! Для чего вы там сидите?!» Но вместо этого я в ярости бросил трубку, чем, естественно, «помог» новой редакторше решить проблему: из сборника рассказ мой был втихую убран.
Так я был отлучён от классики.
И тут мне открылось, что в моих контактах в разное время, с разными представителями печатного дела и по разным поводам, происходило нечто похожее. Вспомнил я, как однажды оставлял для ознакомления отрывок из моей повести «История одного детства» в ленинградском корпункте «Литературной газеты». Во время итоговой встречи собкор её Вистунов Евгений Иванович принял меня ласково. И от него услышал я следующее:
– Материал добротный. Некоторые наблюдения у вас здесь замечательные. Будь у вас имя – цены бы им не было. А так… Вынужден вам сказать: газета не заинтересуется.
Я онемел от удивления. И что сказать в ответ – не нашёлся.
Напоследок было мне некоторое утешение: издательство «Современник» включило отвергнутую «Молодой гвардией» новеллу в юбилейный сборник лучших рассказов «Литературной России», опубликованных в этом еженедельнике за четверть века; там моё имя оказалось по соседству с Платоновым, Булгаковым, Распутиным, Астафьевым, Шукшиным…
Это порадовало. Но что же дальше?
Всё происшедшее наводило на мысль, что подошло время, когда не следует возлагать надежды на отдельные публикации и пора уже попытаться издать книгу, включив в неё уже напечатанные – не где-нибудь, а в столице! – рассказы. Должно же это как-то подействовать.
Это был год, совпадающий с названием известного романа Оруэлла – 1984.
Тщательно отбирая лучшее из того, что мной было написано за два десятка лет, я составил прозаический сборник из двухсот с лишним страниц – и позвонил в Лениздат. Литсотрудник, говоривший со мной, предложил принести рукопись, что я и сделал.
Через какое-то время, отвечая на мой звонок, он весьма тепло, благожелательно говорил со мной – и в итоге подвёл черту: с содержанием папки знакомимся, позвоните попозже.
А попозже я от него вместо теплоты вдруг нарвался на резкий тон и явное нежелание продолжать разговор. От всего этого я просто опешил (тут, забегая вперёд, надо сказать, что сперва он числил меня членом СП, а, узнав про свою ошибку, пришёл в ярость). И когда, наконец, явился я в Лениздат выяснять ситуацию, произошло следующее.
К моему удивлению – должно быть, это было сделано в пожарном порядке, – беседовать со мной был налажен молодой человек. (Имя его мне было знакомо по журнальным публикациям. Это был юный поэт, а на прозу теперь он – видимо, за неимением в данный момент на месте других – брошен был, как, бывало, у нас горожан бросали на картошку; он не был обделён талантом и был из поэтов так называемой «новой волны» – из тех, что только-только ощутили сладкий вкус жонглирования словами и звуками, где-то я уже читал его стихи по теперешней моде: с претензией на отчаянный модерн.)
И теперь вот он должен был толковать со мной на предмет, как я сразу догадался, не судьбы – а содержания моей книги.
С первых же его слов у меня явилось подозрение: он не оченьто хорошо знает что находится в этой моей папке. Было похоже, что кто-то попросту отрядил его на это дело, дав указание. И не его вина в том, что вот теперь он принуждён выдумывать бог знает что и нести какую-нибудь околёсицу, не имеющую отношения к существу дела.
Набрав воздуху в лёгкие, юноша начал издалека, но очень даже впечатляюще, этак щеголяя философскими терминами. После того как он произнёс слово концепт, лицо его приняла столь важный, торжественно-значительный вид, что я чуть не расхохотался – вот уж, когда ты молод да ещё ходишь в модернистах, от подобного, недавно узнанного, иностранного словечка сам себя на котурнах ощущаешь…
Но мне было не до смеха – и я прервал его плетение словес:
– Вы меня приняли за кого-то другого. Вот этот рассказ, например, который у вас в руках и концепт которого, по вашему мнению, не проработан, – напечатан в Москве, слово в слово, и, должен сказать, с прекрасными отзывами…
Собеседник выпучил на меня глаза – повисла немая гоголевская сцена.
– Ладно, не переживайте, – сказал я. – Я хочу говорить с вашим начальством.
Начальство – как только я появился в его кабинете – демонстративно показало незваному посетителю свою жуткую занятость: упитанный человек в роговых очках, сидя за столом, принялся листать какую-то рукопись, покровительственно бросив в мою сторону:
– Ну, вы рассказывайте – что у вас.
Начинаю говорить, но – видя, как важное лицо, почитывая, листает страницы, – нервничаю, сбиваюсь. «Да-да, рассказывайте, я слушаю» (а физиономия между тем всё время у начальства отсутствующая и оборвало оно меня посреди фразы). Настроение моё круто идёт вниз. Подойти, шарахнуть кулаком по столу, чтоб очки на лоб полезли? Напрасный труд… А начальство, видно, решило совсем уж меня доконать: похоже, оно – как в каком-нибудь боевике о грабителях банка – ногой нажимает где-то кнопку, потому что не просто входит, но внезапно, распахнув дверь, врывается секретарша. И по тому, как она здесь появляется, как разговаривает с начальством, как оно охотно и нарочито долго говорит с ней и как сама она не устаёт на меня поглядывать, – я догадываюсь, что я здесь совершенно лишний предмет и что кнопка, скорее всего, существует не только в моём воображении. В ужасе соображаю, что меня в сём важном учреждении просто держат за чужого, забравшегося не в свой огород, и разговаривают – как с обыкновенным графоманом. В последней шаткой надежде, дождавшись, когда начальство, как гоголевский Вий, подняло веки, – глянул я в его пустые, оловянные глаза и понял – это всё, я кончился. Унижение было феноменально тонким, но острым, как отточенный нож (и надо отдать должное исполнителям: оскорбительная театральная сценка была сыграна блестяще).
Вот тут я окончательно и бесповоротно понял, что это – конец, что больше никогда, никому и ничего предлагать не стану.
Теперь, по прошествии многих лет, мне предельно ясно, что тогда в этих делах я просто ничего не понимал.
В тех хождениях по редакциям, отстаивая своё право на творчество, я стремился – как всякий автор – быть услышанным на страницах печати. Но те, которые в тогдашней ситуации, противились этому моему желанию, – были, выходит, по-своему правы!
Все члены СП – этого сообщества профессиональных писателей – жили писательским трудом: гонорары – это и была их зарплата. А всякий пришлый – человек со стороны вроде меня, имеющий профессию и оплачиваемую работу – получалось, своей публикацией занимал чьё-то место и отодвигал – как говорится, стоявшего в очереди – какого-нибудь члена СП, лишая его законного права.
Разумеется, это был тормоз, мешающий появлению с улицы новых талантов. Ну, а мне надо быть благодарным судьбе за то, что как-никак тогда удавалось всё же публиковаться вопреки устоявшимся правилам, которые, один за другим, сломали мои славные друзья Пётр Губер и Владимир Коркин.
Катастройка и неожиданный подарок судьбы
После путча, случившегося в Советском Союзе 19 августа 1991 года, нелепым образом я оказался за океаном, в городе Монреале, где уже находилась приехавшая в гости к своей сестре моя жена с сыном. Тогда мной полностью овладело ощущение, что я потерял почву под ногами. Несмотря на моё знакомство с зарубежным миром, уже приобретённое в моих прежних скитаниях по морям, я никогда не стремился перебраться в другую страну, оставив отечество. Ибо был убеждён: при всём внешнем блеске тамошняя жизнь другая – ничуть не подходящая для русского человека.
А тут, выходит, я попался. И мир души моей обрушился. Внутренне я поставил крест на всём: на профессии, на прошлом опыте писательства – вообще на возможности реализовать что-то здесь, на чужой земле. И, значит, лишившись всего, – терял и возможность обеспечивать семью, как это мне удавалось раньше.
При всём том в сложившихся обстоятельствах не было какой-нибудь надежды на нормальную жизнь в случае возвращения в отечество. И всё это говорило о том, что жизнь моя кончена, что впереди – пугающая неизвестность. И что мне самому не поможет никто – даже близкие.
И тут произошло нечто, чему не подобрать другого названия… то есть такое, что люди называют чудом.
Мухаммед Наджари – сирийский курд, бывший житель Дамаска, осевший в Канаде – с первой же, подброшенной случаем, встречи с ним поразил меня свободным владением русским языком! Стоит ли тут уточнять, что это сразу нас сблизило и мы стали общаться.
Оказалось, в семидесятых он окончил МГУ на филфаке, затем там же аспирантуру – на это ушло около десяти лет. Возвратившись в Сирию, он оставался не только одним из тех, кто поддерживал культурные связи с СССР, но и занимался переводческой деятельностью: на арабский переводил Льва Толстого, Горького, Булгакова, Шукшина…
Однажды в разговоре со мной – с какой-то светлой улыбкой и даже смущаясь – он высказал мне своё крепкое убеждение, что для него в мире ничего нет выше великой русской литературы. В ошеломлении от неожиданности услышанного я признался, что имею некоторое отношение к писательству, и, упомянув о прошлых публикациях, сказал, что уж в теперешнем моём состоянии с этим покончено.
Мухаммед помолчал и как-то так, с печальной жалостью, посмотрел на меня.
– Думаю, что ты не прав. Быть русским – и отказываться от подаренной небом способности писать по-русски… это, это – ну как вернее бы сказать? По-библейски грех, что ли…
Эти его негромко произнеснные слова были для меня – как холодный душ: поразили и устыдили. Вспомнилось на века сказанное Тургеневым и сказанное так, что это скорее напоминало молитву: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий… ты один мне поддержка и опора…»
Я потерял дар речи. Это что же? Представитель богатёйшей древней культуры Востока, поступивший на филфак МГУ и за время учёбы погрузившийся в культуру русскую, – по прошествии многих лет и многих неординарных событий уже никак и ничем с Россией не связанный – гордится тем, что мной впитано с детства! А я? Представитель русской культуры на всё махнул рукой и фактически погрузился в какое-то нытьё?!
Вот так Мухаммед – феноменально просто, без пламенных речей и настойчивых убеждений – заставил меня очнуться, прийти в себя. И проснувшаяся во мне какая-то внутренняя сила заставила снова сесть за письменный стол, чтобы ощутить забытую радость оставлять на белом листе бумаги цепочку слов, состоящих из букв кириллицы.
Это он, мой новый друг, возродил меня к жизни и фактически стал соратником в нашем общем занятии, которое зовётся творчеством. Неожиданно он вовлёк меня в переводческое дело: предложил под эгидой Канадского Совета по культуре переводить на русский язык произведения очень популярного, всемирно известного франкоязычного писателя Ива Терио (Мухаммед уже перевёл несколько его романов на арабский). Эта необычная для меня работа сильно меня увлекла, преобразив мою жизнь, подарив удовольствие включиться в увлекательную перекличку двух великих языков на материале прекрасной прозы (попутно я открывал для себя сравнительные возможности их – французского и русского). И мой дебют оказался успешным: я перевёл бестселлеры: «Агагук» (в этом романе искусно наложенная на детективный сюжет ярко показана почти первобытная жизнь канадских эскимосов в суровых условиях Севера с их непростыми отношениями с властями британской колонии) и «Ашини» (трагическая судьба индейского вождя, потерявшего опору в этой новой стране с индейским названием Канада).
Это был просто подарок судьбы! Практическая переводческая работа погружала меня в первоначальную историю страны на её северных просторах, талантливо и с замечательными подробностями изображённую автором, у которого, кстати, в родословной были индейские корни, что объясняет его интерес к теме и глубокие знания предмета.
По условиям Канадского Совета переведенные на русский книги должны были издаваться в России. Как с этим быть – я понятия не имел. Пришёл на выручку мой брат Александр, живший в Минске и нашедший необходимое издательство. Канадские чиновники от культуры оказались в курсе, что с Россией Белоруссия является союзным государством, в котором русский язык присутствует на равных. И книги были изданы.
Но переводы всё же не были главным моим занятием – я продолжал писать своё, сокровенное.
Собираясь в очередной вояж на родину, с которой он не прерывал связи, Мухаммед предложил отобрать что-нибудь из мной написанного в отечестве и, когда я это сделал, прихватил с собой рукопись – и в 2005 году в Дамаске был опубликован на арабском небольшой сборник русской прозы ХХ-го века, в который вошли три рассказа Бунина, один Солженицына и четыре моих. При всём том был мне ещё и забавный сюрприз: перевод осуществил доктор филологии Хамади Хашем – выпускник Ленинградского университета! И учился он в сём славном заведении как раз в то время, когда я в нём трудился!
Вот так судьба иногда замыкает круги нашей жизни.
Но и этого мало. Фортуна устроила мне встречу в Питере с другим выпускником Университета, Игорем Савкиным, возглавлявшим издательство «Алетейя». Счастливое знакомство ознаменовалось тем, что неожиданно я сделался его постоянным автором и на сегодняшний день им издана целая серия моих книг в высшей степени превосходном исполнении.
И тут я подвожу черту: в лихие девяностые жизнь моя и в самом деле была бы кончена, если бы мне не везло на таких замечательных людей.







