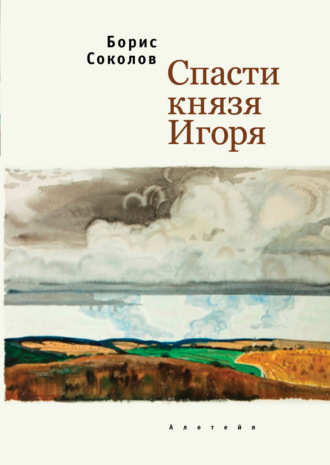
Борис Соколов
Спасти князя Игоря
© Б. И. Соколов, 2023
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2023
К читателю
С кем не бывает?.. Нечаянно вдруг вспомнишь Экклезиаста, однажды сказавшего: «И оглянулся я на плоды трудов своих».
И вот – когда автор, вроде меня, на девятом десятке жизни оглядывается назад, он неизбежно задаётся вопросом: в своём порыве осмыслить и живописать не только с ним самим происходившее – смог ли он ухватить и в достаточной степени показать черты живущего мира и уяснить, чем жива душа человеческая?
Память подсказывает: кое-что удалось ему достичь на этом пути. Самые первые публикации никому не известного автора, случившиеся полсотни лет назад, вызвали интерес и замечательные отзывы. В дальнейшем – так уж случилось – он выглядел одиночкой, не примыкал ни к каким группам или направлениям, не вступал в Союз писателей, то есть был вне так называемого литературного процесса. Всё это не привело к известности, чего, кстати сказать, он вполне мог бы достичь, приложив определённые усилия. Он так и остался этаким «свободным художником», то есть человеком со стороны – по сути изгоем, которого случайно «подобрал» однажды глава настоящего издательства, сделав своим постоянным автором.
Спасти князя Игоря
1
Она приснилась мне этой ночью: мы шли рядом по школьному коридору и вокруг не было ни души. Как всегда – недоступная, она не поворачивала ко мне головы, и я видел лишь ее профиль. Мне хотелось поцеловать ее в щеку, но страшно было даже дотронуться до нее, казалось: стоит только сделать это, как произойдет ужасное – меж нами шарахнет молния (наподобие той, что показывал на уроке наш учитель по физике).
Во время завтрака мама заглянула мне в глаза.
– Что с тобой? Ты не выспался?
Я пожал плечами и насторожился. С недавних пор странные вещи у нас дома творятся: как только мама начинает ко мне приглядываться да приставать с вопросами – так и жди, обязательно что-нибудь случится.
Я заторопился было уходить, чтоб она еще чего не спросила – тяжело отвечать, когда тебе не хочется – да вспомнил, что в парадной нарвусь на Ленку, соседку-одноклассницу (она-то всегда пораньше выходит, чтобы не опоздать), и раздумал спешить. Стал копаться в портфеле, проверяя, всё ли взял, что надо.
Было куда спокойнее, когда с Ленкой мы были в разных классах. Но в начале этого учебного года она перевелась к нам из 8-го «Б», чтобы вместе учиться, раз уж мы живем в одном подъезде. И всё бы ничего, да эта зануда надоела мне до смерти своей докучливостью. То прибежит – книжку почитать попросит, то, видите ли, мать ее за чем-то к нам послала, а то и домашнее задание записать забыла. А то как же – «забыла»… Сама на каждом уроке учителю в рот смотрит, чтоб не напутать чего, буковки единой записать не пропустит. Да и четверку даже получить – для нее уже чуть ли не целая семейная драма…
– Не нравишься мне ты что-то сегодня… – мама опять за свое. – Может, что стряслось в школе?
Я даже опешил – чего это она? Уж не Ленкины ли это козни?
– Да что ты, мам?.. Всё в порядке, – пробормотал я на ходу и выскочил на лестницу.
И вот вам, пожалуйста: эта плутовка словно за углом ждала, пока я выйду из парадной. Я плюнул с досады себе под ноги, а она – как ни в чем ни бывало:
– Здравствуй… Не опоздаем?
Так и тащилась тенью за мной от самого нашего дома. Я останавливался – и она замирала на месте, цапля долгоногая. И уж кричал я на нее и обзывался – она от меня не отставала.
И когда подловили меня трое в глухом углу за трансформаторной будкой – Ленка налетела на них крича, размахивая портфелем, и такой взбесившейся курицей, что мои недруги разбежались от одного шума и ошеломления.
Наверно, мне бы хорошо досталось, и она фактически меня спасла, но я просто возненавидел ее после этого и теперь не мог выносить одного вида ее конопатой физиономии. Чертова проныра, она заранее что ли знала, что меня лупить собирались?
Так и есть: мама моя настоящий пророк – всё сегодня разладилось. У нас появился новый учитель литературы, нестарый, хотя и солидного вида, очкарик. Молодость его мы тем более почувствовали, что заменил он Клавдию Валентиновну, тихую, совсем седую старушку, ушедшую, наконец, на пенсию.
Плохо это было уже хотя бы потому, что на уроках литературы мы привыкли вести себя вольно, даже книжки почитывали. Прежняя учительница неважно слышала, да и вообще при ней мы отдыхали: она больше нам рассказывала или читала, чем спрашивала. И никогда двоек не ставила. Даже Витька Логинов всегда получал тройку – оценку, которую вряд ли заслуживал. Наверно, он никогда не учил уроков. Имена и даты, события, всякие там идеи – всё это было такой мукой для Витьки, что на уроках литературы он сидел, опустив плечи и обреченно свесив голову. Он безбожно путал авторов и героев и особенно был не в ладах со временем: целые столетия не имели для него никакого значения. Когда Клавдия Валентиновна вызывала его, класс замирал в ожидании очередного веселья.
Низкорослый, широкоплечий Логинов так трудно и долго выдирался из-за парты, как будто на руках и ногах у него были невидимые железные цепи, причинявшие ему боль при каждом движении. Понурый, с поникшей головой, он останавливался у доски, опускал глаза и уже не поднимал их до конца экзекуции – и сам Витька, и весь класс иначе и не воспринимал это представление – до той самой минуты, когда можно было ему, наконец, идти на место.
Учительница жалостливо смотрела на несчастного (совсем не спрашивать его она не могла, потому что надо же было в журнал ставить против его фамилии какую-то оценку) и, подумав, задавала самый простой вопрос. Но Витьке было всё равно, простой вопрос или сложный. У него была своя программа: тихо, едва шевеля губами, он говорил такое, отчего у седой учительницы розовели щеки, а класс визжал, рыдал, от удовольствия топал ногами.
Финал представления был всегда одинаков. Клавдия Валентиновна терпеливо и подробно отвечала на вопрос сама, ставила неизменную тройку и отпускала Логинова. У того на обратном пути вериги становились менее заметны, но вид был еще несчастнее.
Я тоже развлекался вместе со всеми, но к веселью моему подмешивалось удивление, почти зависть. Уж очень всё было похоже на какой-то розыгрыш. В таком духе, как Витька, выступить я не смог бы, кажется, даже нарочно. А уж меня учительница спрашивала редко, этим я был вполне доволен и почивалт на лаврах.
Сказать по правде, учебник по литературе был мне скучен, и я не слишком любил в него заглядывать. То ли дело – просто чтение! И в школьной, и в районной библиотеке всегда можно было найти что-то интересное. Но помимо этого, у нас дома постоянно были книги – так что, когда задавали читать что-нибудь по школьной программе, чаще всего оказывалось, что я это уже давно прочел. С детства были любимыми «Тарас Бульба» и «Вечера на хуторе близ Диканьки» – они мне были как-то ближе, чем, например, «Повести Белкина» или «Дубровский». И был ряд книг Майн Рида, Фенимора Купера, Марка Твена, которые читались всеми подряд, переходя из рук в руки…
Тем временем новый учитель, делая перекличку, знакомился с классом. Называл очередную фамилию и внимательно всматривался в лицо вставшего ученика, то ли изучая, то ли просто стараясь запомнить. Мне показалось, что на мне он почему-то почти не задержался: скользнул взглядом как по пустому месту – это меня даже задело. Неглубоко, правда, а так… лишь царапнуло слегка, потому что голова моя была забита другим. Я испытывал странное удовольствие оттого, что вот она, Оксана Червоненко, сидит впереди меня – стоит только протянуть руку, и я могу до нее дотронуться. Вот сидит так близко, а не знает, что шла рядышком со мной по коридору и что я хотел ее поцеловать…
А за окнами сквозь листву тополей еще ласково просвечивало солнышко, с путей глухо доносился перестук колес проходящих составов, и сладко прыгало сердце от близкого гудка паровоза – протяжно, отчаянно звал он в края другие, неведомые – и потому прекрасные.
Школа стояла возле самой линии, и с нашего этажа видны были рельсы, коричневые спины вагонов. Движение здесь было большое: днем и ночью с обеих сторон – от Поворино или от Лисок – приходили поезда. Одни сразу же следовали дальше, другие маневровыми паровозами отводились на запасные пути – на них в несколько рядов всегда стояли составы.
Я смотрел на завитки и кольца черных волос на затылке Оксаны и боролся с желанием коснуться их. Я ловил каждый поворот ее головы, каждый взмах ресниц, ревниво следовал глазами по пути каждого ее взгляда, завидуя предмету – одушевленному или нет – на который он был направлен.
Сейчас я чувствовал себя почти героем: во время утренней стычки я узнал одного из нападавших, Генку из параллельного класса (он жил в одном доме с Оксаной), и понял – это была месть. На прошлой неделе я проводил Оксану до дому – классная руководительница попросила меня помочь ей донести стенгазету, которую Оксана оформляла.
Еще утром у меня жгло под левым глазом, теперь кожу саднило, будто ее потерли наждаком. Я потрогал больное место и обнаружил припухлость, а на руке осталось что-то липкое, но это не была кровь. Я понял – ходить мне с фонарём. Но я теперь был даже доволен, за Оксану и десять таких получить не жалко. А с Генкой, надо будет, мы еще посчитаемся.
Я скосил глаза на соседа, Пашку Воронского, тот, опустив голову, почитывал себе Конан Дойля (многие из нас им увлекались, порой где надо и не надо появлялись нарисованные кем-то пляшущие человечки). А мне, например, больше нравились такие книги как «Айвенго» Скотта или «Крестоносцы» Сенкевича. У Конан Дойля – здóрово, ничего не скажешь, но много придумано, а в этих книгах, казалось мне, описано всё, как было на самом деле. Сегодня я тоже прихватил из дому книжку – «Захара Беркута» Ивана Франкó, но теперь мне было не до нее.
На всякий случай прикрывшись рукой от Пашки, я принялся сочинять на отдельном листочке послание Оксане. Чтобы не быть узнанным, писал с наклоном в левую сторону.
«Высокочтимая леди! Сегодня, когда вечерние сумерки опустятся на тихую окраину, за переездом возле водокачки Вас будет ждать человек, который… – тут рука моя дрогнула, я на миг остановился, но всё же заставил себя продолжить, – любит Вас сильнее жизни. Если Вы…».
Оксана встала из-за парты – учитель вызвал ее к доске, это было очень кстати: надо скорее дописать и незаметно сунуть записку в лежавший на парте ее дневник. Я нарисовал несколько пляшущих человечков, которые предупреждали о моей ужасной и безвременной гибели в том случае, если она не придет на свидание. Я так увлекся, что потерял бдительность. Пашка, оказывается, углядел, что я от него таюсь, и ловко, как обезьяна, выхватил из моей руки уже сложенную записку. Я кинулся на него – громко стукнула крышка парты.
В тот момент Митрофан Николаевич прохаживался возле доски, заложив руки за спину. Он повернулся на стук, но мы уже сидели как паиньки.
Пашке я показал кулак под партой. Видно, по лицу моему он понял, что прочитать записку ему не удастся, – и… тихонько так, с вредной своей улыбочкой выкинул ее прямо на середину прохода. У меня аж дух захватило. Оторопев, я промедлил мгновение и был наказан. Совсем я забыл, что позади, через проход, с самого краю сидит Ленка! Она, подлая, всё выследила и, как кошка – неслышно, на цыпочках – шагнула и цапнула листочек.
И тут я не выдержал. Буря взорвалась в моей душе – в голову ударило внезапным жаром. Митрофан Николаевич повернулся как раз в ту секунду, когда я сцепился с Ленкой. Учитель так нас и увидел: меня в проходе с оборванной лямкой Ленкиного передника в руке и ее, съёжившуюся за партой со сжатыми кулаками у груди и едва не плачущую. Передо мной всё было как в тумане, но лицо учителя выглядело до странности отчетливо, я видел даже, что у него побелел кончик носа.
– Да как… как смеешь ты!?..
Я стоял как в бреду – всё пропало! Вот сейчас прочтут…
– А ну-ка, давай – иди сюда.
Когда я подошел к учительскому столу, Митрофан Николаевич хмуро поглядел на мое лицо с подбитым глазом, потом вытянул руку в сторону и сказал негромко:
– А теперь – в угол!
И я всё выполнил! Бессознательно, как механическая кукла, как в дурном сне: послушно прошел мимо Оксаны – она была теперь как изваяние, я почти не видел ее и чувст-вовал лишь, что всё гибнет, всё рушится – и остановился возле угла, у окна.
И только тут до меня дошел весь ужас случившегося: как мальчишка, я сам, добровольно, оказался… в углу – какой позор! Ослушаться теперь и уйти – было поздно, я уже дал себя поставить… До меня доносились перешептывания, злорадное хихиканье девчонок – в глазах моих мерк свет и закипали слезы.
И вдруг наступила тишина, в которой явственно прозвучали всхлипы:
– Митрофан Николаевич, это не он… это я. Это я… виновата. Это меня надо…
Это была Ленка. Она стояла у своей парты и плакала, ей было стыдно. И ей было страшно – отличнице, примерной ученице – самой просить наказания.
Учитель нахмурился.
– Ах вот как…
Мизинцем правой руки он глубже надвинул очки на переносье и покрутил шеей, как будто ему был тесен галстук.
– Ну-ну… Всем сесть на свои места и успокоиться.
С какой-то тяжелой задумчивостью он проводил меня взглядом и какое-то время молча стоял у окна.
Я растерянно прошел к своей парте, боясь встретиться взглядом с Оксаной, зато на предателя Пашку уж посмотрел как следует. А Ленка сама отдала мне злосчастную за-писку, смятую в теплый, влажный комок и – чего уж я не ждал от нее – она даже развернуть ее теперь не пожелала.
– Вот что, ребята… – голос учителя был ровным, без тени насмешки. – Рад был, как говорят, познакомиться. Надеюсь, что после окончания урока между вами наступит мир. Я бы согласился стать посредником на переговорах, да боюсь, что не будет мне оказано полного доверия. А напрасно – я ведь и сам не так уж давно был таким же, как вы… Может, чего и посоветовал бы.
(Как мы после узнали, всё так и было: учитель и в самом деле прибыл к нам прямо со студенческой скамьи – в этом году он окончил Воронежский университет.)
Митрофан Николаевич помолчал, в раздумье побарабанил пальцами по столу и закатил нам настоящую речь, предварив ее такими словами:
– Для начала мне хотелось бы знать, что вы можете, чем вы дышите, и для этого я даю вам всем домашнее задание: написать сочинение, избрав для него в качестве темы «Слово о полку Игореве»…
Словно порыв ветра, по классу прошел ропот – что-то вроде единодушного вздоха разочарования. Что можно написать на малопонятную да и скучную тему?
Учитель усмехнулся.
– Да вы не торопитесь с выводами… Древняя повесть эта – не только дошедшее с тех времен до нас художественное слово, не только литература. Это, если хотите, – история, за которой и ходить далеко не надо. Подумайте о том, где сами-то вы живете. Дон от нас – рукой подать. Ведь это сюда, к нему, шел князь Игорь, чтоб шлемом зачерпнуть Донской водицы. А за двести с лишним лет до него через наши края ходил в поход на хазар еще Святослав, князь Киевский. Вдумайтесь в названия речек нашего края… Такие, например, как Тойда, Еманча, Курлак, Карачан – они дошли до нас не только от татар, но и от половцев. Возможно, уже Святославу попадались какие-то из здешних названий, по которым он определял свой путь. По сути дела, речки эти с их тюркскими именами – живые свидетели истории, имеющей своих героев. Вот мы, далеко оторвавшиеся от того времени, нередко представляем себе их, как некие бесплотные тени… А они ведь когда-то жили, как мы с вами. Радовались и печалились, смеялись и плакали, любили друзей, ненавидели врагов, бились с ними насмерть за свою землю. Как и мы с вами, они грелись на солнце, купались в реках летом и одевались в теплые одежды зимой… В «Слове…» затронуто немало имен и событий. Перечитайте повесть не торопясь. Попробуйте увидеть всё своими глазами и напишите, как вы чувствуете и как вы можете…
До самого конца урока учитель больше не взглянул в мою сторону ни разу – это я точно заметил. И подумал: плохи мои дела, теперь уж он мне покажет, где раки зимуют.
2
Дома я бросился читать «Слово о полку Игореве». Больше всего новый учитель удивил меня тем, что среди других речек назвал и ту, возле которой я родился. Читал я теперь совсем по-другому: при первом упоминании Дона я повнимательнее стал рассматривать карту, висевшую над моей кроватью. Всю нашу область с севера на юг, завора-чивая к востоку, пересекал Дон, а к нему сбегались притоки. И многие из них на восточной стороне имели названия, привычные с детства – и они не были русскими! Чигла, Ка-рачан.. Я повторял их теперь так, будто услышал впервые. Князь Игорь подходил с запада, из-за Дона. Половцы – навстречу ему отсюда, с востока. Получалась, что здесь, где мы живем, была в то время степь половецкая – Дикое поле, степь незнаемая?
Я вдруг подумал: как же всё это было? Как происходила битва? Непростое ведь это дело – в течение долгих часов махать тяжелым мечом. Когда приезжал к нам дед Иван, отец мамы, – я помогал ему ремонтировать сарай: пытался тесать кусок бревна. И довольно скоро рука моя повисла как плеть от усталости. Но мне-то что за печаль? Утомился – присел отдохнуть, потом работай себе дальше. А во время битвы? Там уж отдыхать не дадут…
Я прикинул: едут дружинники в седлах много дней, а после – сеча. Это ж сколько часов верхом на коне, пока не выбьют из седла и не грянешься оземь? Я нашел нужное место в «Слове…»
С раннего утра до вечера, с вечера до света летят стрелы каленые, гремят сабли о шлемы, трещат копья булатные в поле незнаемом, среди земли Половецкой. Черна земля под копытами костьми была засеяна и кровью полита…
И пусть даже не с утра до вечера – как в летописи… Но в течение многих часов бились воины, это уж точно. Я представил себе картину жестокой битвы: окруженные половцами, не зная отдыха, русские бились насмерть. Лишь замертво рухнув с коня, они успокаивались навеки. Полег ковыль, вытоптанный сотнями копыт, обнажилась голая, обезображенная земля, над степью тяжелой, мутной тучей клубилась пыль, закрывая всадников, забивая глотки людей и животных; стоял звон железа, слышались крики живых и стоны умирающих воинов, глухой топот, ржание и храп коней – медленно одолевала, брала верх несметная рать половецкая…
Тут со мной что-то сделалось: я сел за стол и, не вставая, единым духом исписал целую школьную тетрадку. А воротясь к началу, стал читать… и что-то мне не понравилось. Тогда я принялся вырывать страницы и заменять их новыми – и скоро тетрадь превратилась в пачку измятых, перечерканных, кое-как собранных листов. Переписывал я уже на следующий день, и на это тоже пришлось потратить чуть ли не целый вечер. Зато теперь я остался доволен.
Работы наши были собраны и несколько дней прошло в ожидании. И вот, наконец, наступил день, когда вместе со всеми и мне предстояло узнать, что скажет новый учитель.
И тут такое стряслось!
Началось-то вроде всё обыкновенно, как всегда. Митрофан Николаевич пододвинул к себе стопку наших тетрадей.
– Что ж, приступим… Должен сказать, что в общем я доволен, большинство из вас правильно поняли мое задание и постарались как следует. Но одно сочинение достойно отдельного разговора…
Учитель взял верхнюю тетрадку и назвал мою фамилию.
Сердце мое отчаянно толкнулось в ребра – хотя внутренне я был готов и, кажется, ждал чего-то подобного, теперь я просто испугался. Я как-то сразу догадался: он понятия не имеет, что фамилия эта – моя. А если б знал об этом, вряд ли стал бы начинать с меня.
– Итак, я хотел бы видеть автора… Новожилов!
Меня словно придавило к парте – я никак не мог встать и готов был провалиться, исчезнуть, лишь бы не было того, что должно было случиться в эту минуту.
Митрофан Николаевич начал терять терпение.
– Его что, сегодня нет в классе?
Ко мне со всех сторон уже начали поворачиваться головы, и, совершив над собой усилие, я поднялся… Наступила какая-то жуткая тишина, стало слышно нудное зудение мухи, бившейся в стекло окна. Я поднял глаза от парты и увидел, что лицо учителя как-то даже осунулось и, увеличенные стеклами очков глаза сделались круглыми.
– Ты?! – учитель вздохнул всей грудью. – Это написал ты?!
От обиды кровь бросилась мне в голову.
– Ну я…
– Так.
Учитель уронил тетрадку на стол, будто она обожгла ему руки, достал носовой платок, снял очки и стал протирать стекла.
– Ты садись, садись… – с хрипотцой сказал он. – Совсем неплохо написано, да…Но поговорить об этом придется позже.
Следом он назвал Логинова, как-то странно посмотрел на него (уж Витька, наверно, неслабо там понаписал!) и пригласил к доске.
Как несчастный добирался к месту своей новой казни, описанию не поддается, но теперь не раздалось ни одного смешка – все напряженно ждали, что будет. Обрадовавшись тому, что меня оставили в покое, я следил за тем, как тащится Витька, и думать не думал, что как раз теперь капризная судьба захотела перевязать наши жизни крепким узлом.
На первый вопрос, внимательно ли он прочитал поэму, Логинов ответил в обычном своем духе: мол, о ней мало написано.
Митрофан Николаевич удивленно взглянул на него – уж не прикидывается ли? – и спросил, читает ли он вообще какие-нибудь книги, кроме учебника.
Витька кивнул.
– Например?
– Приключения…
– А конкретнее?
– Ну… «Остров сокровищ».
– У всякой книги есть автор. Написал-то ее Стивенсон, не так ли?
Витька кивнул.
– А еще?
– «Робинзон Крузо».
– Автор?
Витька потер пальцами потный лоб.
– Ну, это… Миклуха – Маклай…
В классе обвалом грянул хохот. Черт возьми, этакое невозможно выдумать, но всё же кто-нибудь, услыхавший Витьку в первый раз, мог бы решить, что он превосходный шутник, если бы не его разнесчастный вид. Я хохотал до слез – сегодня Логинов превзошел самого себя.
Учитель несколько секунд онемело смотрел на Витьку, потом выскочил из-за стола, торпедой пронесся к окну и обратно, а после вдруг завернул в наш проход и замер против нашей с Пашкой парты… возле меня.
– А тебе, значит, очень весело… – он буравил меня сердитым взглядом, который всё более принимал оттенок насмешливый. – Ты, кажется, с литературой в хороших отношениях…
Я поднялся, неопределенно пожал плечами.
– И ты считаешь, что надо над этим смеяться? – он ткнул пальцем в понурившегося Витьку.
Я молчал.
– Ну вот что. Разговор о твоем сочинении пока отменяется. Больше того, с сего дня ты берешь над Логиновым шефство. Тебя на уроках я спрашивать не буду – отвечать будет он. За вас двоих. И оценки буду выставлять вам обоим. Одинаковые. Получит твой подо-печный двойку – она твоя будет тоже. И так до тех пор, пока вы не добьетесь первого хорошего результата.
Класс замер в восхищении – такого у нас отродясь не бывало. Я как-то так почувствовал, что всё это, как в классической борьбе, – запрещенный прием, и попытался возразить:
– Но…
– Никаких но. Я всё сказал. – Учитель направился к своему столу. – Нравится вам всем это или нет – дело ваше, но я решений своих не отменяю…
3
В воскресный день я шел вдоль домов, держа в кулаке бумажку с Витькиным адресом. То, что он приезжий – было для меня новостью, почему-то трудно мне было пред-ставить, как это Витька живет один, на чужой квартире.
Я долго искал этот участок поселка, расположенный так далеко от самой станции, что сюда почти не доносился шум поездов. Тишина сонной мухой дремала в серой пыли окраинной улочки, за которой на многие километры, до самого Дона, лежала вдоль и поперек пересеченная лесополосами степь.
От крайних домов слышалась музыка, и, когда я поравнялся с давно некрашеным, немного скособоченным домом, стало ясно, что как раз оттуда, затейливо переливаясь, свободно текла какая-то незнакомая, грустная мелодия. На доме оказался нужный мне номер, я толкнул калитку и попал в небольшой и пустынный двор: всего лишь одно дерево стояло в углу его, да несколько кустиков притулилось к глухому забору. Почти вся земля здесь была отведена под огород, с одного краю она была покрыта неглубокими ямками – видно, не так давно выкапывали картошку. И над осенним запустением уже явственней витала музыка – наверно, внутри играло радио. Я поднялся на крыльцо и постучал в дверь.
Мелодия почему-то тут же оборвалась, и через некоторое время дверь мне открыл сам Витька. Слегка стушевавшись, он провел меня в небольшую, светлую комнату. Железная кровать, тумбочка возле да небольшой стол с деревянной табуреткой. Пока Витька копошился, доставая что нужно для занятий, я смотрел в окошко на унылый кусок перекопанного огорода и серую стену соседского сарая, примыкавшую к забору. Без исчезнувшей мелодии вид из окна и вовсе был убогим. И я чуть было не спросил, куда девалась музыка.
– А что, хозяин-то дома?
– Не… Тут хозяина нету. Хозяйка одна живет, теперь к сестре пошла.
– Так ты один, что ли?
– Ну.
– А радио?
Витька вытаращился, удивленный.
– Чево?
– Радио-то кто выключил?
– Та не… радиа у бабки нету.
Теперь уж моя настала очередь пялиться на Витьку.
– Так я ж еще на улице… слышал музыку!
– А-а… – Витька облегченно вздохнул и махнул рукой. – Так то я играл…
– Ты? Ну да!
– Ну я… Кто ж еще?
Я ушам своим не верил.
– Да на чем же это?
Витька вытащил из-за тумбочки старенькую гармошку.
– Ну, вот…
– А ну-ка сыграй!
– Чо сыграть?
– А что со двора я слышал.
И те же звуки, только здесь же, рядом, усиленные, волшебным образом полились из-под его пальцев. Я был поражен: казалось Витькины руки не имеют никакого отношения к своему хозяину, склонившему голову и поглядывающему в окно, а живут сами по себе, своей независимой, вольной жизнью. Зачарованный, я глядел, как пальцы его свободно перебегают по пуговкам и кнопкам, и теперь уже не верил и своим глазам.
Когда он остановился, я попросил поиграть еще. И он, как заправский гармонист, стал наигрывать разные вещи, одну за другой:
здесь были известные танго и вальсы и еще какие-то незнакомые мне мелодии. А потом Витька, незаметно для себя, начал напевать, негромко, но так, что я и вовсе оторопел – никто из нас никогда не слышал, чтобы он умел петь. Особенно хорошо он спел «Темную ночь», «Землянку» и «Снова замерло всё до рассвета». Мы позабыли о времени, он пел и играл, играл и пел, как вдруг… Я аж вздрогнул – уж эту песню я сам знал наизусть: когда-то, тайком от воспитателей, пацаны распевали ее в пионерском лагере. И я принялся подпевать Витьке:
В Кейптаунском порту,
качаясь на шварту,
«Жанетта» поправляла такелаж…
А перед глазами вставало: огромный парусник покачивался на лазурной воде и моряки в синих беретах сходили на утопающий в зелени берег…
Они идут туда,
где можно без труда
добыть себе и женщин, и вина…
В песне было всё, о чем только может мечтать сердце мальчишки: парусник в тропиках, далекая чужая страна, моряки, отчаянная драка в кабачке, которую мы могли легко, в подробностях, вообразить себе, и, наконец, вино и женщины – непостижимые вещи, с которыми не могло справиться наше воображение и о которых мы могли лишь туманно мечтать – уж этого запретить нам не мог никто. К тому же в песне оживал неведомый прекрасный мир, в котором много чего было по-другому, не по-нашему. Песня ласкала наши сердца – всеми силами души мы торопились в такую заманчивую жизнь взрослых.
А клеши новые,
полуметровые
ласкает бриз… Ха-ха! Ха-ха!
Мы допели, и я с завистью подумал, что у меня не получается петь так хорошо, как поет Витька.
– А ты где учился-то? В музыкальной школе, да?
Он смутился.
– Та не… Сперва это… у гармониста нашего, а после уж сам… по слуху.
Я молчал в изумлении – такое было просто невоз-можно представить.
– Да то ж нехитро вовсе… Вот попытай…
Витька сунул мне в руки гармошку, и по его указке я принялся старательно нажимать деревянными пальцами пуговки инструмента. Но странное дело! У хозяина она пела так, что не устанешь слушать – в моих же руках шипела, хрипела, а то и взвизгивала, словно подавившись. Раз за разом терпеливо Витька показывал, как правильно растягивать меха, как сподручнее работать пальцами. Когда я уставал, брал у меня гармошку – и комната снова наполнялась волшебными звуками.
Так прошло, наверно, полдня, пока я хватился, что пора и честь знать. И засобирался домой. Но Витька остановил меня, сказал, чтоб я подождал немного. Сходил, принес дров, быстро и споро затопил печь в соседней комнате и поставил варить картошку «в мундире». Пока варилась она, он выставил на стол миску с холодной похлебкой: в подслащенной воде плавали разбухшие продолговатые зерна. До этого мне не приходилось есть ничего похожего. И это было очень вкусно. Работая ложками, мы быстро увидели дно, и я спросил, чего это мы ели.
– Дома мамка моя часто делает. Навроде тюри с ячменем вареным… И хозяйка моя этим кормит.
Добрались до картошки. Обжигаясь, чистили ее – сухую снаружи, с поблескивающей глянцевито кожурой, и распираемую изнутри жаром так, что порой картофелина лопалась в руках… Глотали, почти не жуя, огненные, рассыпчатые, слегка присоленные куски – и от них, и из наших ртов валил пар. Это было просто объедение! За едой я узнал, что сам Витька – из соседней деревни, где есть только начальная школа. А сюда приезжает на постой на время учебы.
Когда я заторопился, наконец восвояси, было уже довольно поздно. И только теперь я вспомнил, зачем приходил…
4
Сегодня мы шли с Витькой к нему домой прямо из школы – я решил не заходить к себе и сказал Ленке, чтоб передала маме. Но решил так не из-за того, что случилось: хоть я и схлопотал свою первую в жизни двойку, очень-то переживать я и не думал. Просто надо было, наконец, начинать наши занятия, о которых мы из-за гармошки просто забыли.
Миновали кирпичное здание вокзала с большими, выделанными в камне, буквами ЮВЖД.
С путей от шпал пахло мазутом, ветром наносило угарную вонь паровозной топки. Мимо нас, набирая темп, уходил со станции пассажирский. В окнах зеленых вагонов частенько видны были военные, уже семь лет прошло с окончания войны, а все еще ехал кто-то, должно быть, возвращаясь домой. Мелькали за стеклами белые занавески, лампы с абажурами – незнакомый и чем-то притягательный мир. Казалось: вот он – совсем рядом. Но он был так же далек от нас, как и вся жизнь взрослых с ее порой непонятными заботами. Мне стало жаль, что не пришлось ездить в таких вагонах.
Не пришлось?
Скрывшийся уже за длинной, изогнутой змеей поезда – оттуда видна была лишь наклоненная ветром кишка дыма – паровоз загудел протяжно, жалобно, словно ему не хо-телось покидать станцию. Гудок его, вибрируя, потолкался о водокачку, пристанционные дома и замер, пропал в пустом небе. И меня вдруг поглотила черная, без огней, военная ночь, вой сирены воздушной тревоги, потом жуткая тишина и еще более жуткий в тишине этой – пронзительный, истошный крик паровоза у станции… Ведь я сидел в таком же вагоне! И глядел из темноты сквозь стекло на большие, висящие на столбе часы, циферблат которых едва заметно светился – то было единственное слабое пятно света во мраке. А рядом сидели взрослые, кто-то из женщин испуганно шептал молитву. Где же всё это было? Теперь уж мне не вспомнить…







