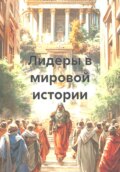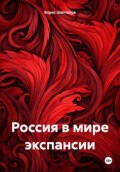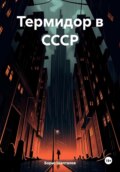Борис Николаевич Шапталов
Кто подставил Красную Армию
Немецкие теоретики, а затем практики стали ориентироваться на весьма специфический вид наступательных операций. Называть его «маневренным», значит, уравнять с привычными, давно известными способами вождения войск. В Вермахте было внедрено особое сочетание маневра и наступления, которое можно было бы окрестить по аналогии с блицкригом (молниеносной войной) «молниеносной операцией».
Танковые войска наносили удары быстрые как молния. Отразить их было чрезвычайно трудно, потому что они наносились: а) внезапно; б) стремительно; в) сокрушающе. Пока штабы и войска противника осмысливали, с какими намерениями и какими силами прорвались танки немцев, все было кончено – войска окружены, управление нарушено, паника подобно лесному пожару распространялась среди солдат и гражданского населения. Оставалось одно: пытаться вырваться из «котла», а верховному командованию начать работу по организации обороны на новых рубежах. Именно такой вид наступления готовили теоретики и практики Красной Армии «тухачевского периода». У них не получилось по простой причине: их расстреляли задолго до начала войны. Это все равно, если бы Гитлер расстрелял Гудериана, Манштейна, Клейста, а потом сказал: «Теперь – вперед!»
Кроме того, существовало серьезное различие в понимании сущности блицкрига. Германские генералы и Гитлер делали ставку на блицкриг, и все! Что будет, если возникнет необходимость продолжать войну кампания за кампанией? Такой вариант германская военная мысль не рассматривала. Тухачевский же был уверен, что одним блицкригом коалиционную (мировую тем более) войну не выиграешь. Нужно подготовиться к тотальной войне, в которой блицкриг – составная ее часть, экономящая время и жизни. Но в самой войне победа достанется тому, кто способен мобилизовать все свои силы. Гитлер этого не понял и закончил свою карьеру в подвале рейхсканцелярии под грохот орудий полностью готовой к тотальной войне Красной Армии.
Новые плодотворные мысли в любой сфере деятельности не часты и дорогого стоят. В военном деле особенно. Все-таки на кону человеческие жизни и судьба государства. Пример. Серьезной проблемой Первой мировой войны стали пулеметы. Наступать привыкли плотными массами. Так повелось со времен древнегреческой фаланги. С появлением скорострельных винтовок боевые порядки несколько разрядили, в атаку стали ходить цепями. Но пулеметы их косили, как косцы траву. В фильме «Чапаев» наглядно показано, как одна пулеметчица – слабая женщина скашивает сотни здоровых мужчин. Вроде бы, надо было менять тактику, но новое почему-то не придумывалось. Так и ходили в наступление густыми массами до конца войны. Потери были ужасающими. И даже в начале Второй мировой, во всяком случае, в Красной Армии в атаку продолжали ходить цепями, хотя количество и качество пулеметов только возросло. Лишь постепенно удалось выработать новые принципы хождения в атаку, в том числе, под защитой танков. Так и с идеями Тухачевского. Это только кажется, что придуманное им несложно, мол, «каждый сможет». Когда идея выкристаллизовалась, мысль доведена до практического осуществления, тогда, конечно, все становится просто и всем понятно.
Концепция преодоления позиционной обороны, на которую в Первой мировой угробили миллионы солдат, разработка им инструмента прорыва – танково-механизированных соединений – фигурально выражаясь, весила многие тонны золота. И Вермахт значимость этой идеи доказал на практике. В кампаниях 1939-41 годов потери немцев были едва ли ни символическими, а результаты – стратегическими. Наверное, поэтому фигура Тухачевского вызывает восхищение у одних и ненависть у других (на месте Вермахта могла оказаться Красная Армия).
Кругом виноватый Тухачевский
Сталин уничтожил Тухачевского не только физически, но и морально, превратив в шпиона и вредителя. Но этот ход понятен, удивительно то, что работа по дискредитации Тухачевского была возобновлена в постсоветские годы. С легкой руки вездесущего В. Суворова Тухачевский превратился чуть ли ни в карикатурную фигуру. Выставлять Тухачевского глупцом стало почти «хорошим тоном». Можно сказать, что Тухачевского разоблачили вторично. Вот небольшая коллекция наскоков, собранная мной со страниц разных книг.
«Кстати, как-то вне внимания историков остается тот факт, что именно Тухачевский в советско-польской войне 1920 года допустил грубую оперативную ошибку, организовав наступление своего Западного фронта в расходящихся направлениях. Результатом той ошибки стало тяжелейшее поражение в войне…» (6. Веремеев, с.98).
На этом доказательная часть исчерпывается. Автор перешел к другому сюжету, а жаль. Во-первых, это неправда. Западный фронт наступал в «сходящихся направлениях». Зато соседний Юго-Западный фронт и вправду выбрал «расходящийся» вариант. И надо бы рассказать по чьей вине войска это произошло (отнюдь не Тухачевского).
Во-первых, польский поход с «прошупыванием Польши штыком» был ответной мерой на прощупывание войсками Пилсудского Советской России. В мае 1920 года ими были захвачены Минск и Киев. Предполагалось, что Петлюра создаст полностью зависимое от Варшавы украинское полугосударство, и вместе будет воссоздана новая Речь Посполитая от моря до моря (от Балтийского до Черного). Если Пилсудский ставил «глобальные» цели, то почему большевики должны были уклониться от боя? Ведь в случае победы они выходили за охваченную революционным движением Германию…
Однако (и это во-вторых) поход 1920 года – вообще тема для бесконечных язвительных замечаний, прерываемых хохотом: а Тухачевский-то дурак, захотел социализм на штыках принести в Польшу! Ничего не понимаю. Сейчас многое что меняется. То объявляют, что Иван Грозный и Батый – одно и то же историческое лицо, то фараонов не было, а была сплошная Русь-Азия и прочее. Может, и в написании истории ХХ века что-то кардинально изменилось? Беру свежий вузовский учебник «Новейшая история», листаю, дохожу до раздела о Польше, читаю: коммунисты пришли к власти в 1948 году. Так в чем проблема? В 1920 году было рано, а в 1948 году – в самый раз? Это почти одно и то же поколение. Неужто за это время поляки кардинально изменили свои политические воззрения? Точно так же социализм утвердился во многих других странах, где он «проклевывался» и раньше – в восточной части Германии, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии… Лишь с помощью англичан удалось подавить движение коммунистов в Греции, а с помощью американцев с их планом Маршалла – изгнать коммунистов из власти во Франции и Италии.
А может, и вправду в 1920 году было рано, а Тухачевский сие, в отличие от нас, здорово поумневших, не уразумел? Опять листаю учебник истории. Вот описывается победа социалистической революции в Венгрии в 1919 году, а вот – победа коммунистов в Словакии, а вот – движение левых в Чехии, бои в Вене, восстание в Мюнхене («Баварская советская республика»)… На грани гражданской воны находилась Италия (проблему решили путем передачи власти Муссолини в 1922 году)… Нет, ничего не изменилось. Знал Тухачевский, что делал: Европа после Первой мировой войны была на перепутье, каковой она оказалась вновь после Второй мировой. Но тогда не получилось, а в 1940-е – вышло. И присутствие Красной Армии стало решающей гирей на весах истории, точно так же, как наличие американских и английских войск повлияло на поражение коммунистов в Западной Европе и Греции (а затем в Корее, в южном Вьетнаме в те же 40-е годы…). В 1934 году в фельетоне «Старый газетчик» Хемингуэй писал: «Непосредственно после войны мир (имеются в виду европейские страны – Э. С.) был гораздо ближе к революции, чем теперь. В те дни мы, верившие в нее, ждали ее с часу на час, призывали ее, возлагали на нее надежды – потому что она была логическим выводом. Но где бы она ни вспыхивала, ее подавляли».
Остается посоветовать критикам для общего понимания исторической обстановки читать обзорные книги, хотя бы учебники.
Что же касается возгласов несказанного удивления: «А вы знаете, что большевики хотели экспорта революции!», отвечу: «Да, конечно». Этот факт распространен в мировой истории. И не только потому, что на своих штыках несли новые порядки войска французской революции 1790-х годов. Экспорту идеологии (а революция лишь один из инструментов ее распространения) около полутора тысяч лет. В Европе и на Ближнем Востоке родоначальниками экспорта идеологии стали христиане и мусульмане. Причем относительно христиан речь идет не только о крестоносцах, но обо всей практике распространения новой идеологии в Америке, Африке, бассейне Тихого океана. Кому-то, возможно, не нравится такой экспорт, но католической церкви в Латинской Америке или мусульманам Африки, Ближнего Востока, Западной Индии (Пакистан) – все равно. Никто извиняться за то, что новая религия и культура в Америке, Азии или Австралии внедрялась с помощью меча, не будет. И сейчас есть государство, которое занимается политическим и идеологическим экспортом (США). И на этом государстве подобный экспорт не закончится. Для этого надо, чтобы умерла идеология как таковая, что в обозримом будущем не предвидится. И если исламский полумесяц на куполе святой Софии в бывшем Константинополе – это следствие успешного экспорта религии, то не надо думать, что подобное больше не повторится. Поэтому, когда мы сталкиваемся с экспортом идеологии, политических порядков, экономических механизмов, образа жизни, культуры, то не надо по-детски делать большие круглые глаза, а следует эти процессы изучать, как проявление пассионарной силы и предпосылок к формированию вариантов будущего. Тем более что наша массовая культура, избирательная система, и так далее вплоть до Интернета с его социальными сетями – это тоже следствие культурно-идеологического экспорта. И даже те, кто на словах не приемлет экспорта идеологии – антиглобалисты, радетели национальной самобытности – вдруг объявляют, что их самобытность в виде евразийства, негритюда, славянофильства, тюркизма и т.д. тоже далеко выходит за рамки одного народа и они также претендуют если не на роль мировой, то региональной идеологии. И в этом не их вина, а следствие давно сложившегося интернационализма мировых связей – этнических, экономических, культурных, религиозных, политических.
Наш мир уже многие века формируется исключительно за счет экспорта (точнее было бы сказать – экспансии) идеологии, культуры, технологий. Так было, и так мировой порядок будет формироваться и дальше, и никак иначе. Имя «экспортеров» – лидеры, или великие державы. В 1920-70-х годах в их числе побывал и Советский Союз. Иных это очень огорчает. Однако уже можно успокоиться. Вряд ли Россия когда-нибудь вновь заявит о себе в роли мирового лидера. Куда интереснее и полезнее понять, почему это получилось у большевиков, причем в разоренной и, казалось бы, уставшей стране. Вдруг и нам понимание методов раскрутки этноэнергетики пригодится…
И еще: представим на минуту, что «экспортный» поход Красной Армии получился, и в 1920-м Польша стала союзницей СССР. Тогда бы ситуация в 1939 году стала кардинально иной. Той, знакомой нам Второй мировой войны, не случилось бы. И Великой Отечественной войны тоже. Немцы в этом случае не то, что до Москвы, до Минска вряд ли бы добрались. Получается, Тухачевский не такой глупец, как его упорно представляют в последние годы. Просто он и иже с ним умели смотреть вперед на несколько десятилетий, каковой способности мы сегодня явно лишены, иначе не делали бы настоящих глупостей со своей страной.
Ненависть доводит до ослепления, а оно – до передергивания фактов. Например, Ю. Мухин – большой авторитет у сталинистов – чрезвычайно не любит Тухачевского. Это даже мягко сказано: он его ненавидит. У Мухина Тухачевский – исключительный глупец. Доказательств приводит массу. В книге «Военная мысль в СССР и Германии» берет проблему танков и разоблачает заместителя наркома обороны по вооружению РККА следующим образом.
При Тухачевском какие танки были в строю? В большинстве легкие, «картонные», хотя для войны требовались средние, такие как Т-34. Наличествовали, конечно, тяжелый Т-35 и средний Т-28. Но то были плохие машины. Броня – 30 мм. Любая пушка пробьет. Так зачем они нужны? В итоге, они погибли в 1941 году, не принеся никакой пользы.
Таковы аргументы. Не будем напирать на то, что разработка танков и пуск их в производство зависело не только от Тухачевского. Согласимся с предположением, что Тухачевский единолично принимал решение о производстве танков, а нарком обороны, начальник Автобронетанкового управления РККА, а тем более Сталин застенчиво отмалчивались, и разберем саму ситуацию.
К чести Ю. Мухина он указывает число критикуемых танков: Т-35 было произведено аж 60 штук (т.е. фактически это была экспериментальная серия), а Т-28 – 500 единиц. Единственно, что опускает Ю. Мухин – это историю проектирования и производства.
Т-28 разрабатывался в 1931-32 гг., а производство решили начать в конце 1932 года. Это был первый средний советский танк. На нем учились конструкторы и производственники. Сразу прыгнуть к машинам, вроде Т-34 не было никакой возможности. Точно также было с Т-35. То был первый советский (и вообще российский) тяжелый танк (его выпуск начался в 1933 году) со всеми присущими первым образцам недостатками по сравнению с будущими отлаженными моделями. Как только конструирование достигло высокого уровня, выпуск Т-35 и Т-28 был прекращен. С таким же успехом можно было бы предъявить претензии к руководству страны за массовое строительство неуклюжих бомбардировщиков ТБ-3, вместо того, чтобы начать производство великолепных Ту-2. Просто всему свое время. Что же касается не славной борьбы танков в 1941 году, так ведь 1700 Т-34 и КВ точно также не только не смогли остановить германские войска, но даже нанести сколь-нибудь ощутимые потери противнику.
Еще хуже у Ю. Мухина получилось, когда он начал сравнивать «тухачевские» легкие танки Т-26 и БТ-7 с чешским танком Т-38. У Мухина получилось следующее: чешский Т-38 имел лобовую броню 50 мм, а советский Т-26 всего 15 мм. Куда ж смотрел Тухачевский?!
Вот это уже совсем нехорошо. В любом справочнике по танкам указано, что чешский Т-38 (LT-38) имел лобовую броню 25 мм и боковую – 15 мм. Да, в 1941 году появились Т-38 с 50 мм броней, но то было наращивание защиты по ходу боев и не предусматривалось первоначальной конструкцией машины.
Кроме того, при жизни Тухачевского никакого танка Т-38 у чехов не было. Он был принят на вооружение в 1938 году и изготовлен в количестве нескольких десятков штук. Его массовое производство началось лишь после оккупации Чехии. А в 1937 году Чехословакия располагала танком Т-35 (LT-35) с лобовой броней 25 мм. То есть танк имел противопульную защиту. Устанавливаемая на советских легких танках, а также оснащаемая пехотой 45-мм стандартная пушка, пробивала 25-мм броню на дистанции до 1 километра. Так же обстояло дело у Германии. Появившийся в 1937 году средний танк Т-III имел броню 15 мм. Другое дело, танк постоянно модернизировался, соответственно росла и толщина брони. Так же обстояло дело у другого вероятного противника – Японии.
Кстати, наличие большого числа легких танков с противопульным бронированием (более 50 процентов от общего числа) не помешало Вермахту разгромить Красную Армию и дойти до Москвы и Ленинграда. Но главное, Мухин упорно сравнивает танки 1941 года с тем, что производились при Тухачевском! Неужто тот за четыре предвоенных года продолжал бы цепляться за модели, созданные в начале 30-х годов?
И совсем скверно у Мухина получается, когда он начинает уличать Тухачевского в непонимании им природы танковых объединений. Вот начало «разбора»: «Какова была маневренность танковых корпусов «имени Тухачевского», давайте рассмотрим на примере 9‑го механизированного корпуса (по штату 1031 танк, 35 тыс. человек), которым на начало войны командовал К. К. Рокоссовский» (35. Мухин, с.92). И далее разносит идею таких корпусов.
Однако никакого отношения к корпусам со штатами 1031 танк Тухачевский не имел, так как они были сформированы в 1940 году и крестным отцом их был как раз Сталин. Дилетантизм Мухина обусловлен простой особенностью: ему надо «размазать» Тухачевского, а для этой идеологической цели любые средства хороши.
Кроме того, Мухин критикует Тухачевского за авиацию, за артиллерию, за связь, за… Остается спросить: а кроме Тухачевского делами Красной Армии кто-нибудь занимался? Вообще-то, в Красной Армии были такие службы как Главное Артиллерийской Управление (ГАУ), Главное Автобронетанковое Управление и т.д. В их подчинении были конструкторские бюро, полигоны, бюджетные деньги, их представители в обязательном порядке присутствовали на заседаниях Военного Совета при наркоме обороны, где они имели возможность отстаивать свою точку зрения (протоколы заседаний ГВС изданы и все желающие могут с ними ознакомиться в Интернете).
Еще Мухина раздражает используемое Тухачевским понятие «пехотные таранные массы». «Что за «таранные массы», не знаю я никаких масс!» – возмущается Мухин. Казалось бы, не знаешь, почитай литературу, а потом уже публикуй свои ценные мысли. Потому что использование «таранных масс» – старый способ построения войска. На льду Чудского озера тевтонские рыцари использовали как раз «таранную массу», называемую «свиньей» (хорошо хоть Тухачевский так не называл свой оперативно-тактический прием, вот бы оттоптались на нем за такой термин). А первым «таранным» построением считается греко-македонская фаланга. С ее помощью Александр македонский завоевал половину тогдашнего «цивилизованного» мира. Но фаланга сильно зависело от рельефа местности и римляне отказались от такого построения в пользу иного принципа построения войск. В годы французской революции слабо обученные и вооруженные войска санкюлотов («оборванцев») уступали профессиональным армиям феодальной Европы. Но тогда господствовало линейное построение войск. Вымуштрованные солдаты по команде совершали на поле боя красивые и целеустремленные «артикулы», нанося разящие удары по фронту неприятеля. В таком бою у толп французских революционеров не было шансов и они выработали новую тактику – наступая в густыми колоннами. Эта масса прорывали тонкие линии неприятельской пехоты и войска оказывались беспомощными перед дракой в стиле «налетай, ребята!». Наполеон усовершенствовал тактику колонн глубоких колон… Но с появлением скорострельного оружия, пулеметов прежде всего, густое построение умерло вместе с огромными потерями от огня. Военные вновь вернулись к линейному и «тонкому» построению войск. Однако Тухачевский вновь обратился к идее «таранных масс». Он увидел то, что просмотрели теоретики. «Мировая война доказала, что в …линейно развернутом генеральном сражении на широком фронте почти невозможно менять направление главного удара или изменять уже принятое решение. Тонкие линии наступающего, а также обороняющегося становились жесткими, неповоротливыми и не гибкими…», – писал один из видных теоретиков РККА Г. Иссерсон в изданной в 1937 году книге «Эволюция оперативного искусства». Тухачевском об этом толковал еще в начале 20-х годов. И не только теоретизировал, но и принялся вырабатывал новые принципы построение наступающих, которые – правда, через практику Вермахта, – продемонстрировали великолепные результаты.
Но Мухин не только возмущается, но и разоблачает недалекого Тухачевского.
«Противник же должен был бросать под эту таранную массу свои слабые резервы, а масса бы их давила. И так бы давила, давила, давила, пока не наступила бы победа. При этом, как видите, не имело смысла особенно выбирать операционное направление и краткий путь к цели. (Тут Мухин, конечно, пишет неправду – прим. Б.Ш.) Чем более длинным путем будет двигаться таранная масса, тем больше противник бросит под нее слабых резервов и тем большие потери понесет. Какая тонкая мысль! Какой гениальный замысел! Но и на солнце бывают пятна, и в этом изобретении Тухачевского было одно маленькое, но непременное условие – нужно было где‑то отыскать такого противника, который бы согласился бросать слабые резервы под таранную массу им. Тухачевского» (35. Мухин, с.28).
Увы, такая армия нашлась. Именно так поступало советское командование в 1941 году. И несмотря на длиннющий путь «таранные массы» Вермахта вышли к жизненных центрам СССР в считанные месяцы. Немцы так и шли к Ленинграду, Москве, Харькову и Ростову, как описано у Мухина: давили, давили, давили поступавшие резервы… Победа ускользнула от них не потому, что стратегия оказалась не верна, а по другим причинам. Однако даже спустя многие десятилетия авторы подобные Ю. Мухину их не поняли, что лишний раз говорит в пользу мышления удивительного таланта-самородка Тухачевского.
Или такое развенчивание. У А. Мартиросяна читаем разбор предсмертного, написанного в тюрьме, анализ вариантов будущей войны с Германией. Автору дела нет, что текст написан в 37-м, и он, не стесняясь, примеряет его на 1941 год. А в качестве умственной неполноценности Тухачевского приводит следующий отрывок:
«Белорусский театр военных действий только в том случае получает для Германии решающее значение, если Гитлер поставит перед собой задачу полного разгрома СССР с походом на Москву. Однако я считаю такую задачу совершенно фантастической» (30. Мартиросян, с.48). «Ничего себе «стратег»?!» – восклицает Мартиросян. После чего на следующей же странице (!) начинает доказывать фантастичность возможности полного разгрома СССР:
«А как Германия смогла бы выиграть войну против России-СССР.., да еще и разгромив основные силы Красной Армии, оккупировать одновременно главные центры экономики, в том числе военной промышленности, и добычи сырья в Европейской части СССР, захватить Ленинград, Киев и Москву?! Как, если даже география, в данном случае Европейской части СССР, уже являлась исключительным защитником страны?! Ведь одна только господствовавшая в этой части СССР Русская равнина имела площадь 4 млн. кв. км! Как, если одни только пространства этой самой Европейской части СССР, как в «царской водке», растворяют ударную мощь любого агрессора?!» И т.д.
Остается загадкой: зачем Мартиросяну сначала надо было обругать Тухачевского, чтобы следом согласиться с ним.
В нескольких книгах Тухачевского костерят (а дипломатичностью выражений сталинисты не отличаются) за плохую обеспеченность танков и самолетов радиосвязью. Чтобы передать приказ командир подразделения во время боя должен был высунуться из люка и помахать флажками соседним машинам – «делай то и то». А командиру звена истребителей приходилось покачивать соседям крыльями. Представляете, как это неудобно? По рации передать приказ намного проще, а Тухачевский армию радиосвязью не обеспечил. Вот такой глупый, в отличие от критиков, был маршал. Причем авторы так напористо разносят по кочкам Тухачевского, что остается только погрустить, что не они жили в то время, и не они стояли во главе Красной Армии. А повздыхав, задаться вопросом: если Тухачевский – точнее молодая советская промышленность – могли без проблем обеспечить радиосвязью всех и вся, то почему это не сделали в последующие предвоенные четыре года? Жуков в своих мемуарах главным виновником почему-то называет не Тухачевского. «И.В. Сталин недостаточно оценивал роль радиосредств в современной войне, а руководящие военные работники не сумели своевременно доказать ему необходимость организации массового производства армейской радиотехники».
Конечно, с точки зрения сталинистов любая критика Сталина расценивается как поклеп на вождя, тогда как претензии к Тухачевскому – святая, непорочная правда. Просто и удобно. И все-таки, почему в 1941 году танкисты и летчики вынуждены были махать флажками и крыльями, как при глупом вредителе Тухачевском?
Призрак покойного маршала продолжает будоражить умы современных авторов. Вот очередной душераздирающий рассказ:
«Пушек Ф-22 летом 41-гo немцы захватили во множестве и поначалу использовали в оригинальном виде. Потом, сообразив, что пушка эта имеет почти неисчерпаемый (?) потенциал модернизации, поставили на нее дульный тормоз, резиновые колесики заменили на железные (резиновые страсть как для автомобилей требовались) расточили камору, что дало возможность увеличить метательный заряд в два с половиной раза! Сколько их захватили в 41-м, мне неведомо. Но модернизацию прошли 560 штук… Ну и кололи они энтой rадюкой советские (британские, американские) танки с большим удовольствием. А Грабину перед войной (!) подобную модернизацию не позволил провести нeкто Тухачевский», – залихватски вещает автор про «неисчерпаемую» пушку (38. Никонов А., с.98-99). Вот так сенсация! Оказывается, Тухачевский накануне войны был жив, что позволило ему мешать конструктору В.Г. Грабину совершенствовать свое орудие.
И таких ущучиваний Тухачевского в разных книгах встречается немало. Удивительно, скольким людям, даже по прошествии стольких лет, Тухачевский поперек горла, готовых ради его дискредитации даже лгать! Для них его расстреляли, к счастью и одновременно к прискорбию, потому что 1941 год вскрыл массу недостатков в Красной Армии: тут и низкая боевая готовность многих частей, и провал с производством бронебойных снарядов, и нехватка запчастей для танков и…и… и.. А свалить на Тухачевского нельзя. Хотя, как видим, пытаются даже на мертвого. Вот и становятся в тупик историки, оценивая следующий казус:
«Третью часть всех истребителей первого эшелона (ВВС пяти окрyгов/фронтов и двух флотов) составляли бипланы И-153 «Чайка»… По сей день ни один историк, обсуждавший эту тему, так и не смoг найти вразумительный ответ на вопрос о причинах, по которым производство морально устаревшего уже в момент cвoeгo рождения истребителя-биплана продолжалось весь 1939-й и весь 1940 г.! А так как производителем был флагман номер один (московский авиазавод № 1, ныне caмарский завод «Проrресс»), то и наделали этих «чаек» в количестве более 3,4 тыс. штук)» (50. Солонин, с.99-100).
А так бы в этой глупости или вредительстве (в зависимости от представлений автора) виновным признали бы Тухачевского. Не Сталина же корить!
Тухачевский как историческая фигура пережил все превратности, свойственные переломному времени. Его то возносили вверх, то низвергали, чтобы снова вознести на пьедестал. Кончается это обычно тем, что находится некая золотая середина, как это произошло с деятелями великой французской революции. В отношении Михаила Тухачевского этот процесс еще «в пути». Пока что он, подобно Троцкому, про которого больше врут, чем изучают – «черная фигура» русской истории. Идеологический подход превалирует над наукой. (Идеология нужна, чтобы обосновать нужные выводы. Историческая наука – чтобы понять происшедшее).
Троцкого клеймят за его желание мировой революции, за его спор со Сталиным о возможности построения социализма в СССР. (Интересно, так удалось Сталину построить социализм в СССР? И встречный вопрос на понимание: а можно ли построить развитой капитализм в одной отдельно взятой стране или только в рамках глобальной системы?). То есть, получается, Троцкого бьют за то, что в случае победы коммунистов стала бы невозможна Вторая мировая война с ее несколькими десятками миллионами убитых и воцарение «восточной» сталинского деспотии в Советском Союзе. Только России изменение исторического вектора «сэкономило» бы не менее 30 миллионов жизней. Вот и пойми наш менталитет. Не говоря уже о том, что именно Троцкий – первый из большевистских вождей – в феврале 1920 г. предложил перейти от продразверстки к продналогу, то есть закончить гражданскую войну с крестьянством (однако его продолжают изображать, как врага крестьян), и он – единственный из руководства, кто не разделял желание «прощупать штыком» Польшу в 1920 году. Другое дело что, как и мечта французских революционеров XVIII века об объединенной Европе, так и стремление Ленина-Троцкого к мировой федерации народов были достаточны иллюзорны. Но это другая сторона дела. Христос и Церковь тоже хотели братского союза людей всего мира, и церковь тоже на этом пути наломала много дров (крестовые походы, кровавая борьба с язычеством и пр.), но никто за это ныне ее не клеймит. Кроме того, отказавшись от ленинской (и троцкистской) идеи «большой федерации», Сталин не стал превращать СССР в нормальное федеративное государство. В Конституции 1936 г. сохранилось право на свободный выход союзных республик (такой статьи нет в конституциях других стран), а также многоуровневый государственно-национальный конгломерат. Более того (это к вопросу о «расчленении» единого государства), при Сталине пять автономных республик получили статус союзных, а около десятка национальных областей повысили до статуса автономных республик.
Ни у одного государство мира не было и нет такого сложного и взрывоопасного национального устройства. В будущем заложенные под «империей» мины взорвались. И, к сожалению, далеко еще не все… Так и с Тухачевским: часто претензии к нему «не с того берега». Едва ли ни главным аргументом «против» является его участие в подавлении кронштадского и тамбовского восстаний. Причем клеймят нередко те же люди, что согласны с действиями Ельцина по подавлению другого «кронштадта» – расстрела Верховного Совета и борьбой с другим «тамбовским восстанием» – мятежной Чечней. Свои «кронштадты» были у Кромвеля, Наполеона и де Голля. Кстати, именно после подавления мятежа в Париже в 1795 году, когда он приказал стрелять из пушек по толпам парижан, началась по-настоящему стремительная карьера до того безработного (после падения Робеспьера) бригадного генерала Бонапарта. За эту услугу правительству он получил пост командующего внутренней армии республики.
В советское время скрывали факт участия «народного полководца» Суворова в подавлении восстания Пугачева. В одной биографии А. Суворова сказано: «…занимался ликвидацией отрядов мятежников и умиротворением населения, оказавшегося в зоне влияния восстания». Надо ли объяснять, каким образом карательные отряды «умиротворяют» население мятежных областей? И как теперь быть: лишить Суворова лавров полководца?
И таких примеров много.
Любая власть давит тех, кто пытается силой противостоять ей. Есть, правда, исключения. Если Дэн Сяопин подавил свой «кронштадт» в Пекине в 1989 году, то Горбачев отказался это сделать. И потерял власть. Только крови от этого меньше не стало. Ее в борьбе за власть – в Баку и Карабахе, в Молдавии, Чечне, Абхазии, Южной Осетии, Таджикистане, Фергане – пролили другие. И кому из убитых и искалеченных было легче от «миротворческой» позиции Михаила Сергеевича, нобелевского лауреата мира?