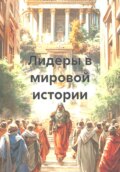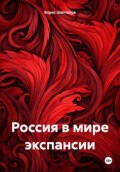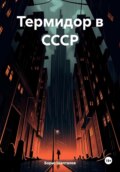Борис Николаевич Шапталов
Кто подставил Красную Армию
Но даже после заключение договора с Германией ни у кого в руководстве Советского Союза не было сомнений, что воевать все равно придется, и скоро.
Так как же надлежало действовать Красной Армии в надвигавшейся мировой войне? Сначала надо было решить принципиальный вопрос: готовить РККА к оборонительному или наступательному варианту боевых действий? Вывод, вроде бы, лежал на поверхности. Конечно, к оборонительному! Страна только недавно вышла из тяжелой войны, экономика была слабой, прочность политического режима – сомнительной. В такой ситуации надо сидеть тихо, надеясь на большие пространства да помощь мирового пролетариата. В общем, вести себя как постсоветская Россия в 1990-е годы (только тогда надеялись на помощь благодарного за ликвидацию СССР Запада). Оставалось подвести под реальность теоретическую базу. И таковая база стала разрабатываться. В 1927 году в свет вышел фундаментальный труд преподавателя Академии Генерального штаба РККА А.А. Свечина «Стратегия». В нем он попытался обосновать принципы ведения будущей войны. Интерес был настолько большой, что книгу пришлось переиздать.
Начал Свечин с весьма показательных заявлений:
«55 лет отделяют последнее практическое выступление стратегии Мольтке – франко-прусскую войну – от последней операции Наполеона, разрешившейся под Ватерлоо… < >…большие основания имеются в наше время, чтобы приступить к ревизии стратегического мышления, оставленного нам Мольтке…». «Многие, вероятно, не одобрят отсутствия в труде какой-либо агитации в пользу наступления…» (47. Свечин, с.7, 10).
Наполеон и Мольтке – успешные творцы стратегии сверхнапористых наступательных кампаний, стратегии сокрушения противников. Того типа войны, которую в ХХ веке стали называть «блицкриг».
Свечин подчеркнул, что поддержал бы стратегию сокрушения, но в существующих условиях выступает за стратегию измора, то есть, обороны. Оно и понятно, о каком наступлении можно было вести речь применительно к Красной Армии после разорительных войн, в целях экономии недавно перешедшей на сокращенные штаты – так называемый территориальный принцип комплектования. Однако то, что очевидно, не значит – правильно.
Свечин знал, кто не одобрит оборонительный характер его представлений о будущей борьбе. Ему противостояла плеяда молодых теоретиков, пропагандировавших принципиально иную установку – маневренную войну с решительными целями. Измор же означал не только большие потери и тяготы, но и сомнительный конечный результат. Они помнили, что царская Россия не выдержала войны на измор в Первой мировой войне и первой из великих держав потерпела полное поражение. Потом точно также войны на измор не выдержали Австро-Венгрия с Турцией и, наконец, Германия. Так к чему повторяться? Впрочем, войны на измор избежать не удалось, и по событиям Великой Отечественной войны мы знаем, что это такое и к каким потерям и разрушениям это ведет. Маневренная же борьба сулила существенное сокращение сроков войны и намного меньшие потери. Тухачевский так и написал еще в 1923 году: «Наши будущие боевые столкновения… будут маневренного характера, т.е. решительного и подавляющего» (54. Тухачевский, т.1, с.110).
За молодежью стоял опыт гражданской войны. Тот же Тухачевский воевал исключительно за счет наступления и маневра. И лишь с польской армией потерпел первое поражение, о причинах которого спорили и спорят до сих пор. Казалось бы, обжегшись на маневре с европейской армией, Тухачевский должен был присмиреть. Ничего подобного! Он был уверен, что выиграл бы и эту битву, будь к маневренной войне готово командование других фронтов и армий. А еще он отчетливо видел причину краха маневренных действий в Первую мировую войну, в частности, почему провалился блистательный план Шлиффена. Ему было очевидно, что скорость пехоты в век железных дорог и автомобильного транспорта оказалась слишком медленной по сравнению с эпохой Наполеона и Мольтке. Солдату с полной выкладкой угнаться за паровозом и грузовиком невозможно. Поэтому французское командование на Марне, а затем германское командование в Восточной Пруссией в 1914 году успело перегруппироваться с помощью новых видов транспорта, и обходные маневры германской армии во Франции и армии генерала Самсонова в Пруссии, закончились провалом. Заговорили о «позиционной ничьей». Но Тухачевский и целая плеяда других военных теоретиков, в том числе на Западе, увидело будущее возобновление маневренной войны в моторизации войск.
Пехотинец обогнать паровоз не мог, а танк – поспевал! И пехота, посажанная на грузовики и бронемашины, тоже. Если же войска не успевали, то бомбардировщики могли разбомбить железнодорожные пути и станции, парализовав тем самым переброску резервов. А раз так, то вектор развития вооруженных сил был определен, и надо было действовать, исходя из генеральной линии развития вооруженных сил в новую эпоху.
Это сейчас может показаться, что «все понятно». Вот тебе танк, вот тебе самолет, вперед – к победе! Один из лучших теоретиков Красной Армии Г. Иссерсон писал: «Наша эпоха многомиллионных армий и высокой военной техники – есть эпоха глубокой операции. Нужно, однако, иметь в виду, что мы пишем об операции, которую еще никто не проводил. Мы оперируем при этом такими средствами борьбы, применение которых в бою и операции еще никто не испытал. Наша исследовательская работа в области оперативного искусства этими условиями существенно отличается от подобных работ в прошлом, когда такие военные исследователи, как Шлиффен, Шлихтинг, Бернгарди всецело строили свою оперативную теорию на изучении исторического опыта последних войн…» (17. Иссерсон, с.4-5). Ошибись теоретики, навяжи они вооруженным силам неправильную доктрину, и в войне это выйдет кровавым боком. Однако просто на диво советская военная мысль 1920-30-х годов двигалась совершенно в правильном направлении. Уж больно непривычно. Ломается стереотип, что Россия должна двигаться в обозе Европы, а главной ее особенностью являются «дураки и дороги». Ну как таких ни расстрелять и ни оболгать?… Расстрелять вторично их уже невозможно, но поглумиться желающих до сих пор пруд пруди. И об этом способе «осмысления» прошедшего придется говорить отдельно.
В 1933 г. в тезисах начальника Штаба РККА А.И. Егорова указывалось, что «новые средства борьбы (авиация, механизированные и моторизованные соединения, модернизированная конница, авиадесантные части и т.д.), их качественный и количественный рост ставят по-новому вопросы начального периода войны…» (Цит.: Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах (1917-1940). М., 1965, с.377). В частности, противоборствующие стороны будут исходить из следующих задач: уничтожение войск противника в начальной фазе войны, срыв планомерной мобилизации, и, в итоге, захват стратегической инициативы. По сути дела, А.И. Егоров еще в 1933 г. набросал сценарий июня 1941 года.
Кстати, продолжают встречаться высказывания о том, что оттягивание Сталиным войны в 1941 году было правильным, и «я бы поступил бы точно так же». Это означает, что даже сегодня некоторые исследователи готовы проводить обанкротившуюся линию, завершившуюся фантастическим по размерам поражением Красной Армии. Найти иной выход, даже с учетом негативного опыта, они не в состоянии. «Оттягивание войны» обернулось добровольной передачей инициативы противнику и сдачей обширных территорий. Поэтому здесь приводятся не просто цитаты, и даже не просто видение надвигающейся войны, а концепция того, как надо было встретить 41-й год, чтобы не только избежать поражения, но и выиграть сражение уже в начальной фазе борьбы.
Советская военно-теоретическая мысль совершенно верно предугадала ход начального этапа войны: нападение последует без раскачки, с нанесением внезапного удара с решительными целями. Чтобы предотвратить нежелательные события, Тухачевский предлагал создать специальные армии прикрытия. «Пограничное сражение будут вести не главные силы армии, как это было в прежних войнах, а особые части, особая передовая армия, дислоцированная в приграничной полосе» (54. Тухачевский, т.2, с.217). Причем ядро ее должны составлять механизированные и кавалерийские соединения, развернутые по штатам военного времени и дислоцирующиеся не далее 50-70 км от границы.
Тухачевский исходил из факта неизбежности новой Большой войны, войны на уничтожение одной из сторон. «…слагается обстановка, при которой мы должны будем встретиться с большой, тяжелой войной, с многомиллионными армиями, вооруженными по последнему слову техники» (54.Тухачевский, т.1, с.251, 252). А раз так, то Советскому Союзу надлежало встретить такую войну во всеоружии, создав, в свою очередь, мощную наступательную армию.
«Мощную наступательную армию»? Зачем? Затем, что Тухачевский хотел, чтобы война была быстротечной, и СССР потерял бы не 27 миллионов человек, как это произошло, а во много-много раз меньше.
В то время многие военные умы размышляли над тем, как сделать войну менее разорительной и менее кровавой. Уроки 1914-18 годов необходимо было осмыслить, сделать выводы и на их основе разработать новую «щадящую» военную доктрину. Тухачевский нашел выход из грозящей кровавой мясорубки, предложив более чем смелое решение: воспользовавшись рождением новых родов войск, взять на вооружение доктрину блицкрига. Смелость и рискованность идеи состояла в том, что до этого блицкриг применялся на небольших театрах военных действий, прежде всего в Европе. А когда воинская часть может ехать из одного конца страны в другой неделями, то откуда взяться быстроте? Но идея блицкрига манила Тухачевского своей эффективностью. И он нашел оригинальное решение. Под блицкригом он стал понимать не скоротечность войны вообще, а фронтовой операции. Сама же война может растянуться на более долгий срок, ведь предстояло сражаться не с одним государством, а коалицией! Причем война могла начаться одновременно как на западе, так и на востоке (против Японии). Поэтому, считал Тухачевский (и это была следующая его новаторская идея), с учетом предстоящих событий, надо готовиться к тотальной войне!
Во времена Наполеона и Мольтке понятие тотальной войны не существовало. Оно возникло в годы Первой мировой войны. Один из ее теоретиков генерал Людендорф понимал – когда в армии противников мобилизуются миллионы, победить можно лишь путем напряжения сил и возможностей всего общества, всего народа, подчинив нуждам вооруженных сил все имеющиеся материальные средства. Но речь шла только о периоде самой войны, когда решался вопрос «кто – кого». Иначе думал Тухачевский. Он пришел к рискованной мысли, что принципы тотальной мобилизации надо распространить на мирное время!
А вот это уже полная неожиданность! Как же так: люди хотят жить по-человечески, а им должны предложить готовиться к войне, как солдатам в армии! Возражения напрашивались сами собой. Да что там возражения, – возмущение таким предложением! И они сыплятся на его голову до сих пор. Но попробуем вдуматься в его «авантюрное» предложение.
Что именно предложил Тухачевский?
В январе 1930 г. командующий Ленинградским военным округом М.Н. Тухачевский представил наркому обороны К.Е. Ворошилову план развертывания гигантских вооруженных сил нового типа. Автор предлагал создать «железный кулак» в составе нескольких десятков тысяч танков, мощной авиации и артиллерийских сил поддержки. Тухачевский ратовал за создание армии нападения, причем в самые сжатые сроки, пока в Европе и мире существует благоприятная обстановка – у вероятных противников не было сильных армий. Для этого предлагалось уже в мирное время развивать промышленность, полностью подготовленную к военному производству. По мысли Тухачевского, необходимо было произвести «ассимиляцию производства» – военного и гражданского. Тем самым «военные производственные мощности, частично занимающиеся выпуском мирной продукции, и гражданское производство… путем дополнительных затрат приспосабливаются к быстрому переходу на военные рельсы… Способность страны к быстрой мобилизации своих промышленно-экономических ресурсов является одним из крупнейших показателей ее военной мощи», – писал он в своей записке. Он и раньше призывал всемерно развивать гражданскую авиацию, как экономичный способ создания базы военно-воздушного флота. Но это частности, главная мысль – начать готовиться к войне незамедлительно и на полных оборотах.
Мысли, вошедшие в план, были давние. Еще в 1926 году (в разгар нэпа!) он предлагал: «Военизировать всю страну, всю экономику надо так, чтобы, с одной стороны, дать возможно большие ресурсы для ведения войны, а с другой стороны, чтобы эта мобилизация не разрушала основного хозяйственного костяка» (Вопросы современной стратегии. М.: 1926).
Нужно быть очень смелым человеком, чтобы предлагать такую «ересь». Впрочем, призыв мобилизовать «все силы» не был идеей одного Тухачевского. Еще в 1927 году в своей книге «Мозг армии» Б.М. Шапошников подробно писал на эту тему: «Не нужно, следовательно, доказывать, что готовиться к такому виду общественных отношений (войне – Б.Ш.) надо серьезно, с полным напряжением сил и средств всей страны. "Войну нельзя вести, – говорит Бернгарди в своей книге "О войне будущего", – как играют в разбойники или солдатики. Она потребует от всего народа напряжения, длящегося годами, никогда не ослабевающего, если хотят завершить войну победоносно"… Но раз эта драма неотвратима, – к ней нужно быть готовым, выступить с полным знанием своей роли, вложить в нее все свое существо, и только тогда можно рассчитывать на успех, на решительную победу, а не на жалкие лавры Версальского договора, расползающегося ныне по всем швам».
К слову. В литературе можно встретить противопоставление Шапошникова как теоретика и Тухачевского. Причем книга Шапошникова всегда подается как выдающийся теоретический труд, где раскрываются особенности работы такого специфического органа как Генеральный штаб. Создается впечатление, что многие авторы таких пассажей в эту книгу не заглядывали, а переписывали оценку у других. Не разбирая работу будущего маршала, приведем лишь названия глав книги:
Глава I. Австро-Венгрия в начале ХХ столетия. Глава II. Австро-венгерские армия и флот в начале ХХ столетия. Глава III. Генеральный штаб Австро-венгерской армии. Глава IV. Начальник Генерального штаба Конрад… Глава VII. Австро-венгерский Генеральный штаб в лицах…
Лишь отдельные главы могут сойти за теоретические, вроде «Глава VI. Думы о начальнике Генерального штаба». Да и то, если ее не читать, а довериться названию («Думы…»!)
В целом, как видно из названия глав, книга представляет собой исторический обзор деятельности австрийского Генерального штаба и теоретические изыски не выходят за рамки осмысления его опыта. Тухачевский, как военный мыслитель, на этом фоне выглядит намного продуктивней.
Но главное то, что умозаключения военачальников и военных теоретиков появились как итог осмысления бескомпромиссной мировой войны 1914-1918 гг., в которой воюющие стороны ставили цели полного разгрома противника без щадящего мирного договора после первых успехов, как это часто было в прошлом. Тухачевский обобщил эти мысли и предложил их реализацию в виде плана. Ведь главное не теоретизирование, а конкретные выводы. Ни Шапошников, ни другие провидцы конкретный план подготовки к надвигающейся Большой войне не представили. Были лишь общие рассуждение, подобно вышеприведенной цитате. Но это все равно, что призвать спортсмена «напрячь все силы перед будущими соревнованиями». Совет хороший, но он чего-нибудь стоит, если предложена методика тренировок. А кричать: «Давай, ребята!» – все умеют. Лишь Тухачевский осмелился разработать конкретный план подготовки к войне. Он был настолько радикальным, что Ворошилов был ошарашен и долго держал его у себя. Но Тухачевский проявил настойчивость, и в марте 1930 г. нарком обороны передал его записку Сталину, что естественно, – такого уровня вопросы, как мобилизация всего народного хозяйства, он не решал.
Поначалу, что не удивительно, Сталин отнесся к предложению Тухачевского отрицательно. «Я думаю, что «план» т. Тухачевского является результатом модного увлечения «левой» фразой…», – писал он 23 апреля Ворошилову. – «Осуществить» такой план – значит наверняка загубить и хозяйство страны, и армию». Однако, поразмыслив, Сталин полностью изменил свое мнение. 7 мая 1932 г. Сталин письменно извинился перед Тухачевским: «В своем письме на имя т. Ворошилова, как известно, я… высказался о Вашей «записке» резко отрицательно, признав ее плодом «канцелярского максимализма», «результатом игры в цифры» и т.д. Так было дело два года назад. Ныне, спустя два года, когда некоторые неясные вопросы стали для меня более ясными, я должен признать, что моя оценка была слишком резкой, а выводы моего письма – не во всем правильными…» (45. Цит.: Самуэльсон, с.163).
Показательно, что если Сталину понадобилось два года, чтобы оценить идеи Тухачевского, то многие критики Тухачевского не могут понять его до сих. Ну да теперь спешить уже некуда…
План был принят в полном объеме. Советские заводы стали выполнять двойную задачу: работать на военное и гражданское производства одновременно, как ставшие затем знаменитыми паровозостроительный завод в Харькове или вагоностроительный в Свердловске. Таким образом, многие предприятия изначально находились в полумобилизованном положении и коренной перестройки своей работы с началом войны не требовали. До сих пор этот курс вызывает, мягко говоря, непонимание у современных историков и публицистов. Тухачевского обвиняют в авантюризме, милитаризме и даже глупости. Потому подробнее присмотримся к тому, из чего исходил Тухачевский в своих предложениях.
Прежние войны носили характер локальных конфликтов. Русско-японская война, балканские войны 1912-13 гг. и др., велись по простому принципу: началась война – экономика получает военные заказы. Война кончилась – заказы свертываются. В Первой мировой войне такая практика оказалась порочной. Армии воюющих держав в считанные месяцы истощили запасы мирного времени: снаряды, патроны, винтовки. Для русской армии это обернулось большими поражениями и огромными жертвами – промышленность подвела. Стало ясно: войны в ХХ веке стали чрезвычайно затратными. Времена, когда война обходилась той армией, что существовала в мирное время, пусть и с пополнениями, миновали. Кадровая армия быстро растворялась в море мобилизованных, и для них требовалось огромное количество оружия. Прежде всего из-за недостаточной обученности личного состава потери оружия и расход боеприпасов были, так сказать, сверхнормативными. И с этим ничего нельзя было поделать, хотя государство старалось в мирное время всеми способами обучать потенциальных резервистов. Но тиры, учения гражданской обороны, курсы военной подготовки в школах и вузах, аэроклубы и прочая, все равно не могли подготовить настоящих солдат, техников, летчиков и танкистов. Поэтому Тухачевский предложил не ждать повторения прежней ситуации, а всемерно подготовиться к войне в мирное время. То есть, не раскачиваться в первый военный год, чтобы сравняться с силами противника во второй, дабы на третий год перейти в решительное наступление, как это произошло во Второй мировой войне не только с СССР, но и с Англией и Соединенными Штатами, а ударить всей возможной мощью в первый же месяц войны и не уменьшать напор в последующие из-за нехватки сил. Это, по мнению Тухачевского, значительно сократило бы сроки военных действий и сохранило бы множество жизней.
Казалось бы, ясная концепция, однако, судя по нынешним книгам, ее не понимают 90 процентов исследователей. Отсюда обвинения Тухачевского в авантюризме и легкомыслии. Однако даже после гибели Тухачевского Сталин и командование РККА продолжало придерживаться «авантюристического» курса. Вот выписка из протокола заседания Главного Военного Совета Красной Армии от 10 апреля 1938 года. присутствовали Ворошилов (председательствующий), Сталин, Шапошников, Буденный и т.д.. Постановили:
«4. …заявку на танки сократить с 28 327 до 20 000» (Главный Военный Совет РККА, 13 марта 1938 г. – 20 июня 1941 г. Документы и материалы. – М.: РОССПЭН, 2004. С.35).
20 тысяч танков в год! Да это же «тухачевская» заявка!
Если бы у глобальной войны не было перспектив, как в 1960-80-е годы, то безудержная гонка вооружений не имела бы смысла, но если существует уверенность, что Большая война начнется через 8-10 лет, то чего тянуть резину?
Пока государство разворачивалась лицом к будущей, уже скорой тотальной войне, Тухачевский со своими единомышленниками делал следующий шаг – разработал новую концепцию войны, «стратегию сокрушающего удара».
В работе «Вопросы высшего командования», изданной в 1924 году, Тухачевский сформулировал задачу: «Не на героизм войск надо рассчитывать. Стратегия должна обеспечить тактике легко выполнимые задачи. Это достигается в первую очередь сосредоточением к месту главного удара во много раз превосходных над противником сил… Должен быть создан всесокрушающий таран» (54. Тухачевский, т.1, с.186).
Так в 1939-41 годах немцы и воевали.
Первой всесторонней теоретической разработкой, ставшей основой теории блицкрига или «глубоких операций», стала вышедшая в 1929 году книга В. Триандафиллова «Характер операций современных армий». Любопытна перекличка анализа Триандафиллова с идеями Тухачевского.
Триандофиллов писал: «…рассуждая абстрактно, при обороне легче достигнуть устойчивого фронта, чем раньше. Но беда обороны заключается в том, что она всегда ограничена в средствах, что она ведется заведомо малыми силами и потому не всегда может дать ту плотность фронта, которая обеспечила бы достаточную сопротивляемость боевых порядков». Так во Второй мировой войне и случилось. Как ни хорошо сопротивлялись обороняющие, победа была за имеющими возможность наступать.
«Было бы непоправимой ошибкой из-за возникающих в связи с развитием военной техники трудностей в ведении глубоких (наступательных) операций впадать в своего рода "оперативный оппортунизм", отрицающий активные и глубокие удары и проповедующий тактику отсиживания, нанесения ударов накоротке – действия, характеризуемые модным словом "измор"», – бросил камешек в огород А. Свечина автор.
Сторонники обороны не поняли главного: по сравнению с Первой мировой войной, где средства обороны превзошли средства нападения, ситуация изменилась кардинальным образом. Быстрое развитие техники вновь дало преимущество средствам нападения. Это стало ясно уже в 1918 года после успешного применения танков. Вторая мировая война подтвердила выводы Тухачевского и Гудериана, делавших ставку на новые рода войск – танки и авиацию. Попытки Вермахта в 1943-45 гг. создать прочную позиционную оборону в духе Первой мировой войны («Восточный вал», «Атлантический вал», «линия Зигфрида», «линия Густава» и т.д.) успеха не принесли. Не помог ни опыт, ни стойкость немецкого солдата, ни широкие реки: Днепр, Висла, Сена, Дунай, ни бетонные сооружения в укрепрайонах Восточной Пруссии и левого берега Рейна. Также оказалась безуспешной оборонительная стратегия Японии на островах в Тихом океане. Обескровить американские войска не удалось. Более того, в продуманных наступательных операциях относительно редко соблюдался известный принцип, когда нападающие несут потери примерно три человека к одному обороняющемуся. Лишь в тех случаях, когда хромало оперативное искусство, нападающие несли по-настоящему тяжелые потери в личном составе.
Квинтэссенцией проделанной теоретиками работы стал Полевой Устав РККА 1939 года. В нем в частности было сказано: «Если враг навяжет нам войну, Рабоче-крестьянская Красная Армия будет самой нападающее из всех когда-либо нападавших армий. Войну мы будет вести наступательно, перенося ее на территорию противника» (ПУ РККА. М.: Воениздат, 1939, с.9).
Не самое удачное для военного документа выражение «будет самой нападающей из всех… армий» сейчас воспринимается как сугубо агрессивная риторика. Так ныне в России не говорят, потому что страна находится в глубокой обороне. Предел мечтаний – создание условий для привлечения иностранных инвестиций, чтоб с помощью гастербайтеров как можно больше сделали за нас. Ну и, конечно, чтоб цена на нефть не упала. А в то время молодое государство ощущало в себе избыточность сил, переживало мощный энергетический подъем и было готово принять вызов от любого противника. И известная фраза «кто с мечом к нам придет от меча и погибнет» стала восприниматься иначе: «кто с мечом к нам придет, тот от нашего меча в своем логове и погибнет». То есть, если Александр Невский довольствовался победой на границе Новгородских земель, то теперь стояла задача закончить войну там, откуда исходил приказ о нападении на СССР. И ничего в такой постановке нового не было. Так себя вели армии других великих держав. Так ведут и поныне. После атаки 11 сентября 2003 года американская армия незамедлительно нанесла ответный удар, хотя штаб террористов, по версии Вашингтона, находился в далеком Афганистане.
Таким образом, уже будучи в безымянной могиле, Тухачевский продолжал оказывать влияние на Красную Армию, и не только в виде лозунговых положений военного Устава. Когда составлялся план удара по германской армии в 1940 году, то в основу легло «авантюрное» наступление Западного фронта под командованием Тухачевского в 1920 году. Его войска двигались по тому же принципу, что германские в августе 1914 года по плану Шлиффена – в виде «серпа». Неприятель оказывался внутри полукружья, не успевая реагировать на движение наступающей армии.
Идея «серпа» также была заложена в «Соображениях о стратегическом развертывании вооруженных сил», представленных руководству страны осенью 1940 года. Только прежний удар с севера был перенесен на юг Польши с поворотом на север. Особенно четко это видно в проекте превентивного удар по Вермахту Жукова-Тимошенко от 15 мая 1941 года. Первый удар предлагалось нанести вдоль Карпат на Катовице-Краков. «Последующей стратегической целью иметь: наступлением из района Катовице в северном или северо-западном направлении разгромить крупные силы Центра и Северного крыла германского фронта и овладеть территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии».
Эффект от южного удара мог получиться грандиозным в том случае, если дать немецким войскам продвинуться вглубь в Белоруссии и Литвы. Тогда прорыв через южную Польшу с поворотом к Балтийскому морю отрезал бы группы армий «Север» и «Центр» от Германии. Получался охват масштабнее, чем по плану Шлиффена или наступления в Арденнах в 1940 году. Но такой маневр требовал наличия по-настоящему мощных танковых и моторизованных сил. В период составления плана Генштабом в 1940 году соединений, способных совершить столь сложный маневр, у Красной Армии не было. Мехкорпуса были расформированы в 1939 году. В итоге по варианту 1940 году получалась серединка на половинку: удар через южную Польшу повисал в воздухе, и что в такой ситуации делать дальше было совершенно не понятно. И тогда разработчики плана придумали удивительное объяснение: мол, эффектом от такого маневра является отсечение Германии… от Балкан!
Объяснение имело такой успех у историков, что оно неустанно повторяется до сих. При этом никто не объясняет, каким образом можно отрезать Румынию, Болгарию, Турцию от Германии через южную Польшу? С чего это вдруг румынская нефть должна была экспортироваться в рейх не через Венгрию (кратчайший маршрут), а через Словакию и Польшу? И каким образом румынская армия могла взаимодействовать с германской через Словакию? В 1915 году русские войска пытались прорваться в Венгрию через словацкие Карпаты – безуспешно. В 1944-45 гг. Красная Армия несколько месяцев штурмовала горы вторично, и опять без особого успеха. Братиславу пришлось освобождать через территорию Венгрии, а Прагу – через Германию. Нет, Карпаты и Татры – были слишком серьезными препятствиями хоть для взаимодействия войск, хоть для экономических связей Балкан с Германией. Зато в мае 1941 года средства для таранного удара в распоряжении Жукова уже были – механизированные корпуса (танковые армии) были воссозданы вновь. Так что Жуков мог довести удар через южную Польшу до логического конца, без байки про «отрезанные Балканы».
План, что предложили Мерецков-Тимошенко-Жуков был универсальным, он подходил как для превентивного удара по неизготовившемуся противнику, так и в качестве контрнаступления против прорвавшегося на территорию СССР врага.
Итак, видно, что Тухачевский, как и Триандафиллов, ничего не изобретали с нуля, не выдумывали на чистом листе бумаге. За их разработками и предложениями стоял как недавний военный опыт, так и традиции вполне определенной военной доктрины, прежде всего немецкой.
Что сближало видение группы Тухачевского с германской военной школой?
Во главу угла в обеих армиях был поставлен маневр. Встретив сопротивление противника, немецкие командиры без промедления смещали ударные соединения влево или вправо от узла обороны. Расчет был прост: оборона противника вряд ли была крепкой на большом протяжении. Где-то оборонительные порядки становились жиже настолько, что позволяли прорвать их. Вот это место и начинали искать.
У немцев споров, как вести будущую войну, не было – только маневр, только блицкриг! Все прекрасно помнили ужасы позиционной войны в Первой мировой войне, и всю «сладость» войны на измор, завершившуюся революцией. В то же время, они знали примеры блистательного успеха маневренных действий и «скоротечных войн» 1866 и 1870 гг. Так что выбора не было. Оставалось лишь разработать новый, с учетом времени, арсенал блицкрига. Обычно решение этой задачи связывают с Гудерианом, выпустившего книгу «Танки, вперед!», где он изложил принципы ведения боевых действий с применением нового рода войск. Но помимо теории многое дала практика. Участие в гражданской войне в Испании позволило прийти к мысли о целесообразности непосредственной поддержки наступающей пехоты самолетами, для чего потребовалось создать новый вид авиации – штурмовой. Было сконструировано несколько типов штурмовиков и пикирующих бомбардировщиков, наиболее удачным и знаменитым из которых стал «Юнкерс-87». Сочетание танков, моторизованной пехоты и пикирующей авиации оказалось эффективнейшим средством взламывания обороны противника на оперативную глубину.
Точно по такому же пути пошло развитие и Красной Армии. Только танки были мощнее и числом поболее, причем в разы. Правда, эффективное средство авиационной поддержки пехоты было создано лишь в 1940 году. Это штурмовик Ил-2, также затем ставший знаменитым.