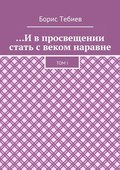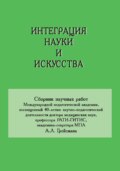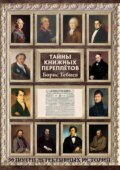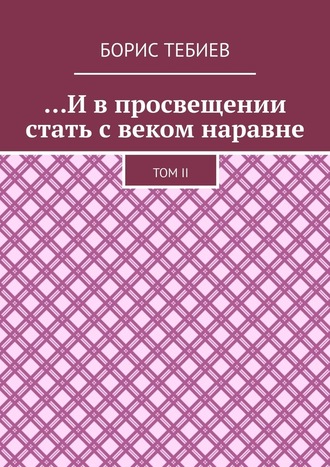
Борис Константинович Тебиев
…И в просвещении стать с веком наравне. Том II
Прошение и проект сельского коммерческого училища были благожелательно встречены при дворе. В именном указе на имя гофмейстера И. П. Елагина от 12 марта 1778 года Екатерина II, назвав намерение московского купца «похвальным» и «являющим в нем гражданина, о пользе общей усердно попечительного», повелела «всемилостивейше сему способствовать». Уже в апреле того же года главной дворцовой канцелярией, в ведении которой находилось село Любучи, под училище и приют был выделен необходимый земельный участок. Однако скоропостижная кончина П. Д. Ларина в августе 1778 года расстроила все планы, и идее первого в России сельского коммерческого училища было не суждено осуществиться. Лишь через несколько лет после смерти купца-просветителя на завещанные им деньги в Любучах было открыто учебное заведение, однако не коммерческое, а обычное, общеобразовательное.
С переводом Демидовского коммерческого училища в Петербург московское купечество довольно быстро осознало свою потерю и обратилось к властям с просьбой об учреждении в Москве нового коммерческого учебного заведения. В июле 1803 года на объединенном собрании московского купеческого и мещанского обществ было приговорено учредить в помещении пожалованного императором Александром I купечеству Москвы бывшего Андреевского монастыря коммерческий класс для содержания и обучения 50 купеческих и мещанских детей чтению и письму на русском, немецком и французском языках, а также арифметике и бухгалтерии. 16 октября того же года по инициативе московского городского главы М. П. Губина состоялось новое собрание московских купеческого и мещанского обществ, принявшее решение не о создании коммерческого класса, а об организации коммерческого воспитательного училища. Вскоре императором Александром I был Высочайше утвержден Устав нового учебного заведения – «План коммерческого училища, учреждаемого в Москве на содержании купеческого и мещанского общества». Так было положено начало учебному заведению, получившему впоследствии название Императорское московское коммерческое училище и вошедшему в состав учебных заведений Ведомства учреждений императрицы Марии.
22 июля 1804 года во взятом внаем доме на Таганке состоялось официальное открытие училища, в котором участвовали московский гражданский губернатор и другие почетные гости. В их присутствии директор училища Яков Иванович Рост (1766—1812) произнес торжественную речь «О целях учреждаемого училища и превосходстве торговли».
Содержание училища взяло на себя Московское купеческое общество, постановившее выделять для нужд учебного заведения «из общественных своих доходов но 15 тысяч рублей ежегодно, а в случае если бы полагаемая сумма оказалась недостаточной, впредь прибавлять погребную» [18]. К чести московского купечества, оно полностью выполнило эти обязательства. После разорения в 1812 году Москвы Наполеоном, в результате которого училищу был нанесен значительный материальный ущерб, ежегодные затраты купеческого общества на его содержание выросли до 45 тысяч рублей. В 40-е годы XIX века они поднялись до 60 тысяч рублей в год. Начальный же капитал, по всей видимости, составили средства, которые выделили московские купцы М. П. Губин, В. Г. Жигарев, Д. Ф. Угрюмов и другие, отказавшись в пользу училища от взыскания солидных денежных сумм со своих должников (229 тысяч рублей) [19]. В 1806 году на средства купечества для училища был приобретен особняк на Остоженке, в котором в настоящее время размещается Московский государственный лингвистический университет. На покупку и перестройку здания московские купци израсходовали около 150 тысяч рублей. Работами по перестройке особняка руководил выдающийся архитектор Д. И. Жилярди.
Согласно Уставу, в училище принимались на конкурсной основе (со вступительными экзаменами) мальчики не моложе 10 лет, имевшие подготовку в объеме приходского училища. Их родители или опекуны обязывались давать письменное заверение, что, окончив училище, его воспитанники «впоследствии непременно посвятят себя какой-либо отрасли коммерции, сообразно цели училища».
В училище был установлен восьмилетний срок обучения. Воспитанники делились при этом на четыре класса. Даже независимо от результатов приемных испытаний в первом классе ученики проходили испытательный срок.
Те, кто выдерживал предъявляемые требования, продолжали учебу, кто не выдерживал, возвращались в семьи. Воспитанники училища находились на полном обеспечении. Часть пансионеров содержались за счет средств московского купеческого и мещанского обществ. Учебный план Императорского московского коммерческого училища в первые десятилетия его существования был составлен по аналогии с учебным планом Демидовского коммерческого училища в Петербурге. В первом классе (первый и второй годы обучения) изучались Закон Божий, арифметика, чистописание на трех языках (русский, французский и немецкий), начала рисования, первоначальные правила русского, французского и немецкого языков.
Во втором классе (третий и четвертый годы обучения) продолжалось изучение Закона Божия, арифметики и чистописания и вводились такие предметы, как алгебра, начала истории и географии, рисование, этимология русского, французского и немецкого языков с краткими переводами.
В третьем классе (пятый и шестой годы обучения) к перечисленным выше предметам добавлялись начала геометрии, «купеческие выкладки» и начала бухгалтерии, коммерческая география, физическая и экономическая география, синтаксис русского, французского и немецкого языков, сочинения на этих языках, начальные правила английского языка.
В заключительном, четвертом классе (седьмой и восьмой годы обучения) основное время отводилось на изучение специальных дисциплин. Изучались коммерция, бухгалтерия, гражданская архитектура, статистика, коммерческая география, технология. Из общеобразовательных предметов преподавались иностранные языки, русский язык и словесность, геометрия, интегральное и дифференциальное исчисления, математическая география, физика, естествознание и Закон Божий.
Стараниями дирекции, педагогов и попечителей училища здесь были созданы прекрасные условия для учебы. Гордостью учебного заведения являлась библиотека, которая охватывала «все отрасли наук и художеств». Книжный фонд библиотеки постоянно пополнялся за счет общественных пожертвований. Известно, например, что в 1823 году почетный член училищного совета, владелец крупнейшей в России типографии С. И. Селивановский подарил библиотеке 250 книг духовного, нравоучительного, исторического и учебного содержания. Большое количество книг (на сумму 2,5 тысячи рублей) пожертвовал училищу известный московский книготорговец М. П. Глазунов. В 1825 году профессор Московского университета И. В. Васильев, преподававший в училище историю российского законодательства, подарил коллекцию книг по истории русского права, которая легла в основу библиотеки класса российского законоведения.
Благодаря пожертвованиям в училище были оборудованы учебные кабинеты. В 1821 году купцы Четвериковы передали училищу 32 тысячи рублей для устройства учебных кабинетов – монетного, товаров, физического, естественной истории. В 1826 году в училище был оборудован кабинет технологии. В нем были представлены различные этапы ручной и машинной обработки хлопка и льна. В этом же году в училище был увеличен курс преподавания технологии и естественной истории. Практическую направленность приобрели занятия по черчению. Вводилось «копирование с готовых чертежей, к фабрикам и заводам относящихся». В России назревал промышленный переворот, и это не могло не отразиться на занятиях воспитанников.
Московское купеческое общество проявляло постоянную заботу не только об улучшении качества профессиональной и общеобразовательной подготовки питомцев коммерческого училища, но и об их воспитании. Так, в 1840 году в записке, поданной купечеством в Дом градского общества, говорилось о необходимости усилить нравственное воспитание в учебном заведении. «Полезней было бы, – писали авторы записки, – сколько возможно более внушать детям о необходимости истинного на правилах святой веры и чистой нравственности основанного просвещения, могущего послужить залогом будущего благосостояния их в звании» [20].
Примечательной особенностью Императорского московского коммерческого училища являлось то, что «одаренные природной склонностью и остротой ума» воспитанники, быстро усваивавшие программный материал и имевшие глубокие знания, могли проходить курс первого и старших классов не за два года, как все, а за один.
В различные годы соотношение общеобразовательных и специальных предметов в учебном плане училища было различным, однако значительных перекосов в ту или иную сторону не наблюдалось. Подобно Петербургскому, Московское коммерческое училище являлось, по существу, средней общеобразовательной школой, дававшей своим воспитанникам наряду с общим образованием основательные профессиональные знания, которые позволяли им впоследствии успешно работать в сферах торговли, финансов и статистики. Многие выпускники училища с успехом продолжали предпринимательскую деятельности родителей. Некоторые из них трудились в конторах торговых и промышленных предприятий, служили управляющими крупных имений, занимались делопроизводством в государственных учреждениях.
В 1834 году из коммерческого училища в качестве самостоятельного учебного заведения выделилось мещанское училище. Его воспитанники, получив первоначальное общее и профессиональное коммерческое образование, имели возможность значительно раньше, чем выпускники коммерческого училища, начинать свою трудовую деятельность. Они могли служить «мальчиками» при лавках, писцами при торговых и фабричных конторах. Эта мера позволила значительно снизить отсев учащихся из коммерческого училища, который происходил, как правило, по причине бедности родителей, не имевших возможности обеспечить своим детям завершение полного курса обучения.
В первый год своей работы Московское коммерческое училище приняло 31 учащегося. В 1811 году здесь насчитывался уже 121 воспитанник, а в 1812 году в училище состоялся первый выпуск. По роковому стечению обстоятельств он происходил в день вступления в Москву наполеоновских войск. Училище едва успело выбраться из города и временно разместиться в Муроме, однако уже в декабре оно вернулось в Москву. Среди воспитанников практически со дня создания училища были не только москвичи, но и уроженцы многих российских губерний, числившиеся пансионерами учебного заведения. В первое пятидесятилетие (1804 – 1854) в училище поступили 895 учащихся, из них 433 полностью завершили учебный курс, а 462 по различным обстоятельствам выбыли до окончания срока обучения.
Среди тех, кто не закончил полного курса обучения в училище, был и известный русский писатель Иван Александрович Гончаров, поступивший сюда в десятилетнем возрасте (в 1822 г.) вслед за старшим братом Николаем. Училище не оставило яркого следа в биографии классика русской литературы. Напряженные занятия точными науками, строгая дисциплина были не по душе юному волжанину, с детства обладавшему ярко выраженными гуманитарными наклонностями и живым подвижным характером. Отсидев два двухлетия в первом классе, Иван Гончаров отстал от своих сверстников и в восемнадцатилетнем возрасте предпочел с согласия родных оставить коммерческое училище и приступить к подготовке ко вступительным экзаменам на словесное отделение Московского университета.
17 апреля 1876 года был утвержден новый устав учебного заведения, который во многом повторял устав Императорского петербургского коммерческого училища. Во главе учебного заведения стоял совет училища, членами которого являлись директор, московский городской голова, старшина купеческого сословия и пять выборных от московского купечества, числившихся почетными членами совета. Кроме почетных членов совета устанавливалось еще и особое звание членов-благотворителей, которое присуждалось лицам, изъявлявшим желание жертвовать ежегодно в пользу училища не менее 500 рублей.
На начало 1905 года в училище обучались 675 воспитанников, среди которых преобладали дети купцов и мещан, 117 воспитанников были выходцами из крестьянских семей, 38 – из дворян. Педагогический персонал учебного заведения состоял из 48 преподавателей и 13 воспитателей.
Практически одновременное с Императорским московским коммерческим училищем в 1804 году в Москве создается частный коммерческий пансион уроженца немецкого города Ландека Карла Иогана Арнольда (1775—1845). Целью учебного заведения являлось «образование юношей, желающих вступить в купеческое звание». В 1806 году пансион был переименован в Практическую коммерческую академию. В 1810 году, после перехода Арнольда на службу в Петербург в Министерство финансов, академия поступает в ведение Московского общества любителей коммерческих наук и получает новое название Московская практическая академия коммерческих наук.
На личности Карла Ивановича Арнольда (так звали его в России) следует остановиться особо. И не только потому, что именно он положил начало одному из лучших в России коммерческих училищ, более ста лет выпускавшему из своих стен предпринимательскую элиту. Уроженец Пруссии, выпускник Берлинского университета, как свидетельствуют немногие сохранившиеся документы, приехал в Россию искать не только «счастье и чины». Это был человек, искренне увлеченный идеями просвещения, распространения коммерческих знаний среди российского юношества, за что был отмечен императором Александром I. Горячо сочувствуя своей новой родине, Арнольд отчетливо сознавал, что успехи российской коммерции во многом зависят от умения русских купцов правильно и честно вести торговые операции, от их знания особенностей современного промышленного производства, от их общего культурного кругозора. Свои мысли о необходимости дать купеческому сословию добротное образование педагог воплотил не только в практике пансиона и Московской практической коммерческой академии, но и в своих учебных пособиях, научных и литературных сочинениях. Его перу принадлежат такие книги, как «Самоучитель бухгалтерии» в двух частях (Москва, 1809), «Опыт гражданской бухгалтерии» (Петербург, 1814), «О системе государственного счетоводства» (Петербург, 1823), «Разные сведения о российской внешней торговле» (Петербург, 1829) и другие работы.
В фондах Государственной публичной библиотеки Российской Федерации в Москве нам удалось обнаружить небольшое драматургическое произведение Арнольда под названием «Разговор о истинном образовании купца». В пьесе, носившей ярко выраженный нравоучительный характер, четыре действующих лица: «неученый россиянин» купец В. Зубков, его племянник купец М. Крюч-ков, «чужестранный комиссионер» англичанин Ж. Донкер и немец – коммерсант Градаус. Сюжетный конфликт пьесы – спор между Зубковым и Донкером о качестве ввозимого в Россию из Англии хлопчатобумажного полотна. Решая его, русский и английский предприниматели обращаются за советом к «рассудительному немцу», который помогает не только им выйти из затруднительного положения, но и молодому купцу Крючкову определиться с покупкой товара. Главное нравоучение пьесы в том, что отношения между коммерсантами должны быть доверительными и честными и что коммерции необходимо серьезно и основательно учиться.
«Доверие и обещание, – говорит купец Зубков, обращаясь к племяннику, – суть драгоценности, которые должны быть священны для человека, а особенно для купца. Они суть духа всех поступков его и связь, соединяющая людей, живущих на противоположных полюсах и друг друга не знающих; они распространяют торговлю, дают живое стремление промышленности и помощь к умножению богатства. Купец, не имеющий сих оснований, подобен строению на нетвердой земле; он скоро должен пасть».
Весьма поучительны и высказывания многоопытного Градауса, в образе которого улавливаются зримые черты автора пьесы. Его пространные (в духе времени и жанра) сентенции пронизаны глубокой верой в силу знания, творческие возможности русского человека, его деловую хватку.
Интересен диалог Зубкова и Градауса, оставшихся наедине после утряски дел с Донкером и Крючковым. Именно в нем наиболее ярко проявились педагогические воззрения автора, его жизненные принципы.
«В. Зубков. Так! К несчастью, низкое корыстолюбие ведет многих к несправедливым поступкам. И кто больше купца ему подвержен? Особенно люди без воспитания и знания, вступившие в круг торговли по одному случаю, у коих понятия о позволенном, справедливом барыше и о плутовствах, хитростях и коварствах совершенно не разделены.
Градаус. И самые сии люди потрясают кредит целой нации; сие то причиною, что иностранцы с нею не соглашаются иметь непосредственную торговую связь; дела исправляются чужестранными комиссионерами. Для сего, если народ хочет возвысить и увеличить свою торговлю посредством произведений, мануфактур и фабрик, то должно более думать о образовании купеческого юношества, для сего нужно стараться, чтобы оно имело основательные познания, чтобы дух его был образован, и чтобы оно имело склонность к наукам и искусствам. Посмотрите па англичан, на немцев и нa все другие просвещенные европейские народы, вы увидите, что образование всегда предшествовало торговле. По здесь, может быть, мне возразят так: «Нам сие не столь нужно, как жителям других земель; мы имеем столько своих сокровищ, что иностранцы должны искать нас, а не мы их». В последнем я согласен, но довольно ли сей причины, когда наши необделанные произведения бывают покупаемы, и будучи обделаны и улучшены, опять нам и притом с барышом бывают проданы, сколь много миллионов теряет от сего государство, и сколько сот тысяч людей могли бы чрез занятие получить пропитание, и не живее ли было бы обращение денег в государстве? Не довольно ли сего единого доказательства, чтобы более думать о образовании купечества? Если юношество получит нужные и основательные познания, то наши фабрики и мануфактуры скорее будут приходить в совершенство, нежели теперь; тогда юноши с пользою будут осматривать чужие земли и в отечестве своем будут проводить время не за винами и пуншем, но в приведении в совершенство мануфактур и фабрик.
В. Зубков. Справедливо, весьма справедливо! Я сам знаю многих соотечественников моих, кои были в Кенигсберге, Берлине, Бреславле, Лейпциге, Гамбурге и Бог знает где они еще не были! Если спросить их о заведениях, касающихся до коммерции, и других замечания достойных вещах, то отвечают они: «Мы сего не знаем». Спроси же их о прекрасном столе, театре, балах и других увеселениях, то они могут долго нас оным разговором занимать, и притом слышу я, что они разумеют некоторые иностранные языки.
Градаус. Я этому весьма верю, но я бьюсь об заклад в десять раз более одного, что они оные слова так только выучили, чтобы изображать в чужих землях свои желания, или чтобы тем блистать в отечественных публичных собраниях, как образованные люди. Разговоры их бывают только о вещах обыкновенных и относятся только до удовольствий, игры, охоты… А чтобы выучить совершенно сии языки, чтобы проникнуть глубоким взором во внутренность просвещения, чтобы чувствовать превосходство образования духа, сие совсем не было их намерением при обучении языкам. Словом: они не имеют склонности к наукам и искусствам; по сему-mo только интересует такого человека, что нравится его ложному вкусу и льстит любимым страстям.
В. Зубков. По как помочь сему? Как можно довести до того юношество, чтобы в нем возбудить склонность к образованию и к желанию быть образованными купцами?
Градаус. Вы, родители, должны сделать к тому начало; вы должны давать им хорошие примеры! Вы должны препоручить детей ваших приватным людям и заведениям, имеющим цель благо общее, чтобы при обучении иностранных языков занимались и науками; чтобы молодые люди приобретали вкус в чтении, науках и искусствах; тогда все прочее выйдет само собою. Также ваш род и порядок жизни, ваши конторы должны служить юношеству примером любви к порядку и некоторой отличной и принадлежащей купцу свойственности. Вы должны учить их знать иену дружества и любви к отечеству, и ваш патриотизм не должен быть опорочен и не служить, как к несчастию часто случается, средством к достижению других неблагонамеренных целей. Словом, вы должны быть первые учители детей ваших. По. мудрыми и благодетельными велениями вселюбезнейшего нашего монарха уже и учреждены превосходные школы, гимназии, университеты и академии; и он – примеру коего следуют все его министры и государственные чиновники, дает ежедневно новый случай исполнить наши желания. Он сам все делает, чтобы нас сделать к высокому нравственному наслаждению более чувствительными; и сие видно изо всех его законов. Новый Манифест о правах купца [21], есть манифест мудрый, отеческий, справедливый и поощрительный! Слава монарху и его министрам!
В. Зубков. Так! Да будут они благословенны. Мы уже и чувствуем сие великое благодеяние; теперь наше первое желание, употребить все старание на образование детей наших. Мы теперь имеем собственные училища, в совершенство приходящие через высокое покровительство их императорских величеств Александра и Марии [22], коих имена в российских летописях и в сердцах многих тысяч сирот останутся незабвенны: но не менее чрез старание многих министров и других патриотов, о имени коих в сем месте не могу я лучше и пристойнее упомянуть, как разве только умолчав об них. Итак при особенном покровительстве и старании сих великих мужей чего не можно надеяться для учебных заведений?»
Как и полагалось по канонам драматургии начала XIX в., пьеса заканчивалась здравицей в честь императора Александра I, начавшего, как известно, свое царствование с либеральных преобразований в экономической и культурной жизни страны, учредившего в числе первых государственных ведомств Министерство народного просвещения и сочувственно относившегося к стремлению российского купечества обучать своих детей коммерческим наукам. По всей видимости, пьеса Арнольда предназначалась для ученического театра или для тренировок учащихся в переводах с немецкого языка. О последнем свидетельствует надпись на титульном листе пьесы, указывающая, что она была переведена с немецкого подлинника учеником первого класса Практической коммерческой академии Василием Козловым.
Прослужив ровно 30 лет по ведомству Министерства финансов и сделав за эти годы немало полезного для развития российского коммерческого образования (его книги по бухгалтерскому учету и счетоводству были одними из лучших для своего времени), Арнольд в начале 1840-х годов вернулся на родину в Германию, где вскоре и умер. Как свидетельствует биографическая справка о нем во втором томе энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, «в большой бедности». Сыновья К. И. Арнольда – Юрий и Федор остались в России и, подобно отцу, сослужили ей немалую службу. Юрий Карлович Арнольд, композитор и музыковед, преподавал в Московской консерватории и Московском университете. Федор Карлович в 1876 году возглавил знаменитую Петровско—Разумовскую сельскохозяйственную и лесную академию, войдя в историю российской науки как выдающийся ученый-лесовод, при жизни названный коллегами «отцом русского лесоводства».
В Московскую практическую академию коммерческих наук, как и в Московское императорское коммерческое училище, принимались юноши, уже имевшие начальное образование. Курс обучения в академии продолжался шесть лет. Из общеобразовательных и специальных предметов здесь преподавались Закон Божий, русская грамматика, правописание, чистописание, французский, немецкий, английский и факультативно греческий языки, словесность и рисование, логика и нравоучения, физическая, экономическая и математическая география, статистика, арифметика, алгебра, тригонометрия, начальные основы физики и естественной истории, а также политическая экономия и законоведение, технология и товароведение, коммерческая география и история торговли, купеческие вычисления, коммерция и бухгалтерия.
Важное значение в академии придавалось практической подготовке учащихся к дальнейшей коммерческо-хозяйственной деятельности. Уже в первые десятилетия существования здесь сложилась традиция направлять учеников выпускного класса для практических занятий на Нижегородскую ярмарку. Им давались задания по составлению отчетов о торговых операциях, подробному описанию особенностей экономики различных регионов России, товары из которых поставлялись на ярмарку. Объектами изучения являлись и предприятия (мануфактуры и фабрики) Московского экономического района. Здесь изучались экономика и организация производства, коммерческие связи предприятий. В 1860-х годах при академии были открыты публичные лекции по различным коммерческим вопросам, которые читались преподавателями академии бесплатно для всех желающих и пользовались в Москве большим успехом.
Обострившаяся к началу XIX века общественная потребность в квалифицированных коммерсантах способствовала появлению в стране наряду с коммерческими училищами новых типов учебных заведений с профильной коммерческой подготовкой. К их числу следует отнести открытую в 1804 году в Одессе коммерческую гимназию. Ее устав был разработан на основе Высочайше утвержденного Александром I типового «Устава учебных заведений, подведомственных университетам». Декларируя принципы реальной общественной школы, общероссийский Устав давал возможность устроителям гимназий преследовать «двоякую цель»: готовить выпускников к университетским наукам и в то же время преподавать науки практические «тем, кои, не имея намерения продолжать оные в университетах, пожелают приобресть сведения, необходимые для благовоспитанного человека» [23].
По типовому Уставу, кроме полных курсов латинского, немецкого и французского языков в гимназиях преподавались дополнительный курс географии и истории, курс общей статистики и статистики Российского государства, начальный курс философии и изящных наук, начальные основания политической экономии, курс чистой и прикладной математики, курс опытной физики и естественной истории, а также «начальные основания наук, относящихся до торговли, основания технологии и рисование». С позволения высшего начальства (попечителей введенных в 1803 году учебных округов) гимназиям разрешалось расширять число учебных предметов и учителей наук и языков, если учебное заведение имело «довольные к тому способы».
Для «приобучения учеников к главнейшим действиям практической геометрии» устав предусматривал обязательный осмотр учащимися под руководством учителя математики различного рода мельниц, гидравлических машин и других механических предметов, находящихся в окрестностях гимназий. Учитель естественной истории и технологии обязывался организовывать с учащимися экскурсии на фабрики, мануфактуры, в мастерские художников, «дабы предметы, которые он преподает по сей части, объяснять практикою».
Устав требовал, чтобы гимназические библиотеки наряду с другой учебной литературой были укомплектованы книгами, содержащими «начальные правила политической экономии, основания технологии и коммерческой науки».
Одесская коммерческая гимназия имела в своем составе три отделения – приходское училище, уездное училище и собственно гимназию. В гимназическом отделении наряду с общеобразовательными предметами изучались коммерческая география, бухгалтерия, коммерция, «познание фабрик и товаров», история коммерции, коммерческое и морское законодательство. К сожалению, проект коммерческой гимназии в Одессе в полной мере не был реализован. Гимназическое отделение с преподаванием специальных дисциплин коммерческого цикла здесь было открыто только в 1817 году. Но уже на следующий год гимназия была преобразована в Ришельевский лицей – закрытое сословное среднее учебное заведение повышенного типа, готовившее чиновников для различных ведомств. В 1865 году по инициативе Н. И. Пирогова на основе лицея был открыт Новороссийский (Одесский) университет. Надо полагать, что Одесса была не единственным городом, где в начале XIX века открылась коммерческая гимназия. Есть сведения об открытии в 1806 году аналогичной гимназии в Таганроге [24]. По всей вероятности, коммерческие гимназии создавались и в других торговых и промышленных центрах Российской империи. Правительственный Устав учебных заведений, подведомственных университетам, как уже отмечалось, не препятствовал этому. Судьба таких гимназий во многом зависела от того, насколько местное купечество было в состоянии осознать необходимость специальной подготовки своих детей и оказать коммерческой школе необходимую материальную и моральную поддержку. Наряду с коммерческими гимназиями существовали и отдельные коммерческие классы при обычных гимназиях. На основании Устава в 1804 года класс коммерческих наук был открыт, например, при Смоленской гимназии [25].
В 1819 году циркуляром Министерства духовных дел и народного просвещения из числа учебных предметов, положенных по Уставу в гимназиях, были исключены начальный курс философии и изящных искусств, начальные основания политической экономии, «начальные основания наук, относящихся до торговли» и основания технологии. Вместо них вводились «чтения из евангелистов» и греческий язык (в дополнение к уже преподававшейся латыни). Передовая общественность страны расценивала это мероприятие как шаг назад в развитии отечественного среднего образования, как проявление реакции, связанное с созданием в Европе монархического Священного союза (1815), в котором Россия – победительница Наполеона занимала главенствующее положение. В договоре об учреждении Священного союза европейские монархи брали на себя обязательство бороться с вольнодумством и «основать народное воспитание на благочестии».
Утвержденный в 1820 году новый «Устав гимназий и училищ, состоящих в ведомстве университетов», подтвердил министерский циркуляр 1819 года, однако предоставил возможность открывать дополнительные курсы «для обучения тем искусствам и наукам, коих знание наиболее способствует успехам в оборотах торговли и в трудах промышленности» на базе уездных училищ, дававших неполное среднее образование. Среди этих предметов Устав называл: «1) Общие понятия об отечественных узаконениях, порядках и формах судопроизводства, особенно по делам, относящимся к торговле; 2) Основание коммерческих наук и бухгалтерии; 3) Основание механики с приложением оной к обыкновеннейшим искусствам, основания технологии, рисование, приспособление к искусствам и ремеслам и важнейшие правила архитектуры, особенно же все, принадлежащие к части каменного мастера; 4) Сельское хозяйство и садоводство» [26].