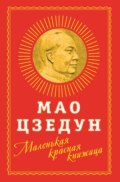Борис Кагарлицкий
Политология революции
Новая эпоха
Несомненно, по сравнению с ХХ веком, времена изменились. Изменились технологии, организация общества, его структура и состав. Изменились культурные условия. Капитализм развивается, сталкиваясь с кризисами и реорганизуя себя. Новая эпоха требует от левых очередного переосмысления своей роли в обществе. Политика и идеология левых должна быть направлена на то, чтобы способствовать интеграции мира труда. Надо выделить общие интересы и сформулировать общие требования. Речь идет не о механическом «авангардизме», подчиняющем «отсталые» слои целям и задачам «передовых». Напротив, речь идет о сложном поиске взаимопонимания, ибо социальный эгоизм «передового» слоя всегда бывает наказан.
Вопрос о политической гегемонии становится практическим вопросом социальной повседневности. Речь идет о том, что классовая политика необходима самим людям для того, чтобы понять собственное место в жизни, установить связи с другими людьми, найти себя в обществе. Эту работу, применительно к потребностям миллионов индустриальных пролетариев конца XIX века сделала старая социал-демократия. По отношению к новым пролетариям эта работа еще только должна быть сделана. Но для того, чтобы теория стала практикой, а благие пожелания – программой действий, вовлекающей миллионы людей, самим левым необходимо радикально изменить подход к политике и идеологии, сменив демагогически-утопические разглагольствования о «множествах» конкретным социальным анализом.
Революционные армии всегда учились сражаться уже на поле боя. Жесткая логика классовой борьбы не оставляет нам надежды, если мы будем полагать, что сначала будет достигнут массами нужный уровень массового сознания, а потом уже настанет время революционного действия. Нет, действие само по себе является важнейшим условиям «созревания» трудящихся, участие в борьбе превращает толпы в массы, а массу в класс. Задача левых состоит в том, чтобы придать протесту направленность, определенность, целесообразность и эффективность.
В начале XXI века мир труда не просто оказался «объективно» разобщен. Чтобы он стал единой социальной силой, нужна объединяющая политика и идеология, которые на протяжении 90-х годов левые, казалось бы, предложить не могли. А ведь искать далеко не было необходимости. Достаточно было бы вспомнить идеи классического марксизма, которые во времена глобализации ничуть не утратили своей актуальности.
Глава III
Можно ли обойтись без Маркса?
Не будет большим преувеличением сказать, что идеологическая жизнь большей части ХХ века прошла под знаком марксизма. Но после событий 1989—1991 годов марксистский социализм, еще недавно казавшийся столь реальной силой, вновь превратился в призрак. Если в 1970-е годы на Западе неомарксистская культура не только бурно развивалась, но и претендовала на идейную гегемонию в обществе, даже доминировала в среде интеллигенции, то к середине 1990-х она оказалась в глубочайшем кризисе.
Кризис марксизма начался еще до крушения советской системы. События 1989—1991 годов лишь закрепили и усилили тенденцию, наметившуюся гораздо раньше. Уже к концу 1970-х годов живые дискуссии сменяются более или менее однообразным повторением одних и тех же позиций. Один за другим уходят из жизни выдающиеся мыслители, властители дум «взбунтовавшегося поколения» 60-х годов – Герберт Маркузе, Эрих Фромм, Жан-Поль Сартр, Дьердь Лукач – и на их место не приходит никого, хоть сколько-нибудь способного заполнить образовавшийся вакуум.
Во второй половине 1980-х идейный кризис дополняется политическим. Интеллектуалы продолжают изучать вопросы теории на своих кафедрах, но это все меньше связано с общественной борьбой за дверями университетов. А сами университеты перестают быть ареной политических страстей. Крушение коммунистических режимов Восточной Европы, за которым следует триумфальная реставрация капитализма, наносит еще один удар по духовному миру левых. Ренегатство становится массовым. Вчерашние радикалы превращаются в карьеристов. История кажется, если и не оконченной, то остановившей свой бег.[99]
И все же, как отметил Жак Деррида в нашумевшей книге «Призраки Маркса», несмотря на постоянно повторяющиеся попытки окончательно похоронить автора «Коммунистического манифеста», несмотря на все усилия профессиональных заклинателей, «призрак коммунизма» не уходит. В 1848 году призрак коммунизма был страшен тем, что представлял не прошлое, а возможное будущее. На рубеже XX и XXI веков противники марксизма постоянно подчеркивают, что этот призрак принадлежит именно прошлому, и в то же время страшно боятся его возвращения в будущем, доказывая, что «нельзя допустить его реинкарнации».[100]
Ревизионизм
Это постоянное присутствие призрака особенно нервировало модных интеллектуалов из числа бывших марксистов. Энтони Гидденс в своих работах конца 1990-х годов констатирует «окончательную дискредитацию марксизма»[101], которая делает, по существу, ненужной любую дискуссию по этому поводу, но тот же Гидденс постоянно вынужден снова и снова возвращаться к марксистской традиции и объяснять преимущества предлагаемого им «радикального центризма» перед марксистскими взглядами на социализм.
В таком постоянном возвращении к вопросу о Марксе, сочетающемся со столь же неизменным напоминанием о том, что вопрос этот совершенно лишен актуальности, есть что-то фрейдистское. «вытесненное» возвращается из подсознания.
Стремление похоронить Маркса тем более естественно, чем более воззрения Маркса живы. Никто не стремится «похоронить Гегеля» или опровергнуть Вольтера, ибо и так понятно, что гегельянство и Вольтерьянство принадлежат прошлому. Идеи философов прошлого растворились в современных теориях. С Марксом этого не произошло. И не могло произойти, ибо общество, которое он анализировал, критиковал и мечтал изменить, по-прежнему живо. В этом смысле пророческими являются слова Сартра о том, что концом марксизма может быть лишь конец капитализма.
Более того, как отмечают многие западные авторы, благодаря глобализации идеи Маркса становятся только актуальнее. Разве не он писал об интернациональном характере капитализма и динамике его социального развития? во многом, его тексты выглядят в начале XXI столетия более актуальными и востребованными, нежели в 60-е или 70-е годы ХХ века. Цитата из «Коммунистического манифеста» была даже использована в одном из ежегодных докладов Мирового Банка, а 150-летие этого произведения дало толчок к широкой дискуссии об актуальности марксизма, причем не только в левых изданиях. Подводя итоги этой дискуссии, Американские историки Эрик Канепа и Виктор Уоллес пишут, что почти повсеместно отмечалась точность предсказаний, сделанных Марксом, предрекавшим глобализацию еще в середине XIX века. «Эти комментарии, точно так же как и новые издания «Манифеста», доказали, что Маркс актуален именно тем, что проанализировал природу капиталистической экспансии, повторяющихся технологических переворотов и не менее регулярно повторяющихся кризисов. Разумеется, это не все, что мы можем узнать из «Манифеста», но это наиболее важно с точки зрения сегодняшнего дня, и именно это сейчас получило признание – иногда восторженное, иногда вынужденное – за пределами среды, обычно интересующейся политикой».[102]
Возрождение интереса к марксизму было встречено одобрительно далеко не всеми, даже среди левых. Жесткие и категоричные выводы великого экономиста создают дискомфорт, они мешают проводить умеренную и гибкую политику. В конечном счете, они оборачиваются моральным осуждением тех, кто идет на компромисс с капиталистическим порядком. Потому стремление ревизовать марксизм возникает практически одновременно с парламентскими рабочими партиями.
Для того чтобы стать умеренным, социализм должен был пройти через ревизионизм. Ведь если марксизм принадлежит прошлому, значит, его жесткие выводы утратили моральное значение для современности. От исторического социализма остаются лишь общие «ценности», которые каждый волен трактовать по-своему.
Совершенно очевидно, что капитализм меняется, а потому бесполезно воевать с ним с помощью цитат из книг, написанных в прошлом веке. Ни умеренность, ни компромисс сами по себе не являются грехом. В конкретных политических условиях любая серьезная партия обречена на поиски компромиссов. Политика не может не учитывать соотношение сил. Но людям свойственно идеологизировать свою практику, превращать оправдание сегодняшних действий в идеологию будущего. А это значит, что неблагоприятная политическая конъюнктура превращается в идеальное состояние, вынужденное отступление – в мудрую стратегию, слабость – в доблесть. Там, где это произошло, поражение делается необратимым, тактическая слабость становится стратегическим бессилием, а целью движения вместо преобразования общества становится более успешное приспособление к нему.
Показательно, что термин «ревизионизм» восходит к лексике бухгалтерского учета. Речь идет не о переосмыслении или даже критике марксизма, а именно о механическом подсчете теоретической наличности, «активов» и «пассивов» учения, после чего некоторые сохранившиеся «ценности» можно использовать, а устаревшие идеологические продукты – списать в утиль. Подобная жесткость и «конкретность» подхода роднит ревизионистов с самыми отчаянными ортодоксами. Разница лишь в том, что последние цепляются за каждый идейный «предмет», доказывая, как некоторые пожилые хозяйки, что его обязательно нужно сохранить в доме «на всякий случай». А идеолог-ревизионист старается расчистить помещение и побыстрее выкинуть «лишнее».
Аналитический метод ревизионизма точнее всего можно было бы назвать описательным. Сопоставляя описание тех или иных социальных явлений в классическом марксизме с современной реальностью, они совершенно справедливо констатируют разницу. На этом исследование и заканчивается, ибо данное различие само по себе уже рассматривается как основание для отказа от выводов Маркса. Анализа в точном смысле слова здесь нет, он считается просто излишним. Беда в том, что реальность продолжает меняться. События и процессы, описанные ревизионистами, тоже уходят в прошлое, ставя под сомнения их выводы.
Исторически ревизионизм был важным этапом в развитии социалистической мысли. Ревизионистские заявления Эдуарда Бернштейна в начале XX века поставили под вопрос эпигонскую ортодоксию Карла Каутского и других учеников Энгельса[103]. Тем самым Бернштейн спровоцировал острую теоретическую дискуссию, конечным итогом которой были идеи Ленина, розы Люксембург, Троцкого, Грамши, Лукача. Все они вряд ли сформулировали бы свои взгляды, если бы ревизионистский вызов Бернштейна не подтолкнул революционное крыло социал-демократии к тому, чтобы выдвинуть собственную альтернативу – как ревизионизму Бернштейна, так и каутскианской ортодоксии. Периодически повторяющиеся дебаты об актуальности марксизма и очередные ревизии знаменуют начало очередного поворотного момента в истории социалистического движения и мысли. Они, бесспорно, свидетельствуют о кризисе марксизма или его господствующих интерпретаций (включая и ревизионистские).
Когда в середине 1980-х официальная советская наука отказалась от прежних ортодоксальных подходов, не было недостатка в авторах, попытавшихся суммировать и теоретически обосновать общие выводы ревизионизма. Так, Владислав Иноземцев пишет, что на Западе в течение XX века «кардинальным образом переродились внутренние основы общественного строя, причем иногда даже в большей степени, чем там, где пронеслись вихри революций и гражданских войн». По его словам, «после великой депрессии и второй мировой войны западные общества претерпели изменения, которые, будучи относительно малозаметными поверхностному наблюдателю, к середине 60-х годов вывели эти социумы за пределы капиталистического строя». Речь идет о переходном обществе, причем все дальнейшие изменения будут происходить «эволюционным образом»[104]. В ходе этой эволюции все цели прежнего марксистского социализма достигаются, но без потрясений, классовой борьбы, экспроприации и других неприятностей, хотя, конечно, не без социальных и политических конфликтов, возможность которых не отрицает даже самый умеренный автор.
Очень показательна эта отсылка к 1960-м годам в книге, вышедшей уже в 1990-е. Никакого анализа неолиберализма в ней нет, не найдем мы в ней и указаний на систематическое урезание социальных прав, начавшееся практически во всех западных демократиях. Нет и оценки того, как повлияла на западный мир реставрация капитализма в Восточной Европе. Хотя, казалось бы, автор, живущий в России, не мог подобных явлений не заметить. Здесь дело, однако, не в забывчивости, а в методологии. Подобная же аргументация, непременно отсылающая нас к послевоенной эпохе социал-демократических реформ, характерна и для других авторов. Главный редактор ведущего академического журнала «Полис» И.К. Пантин, признавая заслуги Маркса в истории общественной мысли, пишет: «Дальнейший ход истории показал, однако, что многие из проблем буржуазного общества, на которые указывал Маркс, стали решаться в процессе совершенствования капиталистического производства (повышение зарплаты, рост массового потребления, социальное законодательство, объединение капиталов и сил управления на национальном и межнациональном уровне, вмешательство государства в экономику и т. д. и т. п.). Все чаще приходится признавать, что марксистские каноны критики капитализма соответствуют скорее прошлому, чем настоящему, а тем более будущему».[105]
Реальные изменения, происходившие в буржуазном обществе 60-х годов, были восприняты ревизионистскими школами как конец традиционного капитализма. Кстати, сходным образом оценивал перемены в западных странах и Эдуард Бернштейн, хотя, к его чести, надо отметить, что он воздерживался от однозначных выводов, делавшихся последующими ревизионистскими школами. Увы, описывая «новую реальность», они не замечали, как она, в свою очередь, тоже устаревала. «Государство всеобщего благоденствия», «социальное государство» (Welfare State, Sozialstaat); в конце XX века – это уже термины, принадлежащие прошлому. В мировом масштабе восторжествовала не только идеология свободного предпринимательства, но и практика нелиберального капитализма.
«Социальное государство» в западных демократиях поэтапно сдавало свои позиции на протяжении 1980-х и 1990-х годов. Еще более масштабным было наступление капитала на права трудящихся в странах «периферии». Рыночный механизм все более освобождался от всякого государственного и интернационального регулирования, частная собственность утверждалась в качестве всеобщего и священного принципа. Другой вопрос, насколько эти перемены являются необратимыми и насколько провозглашаемая либеральной пропагандой идеальная модель свободного предпринимательства соответствует реальной практике позднего капитализма.
Технологически перемены породили не «экономику свободного творчества», а «экономику дешевой рабочей силы». Уровень эксплуатации вместо того, чтобы снизиться, повысился. Зависимость работников от администрации стала возрастать, а заработная плата падала не только в развивающихся странах и в бывших коммунистических государствах, но с середины 90-х – и в ряде западных стран.
На первых порах ревизионистские школы предпочитали игнорировать неолиберализм или представлять его как временное явление, лишь осложняющее общее гармоничное развитие общества. Но неолиберализм является вовсе не «зигзагом развития», не ошибкой политиков, а магистральным направлением эволюции капитализма. Суть его в том, что буржуазное общество уже не может позволить себе сохранять социальные достижения прошлых десятилетий. И хотя социал-демократы справедливо отмечали, что объем ресурсов, которыми общество располагает для решения своих социальных проблем, по сравнению с 60-ми значительно возрос, это не имеет никакого отношения к делу: становясь глобальной системой, капитализм неизбежно делается и жестче, и расточительнее.[106]
Принципиальное отличие правой волны 80-х и 90-х годов XX века от предшествующих наступлений (или контрнаступлений) консервативных сил состоит в том, что на сей раз, правые использовали лексику «прогресса» и «модернизации», ранее считавшуюся непременным атрибутом левой пропаганды.
«В социалистическом жаргоне термины “левый” и “прогрессивный” долгое время были синонимами», – пишет английский историк Уиллиам Томпсон. Идея прогресса доминировала в «модернистском» сознании, а идеология и практика левых воспринималась как наиболее последовательное выражение этой идеи. В результате «левые в широком смысле двигались в том же направлении, что и общий культурный поток – за исключением лишь периода подъема фашизма в 1933—1942 годах; правые, напротив, какие бы политические успехи они ни одерживали, находились как бы в постоянной обороне, а после 1945 года они даже стали действовать по принципу “не можешь их победить – присоединись к ним”. Идея о том, что история – на твоей стороне, относится к категории мифов, но показательно, что этот миф могло выработать лишь левое движение, а правым приходилось довольствоваться ностальгией»[107]. Все радикально изменилось в середине 1980-х годов. Буржуазия впервые с XIX века вновь обрела наступательную идеологию. Неолиберализм сумел представить себя как динамичную силу, способствующую модернизации, обвинив рабочее движение, левых и профсоюзы в консерватизме, косности, враждебности техническому прогрессу и стремлении пожертвовать будущим ради сегодняшнего благополучия и «привилегий». Парадоксальным образом, в то же самое время вера в прогресс сама по себе была поколеблена, причем не в последнюю очередь об этом позаботились сами левые. Экологическая, феминистская и постмодернистская критика господствующей идеологии была основана не на более радикальном прогрессизме, а на глубоком сомнении в прогрессе как таковом. Это было закономерным переосмыслением исторических итогов XIX—XX веков[108]. Но для левых подобная смена настроений в обществе оказалась катастрофической. «Подобная смена взглядов привела к падению главной идеологической цитадели левых, и это имело гораздо более тяжелые последствия, чем любые конкретные политические неудачи».[109]
Марксизм и рабочий класс
Как отмечают теоретики немецкой Партии демократического социализма, в 90-е годы ХХ века неолиберальной пропаганде удалось объявить препятствием для модернизации и прогресса именно те структуры и отношения, которые прежде считались главными признаками «цивилизованности» капитализма[110]. Такая подмена тезиса не может быть объяснена одними только идеологическими манипуляциями. Ведь ранее тезис о том, что «социальные реформы» качественно изменили природу капитализма, тоже с энтузиазмом был поддержан буржуазной пропагандой.
Дело в том, что период, который в марксистских категориях нельзя называть иначе, кроме как эпохой социальной реакции, был одновременно и временем бурного технологического развития. Подобная ситуация не уникальна. Первый и наиболее бурный этап индустриальной революции XIX века тоже пришелся именно на эпоху реакции. Период 1816—1848 годов был временем господства «Священного союза», подавления и дискредитации революционных и республиканских идей в Европе, но это же было временем массового внедрения паровой машины, строительства железных дорог, формирования промышленного пролетариата. После краха наполеоновской империи на политическом и идеологическом уровне буржуазно-демократические лозунги были отвергнуты обществом, традиционные элиты праздновали не только военную, но и моральную победу. Однако именно тогда закладывались предпосылки для нового революционного взрыва, потрясшего Европу в 1848—1849 годах.
Задним числом внедрение новой техники рассматривалось как важнейшее условие развития европейского рабочего движения. Но как ни парадоксально, первым социальным результатом индустриальной революции было резкое ослабление позиций рабочего класса. Американский экономист Фред Блок отмечает: «Квалифицированные ремесленные рабочие, такие, как лионские текстильщики или шеффилдские ножовщики, в доиндустриальный период обладали реальной возможностью контролировать производство, поскольку они обладали уникальными техническими знаниями, и их нельзя было заменить. Среди них господствовали отношения солидарности. Им приходилось сталкиваться с безработицей, когда в экономике наступал спад, но даже тогда они не соглашались на какую попало работу, зная, что с окончанием кризиса их квалификация и знания будут опять востребованы и достойно оплачены. Уровень профессионализма защищал их от рыночного принуждения»[111]. На этом основании Блок даже делает вывод о том, что переход к современной экономике мог базироваться не только на массовом производстве и неквалифицированном труде, типичном для второй половины XIX века, ибо существовал «альтернативный путь, основанный на развитии специализации и трудовой квалификации».[112]
Карл Маркс тоже отмечал исключительные социальные достижения английских рабочих накануне индустриальной революции, но, по его мнению, именно стремление предпринимателей освободиться от диктата работников и навязать им новые, более выгодные для капиталистов трудовые отношения было одним из стимулов для массового внедрения новых машин, индустриальной революции. Иными словами, успехи рабочих подтолкнули технологическое перевооружение промышленности, в результате которого европейский пролетариат потерпел историческое поражение. Другое дело, что эта технологическая революция, в свою очередь, спровоцировала социальные сдвиги, которые привели к появлению нового рабочего движения, бросившего еще более радикальный вызов буржуазии.
Социальным итогом индустриальной революции XIX века стало, с одной стороны, изменение ситуации в рядах самой буржуазии, когда рост промышленного капитала привел к новым требованиям радикального переустройства общества. А с другой стороны, эта буржуазия вскоре оказалась под сильнейшим давлением со стороны формирующегося и обретающего политическую организацию пролетариата. Это означало неизбежную радикализацию общества и конфронтацию с силами «старого порядка». Если в 20-е и 30-е годы XIX века идеи великой французской революции были дискредитированы трагической практикой «якобинского террора» и бонапартовской империи, то к 1840-м годам в Европе вновь наблюдается всеобщее увлечение якобинством, которое воспринимается уже не только как идеологическое оправдание гильотины, но и как первая, неудачная, попытка социального и политического освобождения. Марксизм появился на свет не просто как результат теоретических поисков Маркса и Энгельса, но и как отражение и осмысление этого процесса.
Начиная с конца 40-х годов XIX века, когда рабочее движение вновь окрепло и добилось серьезных успехов, когда на смену ремесленным гильдиям пришли современные тред-юнионы, а затем появились и первые социалистические партии, левые сформировали свою политическую традицию, культуру и мифологию. Как и всякая мифология, она основывалась на обобщении опыта реальной истории, но сам этот опыт был преобразован массовым сознанием. Во-первых, в среде левых установилось представление о почти механической связи между технологическим и социальным прогрессом. Во-вторых, социальный прогресс стал восприниматься как нечто неизбежное, необратимое и неудержимое.
Данные идеи никогда не были сформулированы самим Марксом, хотя его тексты дают возможность для подобной интерпретации. И все же Маркс, будучи не только учеником Гегеля, но и человеком, чья юность совпала с эпохой реакции, неоднократно напоминал и о трагических парадоксах прогресса и о неравномерности и противоречивости исторического развития. Все эти нюансы казались второстепенными новому поколению лидеров идеологов рабочего движения, чьи идеи сложились под влиянием успешного наступления левых сил во второй половине XIX века и позитивистского технологического оптимизма. Этот же комплекс идей и представлений господствовал среди левых до конца 80-х годов XX века.
Параллели между историей промышленной революции первой трети XIX века и технологической революцией, охватившей конец ХХ и первые годы XXI века, буквально лежат на поверхности.
Показательно, что ревизионисты 1980—1990-х годов недооценили значение и масштабы неолиберальной реакции так же, как ортодоксальные марксисты в 1960-е годы не желали видеть происходивших тогда перемен. Между тем события 1990-х показали, что глубинная природа капитализма, если и изменилась, то значительно меньше, чем хотелось умеренно-левым идеологам. А «новые явления», на которые они ссылались, были в значительной мере результатом классовой борьбы и противостояния двух систем, иными словами, были навязаны капитализму «извне».