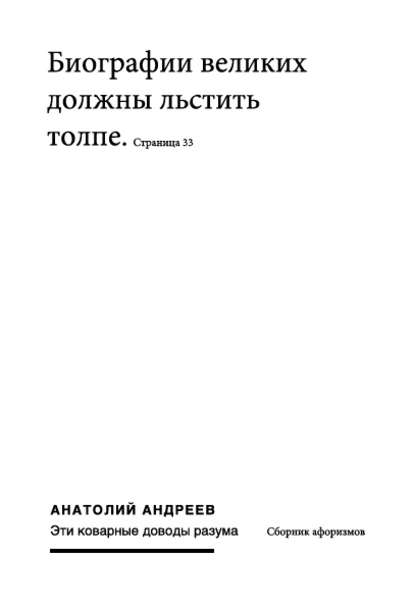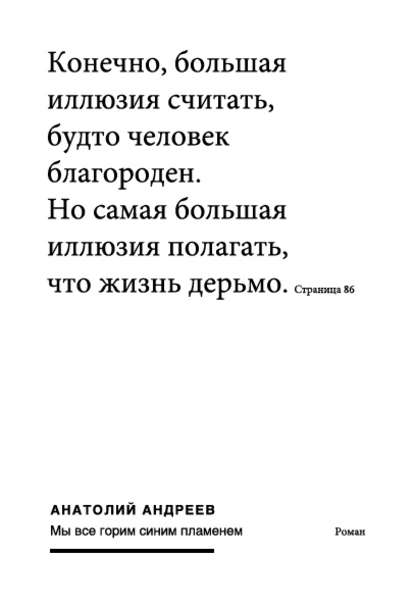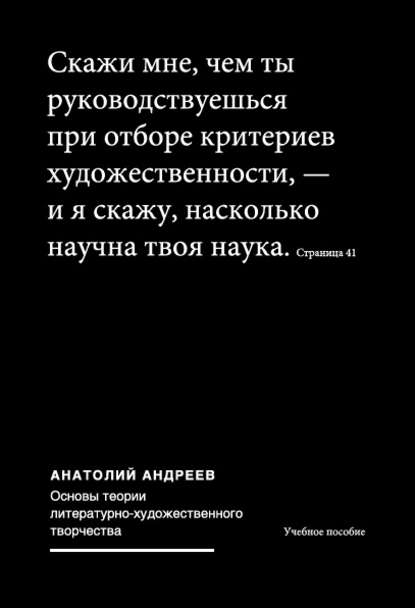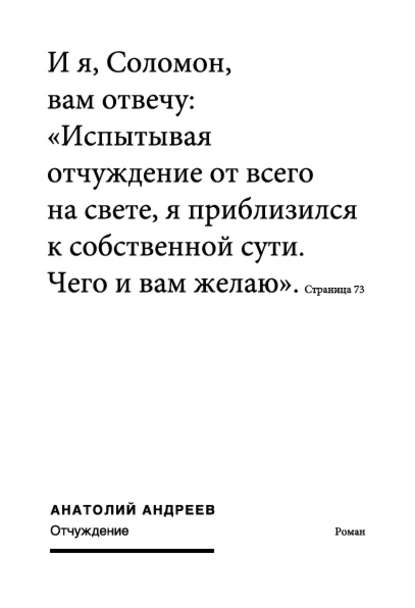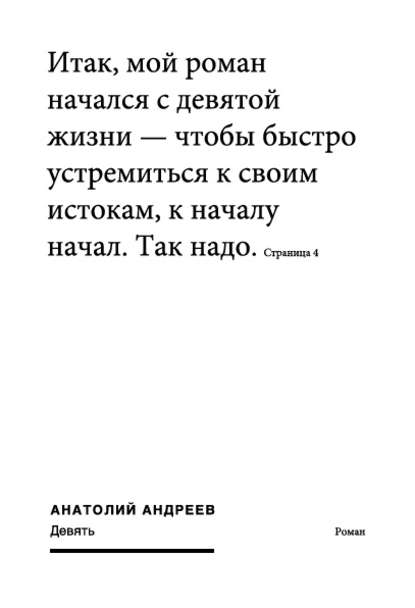
Полная версия:
Анатолий Николаевич Андреев Девять
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Анатолий Андреев
Девять
Утопический роман об антиутопии
Посвящение:
Им, им!
Предостережение:
Этот роман более реалистичен, чем кажется на первый взгляд.
Пророчество
Кто знает, как оно будет…
Попытка Начала
1. Марсик был отчаянным котом.
Марсик падал с девятого этажа, побывал в пасти у туркменского волкодава, тонул, попал с Веней в аварию, его украли (увезли километров за сто, а он сумел вернуться), попался Вене под горячую руку (Веня не любит об этом вспоминать, ох, не любит), отравился свежей рыбой с Байкала. Семь. Что-то я упустил. Ах, да, его же несли топить, а я выпросил у прагматичного соседа живой комочек, попискивающий, как полая резиновая игрушка со свистком, и потом подарил Вене. Восемь.
Теперь он жил девятую жизнь.
2. Был у меня друг. Придурок редкостный. Звали его, впрочем, Филиппом.
Как-то раз пришел он к Васе Сахару.
3. У Алисы были рыжие глаза. Верите? Неправдоподобно?
Ладно, вру. Зеленые – больше устраивает?
На самом деле глаза были черт-знает-какие, практически – русые. Понимаю, что все на свете должно быть определенно, в том числе цвет глаз, но что поделаешь, если реальность срамит наши ожидания. Тем хуже для реальности?
4. Что я помню до того, как появился на свет белый?
Как ни парадоксально – ничего. Даже темноты – хоть глаз выколи – не помню, хотя она, несомненно, была, как же без нее там.
5. А где же в это время была моя гордость?
При мне. Как и моя слабость…
Вот со слабости все и началось.
6. За что бы я поставил памятник себе?
А ни за что. Просто так. Пусть стоит. Назло Алисе.
7. Потому что мне не понравилась его улыбка. Не понравилась – и все тут. Гадкая. До ушей. Больших. Наполовину закрытых волосами. Грязными. Которые он то и дело взрыхлял тонкими пальцами. С траурной каймой под ногтями. Тьфу три раза – не моя зараза…
8. Осень. Вечер. Прохладно.
На глазах созревает полная луна. Она в дымке – то ли прячется от любопытных взоров (которые сама же и притягивает), принимая очертания светлого облака, то ли кокетничает, размашисто прикрываясь белой газовой косыночкой.
Так или иначе, полная луна становится символом муторной мути, царящей в жизни вообще и на душе отдельно взятого меня.
Я забраковал все восемь вышеприведенных зачинов, каждый из которых щукой или раком, а то и вовсе лебедем белым тянул повествование в свою сторону. Остановился на девятом – том самом, который мне лично нравился меньше всего.
9. Прошло девять лет с того дивного дня девятого сентября одна тысяча девятьсот девяносто девятого года, когда будущее, казалось, не умещалось и в девяносто девять лет – настолько оно было обширным, без горизонта впереди, без облачка.
И вот прошло всего девять лет, в которые, казалось, уложилась целая жизнь, такая запутанная и противоречивая.
Нет, была в нем, в девятом, конечно, ложная традиционность. Было «нечто» с изюмом. Было. Зацепиться можно.
Однако мне не нравилось. Отчего же я начал с варианта № 9?
Назло себе. Вы ждали другого ответа? Менее банального? Или он, напротив, не устраивает вас своей оригинальностью?
На вас не угодишь. На вас на всех не угодишь.
Это мой мир, здесь все устроено по моим законам, которые, я так думаю, отражают законы космоса. Лабиринты скроены по моим, сиречь космическим, меркам и лекалам. По меркам ДК.
Итак, мой роман начался с девятой жизни – чтобы быстро устремиться к своим истокам, к началу начал. Так надо.
Впрочем, приступим.
9
9.1.Прошло 9 лет с того дивного дня 9 сентября 1999 года, когда будущее, казалось, не умещалось и в 99 лет – настолько оно было обширным, без горизонта впереди, без облачка.
И вот прошло всего девять лет, в которые, казалось, уложилась целая жизнь, такая запутанная и противоречивая.
Если начинать по порядку, придется стартовать ab ovo. От маковой росинки.
Для начала я бы задался риторическим вопросом: какой город сравнится с Минском?
Рим сравнится. Пожалуй, Осло. А также еще пара-тройка сотен градов всех частей света, абсолютно всех континентов, включая оба земных полушария.
Неужели Минск так плох и настолько типичен?
Что вы. Уймитесь. Хорош, чертовски привлекателен, и даже харизматичен – своим не определившимся характером. От него можно ожидать от «всего» – до «ничего», как от любого молодого честолюбивого организма. У него сразу девять жизней, и все протекают параллельно. Девятое чудо света.
Минск очень удобен для того, чтобы начать рассказ о молодом человеке. Молодость (возраст от двадцати семи до сорока пяти лет включительно) – это тоже девятое, даже дважды, а то и трижды, девятое чудо света; у нее сразу девять жизней, и все протекают параллельно. (Тут, правда, возникает проблема остальных восьми чудес света. А если пока что, временно, в этот момент наплевать на остальные? Плохо, согласен. Легкомысленно. Чудеса есть, а мы делаем вид, что их нет. Хорошо, будем возвращаться к вышеозначенным чудесам поочередно, на протяжении всего романа.)
В одну из жизней нашего города мы, пожалуй, слегка пожалуем.
Смотрим на календарь. Цифры расплываются. Еще раз вглядываемся – прилагая некоторые усилия. Девятое марта. 9. Кто бы сомневался.
Проблема в том, что вчера было восьмое марта. 1990 года. 8 Марта. Два сообщающихся кольца, сплетающихся в символ бесконечности, подозрительно напоминающий совершенную петлю, своей безысходностью способной впечатлить оптимиста любого калибра. Только длинной-длинной змее-анаконде дано изобразить восьмерку. Или клубку змей. 8. Международный женский день, напомню себе, придурку, который решил превратить его в день памяти мужчины. Так сказать, решил справить поминки по себе, ужасному.
Судя по всему, вечер, к сожалению, удался.
На этом вечере я встретил Алису, которую не видел года четыре («Три с половиной года», – уточнила она). И дико влюбился, как потом выяснилось.
С Алисой была Венера, с Венерой – некто Веня. Неизвестно было, кто он такой, но его хотелось называть просто «человек в штатском». То ли выправка его военно-спортивная (плотный ежик на голове, властный взгляд) не гармонировала с гражданским платьем, то ли было оно чересчур модным и экстравагантным, то ли не умел он его еще носить, чувствовал себя в нем скованно, в том числе и потому, что давила на него необходимость одеваться именно так, по статусу, – так или иначе все обращали внимание на его вызывающе дорогой костюм, сидевший на нем хорошо и ладненько, но как на породистой корове великолепное седло. Сложно было представить его развязно и расслабленно танцующим (набитые тугие мышцы, как в комиксах, делали его персонажем техно мультика) – так он и не танцевал. Стоял и попивал…
– Что вы пьете? – спросил я из чистого любопытства.
– Водку, – ответил он нехотя глухим баритоном.
– А закусь?
– Я не закусываю. И не запиваю.
– Круто, – сказал я.
– Мне по х…, – ответил он.
– Круто, – сказал я.
– А ты, видно, интеллигент?
– Вроде того.
– И что пьешь?
– Водку. Только я ее запиваю соком. Или минералкой. В общем, чем придется.
– Тьфу, – сделал он прямо перед собой. И замолчал.
– Ты с Венерой? – спросил я.
– Я с какой-то телкой. Вот вы…бу ее – спрошу как зовут. Это мой принцип. Еще вопросы есть?
– Да я и не задавал вопросов. Так, пытался пообщаться.
– Зачем?
– Не знаю. Я себе такой вопрос не задавал. А зачем люди общаются?
– А они не общаются. У них одно бабло на уме. Одни бабла просят. Другие молча зарабатывают, то есть, отбирают у тех, кто просит. Кто на что учился.
– И все?
– И все. А разве есть еще мотивы для общения?
– Упс, – сказал я. – Пожалуй, я выпью. И непременно запью.
Вот этот диалог я помню отчетливо, хотя тысячи других диалогов, куда более содержательных, произошедших с куда более интересными собеседниками, мною забыты начисто.
Потом я целовался с Алисой – и вспоминал четырехлетней давности вкус ее губ – миндаль с ананасом (какие-то датчики или рецепторы в моем внутреннем хозяйстве записали эту пикантную информацию и подсунули ее мне в нужное время; а если бы я не целовал Алису 8 Марта 1986 года… Или все же 8 сентября 1987? Неужели это называлось бы «забыл навсегда»? Странно это все…) Это я тоже помню. А вот когда я отключился окончательно…
Не помню.
Зато я помню, что я периодически «включался» и появлялся на публике как ни в чем не бывало. Несколько раз за вечер. Никто, кажется, за исключением, естественно, Алисы, даже не заподозрил, что я крупно перебирал время от времени.
Пока я сосредоточился на миндале с ананасом, к моим губам подкатила горькая слеза. То плакала Алиса. Я хотел спросить: «Алиса, почему ты плачешь?», но вместо этого стал по-дурацки слизывать все ее слезы, как преданный пёс. А она, чтобы не оставить меня без работы, накапала целое озеро слез. Не прятала лицо и не закрывала глаза – просто стояла и молча плакала. А я, как Барбос, работал языком.
Наконец, я спросил: «Что случилось»?
Случилось непоправимое…
И Алиса рассказала мне, что случилось. Непоправимое – как раз то самое слово. После этого я и отключился в первый раз – с помощью водки без запивона, как и следует истинному мачо.
Чтобы понять, почему мы с Алисой так расстроились, необходимо вернуться на четыре год назад – в тот день, когда мы и познакомились. Ведь это было именно 8 марта, как можно забыть. Но почему Алиса бросила вскользь «три с половиной года»?
Непонятно…
Было чертовски мило и приятно. На ней было открытое платье (жемчужного цвета) на бретельках, ее глаза блестели таким глубоким праздничным блеском (было видно, что она по возрасту счастлива в свои восемнадцать), что отражаться в них тоже было счастьем. Завтра она улетала в Америку учиться любимому дизайну (а у нее столько идей! она же покорит их всех, славных заморских жителей, цветных и разных, но милых, милых, не замечающих плена родных эмигрантских традиций! она заставит их смотреть на мир другими глазами!). Кажется, была немного, удивительно легко и счастливо, влюблена – кажется, в забавного Платона, чуточку в себе неуверенного, но, судя по всему, основательного: приятно, когда он делает вид, что как бы мимолетно ухаживает за ней, а сам не сводит с нее глаз (голубых!), старается угадать ее малейшие и такие невинные желания – наверное, еще не решил, стоит ли в нее влюбляться; приятно, когда на него смотрят другие девочки, а она, Алиса, даже пальцем не шевелит, чтобы получить то, что хочет.
Прелесть! Все впереди! Так и должно быть! Навсегда!
Сегодня вечером это волнующее чувство настолько кстати, так мило, а завтра, увы, оно обратится в милое воспоминание – и тоже очень кстати (и никаких «увы»!). Она же помнит детство: светлая сказка про неуклюжего жука скарабея, который, выполнив свою миссию на земле, расправляет крылья и улетает к бесконечным далям, возвращается на небо к тем истокам, которые породили его (спасибо, мама, и папа, и бабушка, бабушка!), но никакого желания вернуться в теплый плюшевый мир Алиса не испытывает. У нее одно желание: вверх, в небеса, сквозь голубой океан, к чему-то действительно ужасно прекрасному.
И Платон ее забудет – и отлично: зачем же портить жизнь хорошего человека с голубыми глазами?
Нет, пожалуй, она бы не отказалась стать для него приятным, отчасти волшебным воспоминанием, возможно, светлой печалью (ведь не каждый день ему будут встречаться такие девушки, как Алиса, – красивые, порядочные, притягивающие к себе счастье и удачу!), но не более того. Нет, не более.
А вот и первый поцелуй, можно сказать, на виду у всех – и где же тут дорога в бездну, которой все так пугают и потому только завлекают? Так себе. Приятно, пожалуй. Но как-то очень физиологично. Много чужих запахов. Много… влаги. Скользкий язык. С Платошей губы в губы еще куда ни шло (а ведь он не умеет, не умеет!), но вот целоваться с другими…
Бр-р-р.
Тело другого человека подпускать к своему – это целое испытание. Его горячая, ищущая (сразу не поняла) ладонь на обнаженном плече, потом на талии, опять на плече, потом, по какому-то тайному, не вполне целомудренному соглашению, тяжелеющая ладонь скользнула ниже талии…
Нет, дружок. Нет, нет и нет. Это просто невозможно. Наверное, она еще не готова. Пусть это будет в другой жизни, если без этого никак не обойтись.
Тогда еще не казалось, что жизнь преподносит дары, которые обязывают, – счастливой было быть не страшно, от этого спасало легкомыслие.
Такой я ее и запомнил: трогательная округлая девичья полнота (и при этом сочная стройность тростинки), пухлые губы, блеск в глазах и взгляд за океан сквозь меня. Она потому и позволила поцеловать себя, что в упор не видела меня, Платона. Это был символический поцелуй – привет тому, еще не найденному ею Мужчине. И его роль покорно исполнил я.
Что ж, мне было это не сложно: я ведь тоже прикасался губами не к Алисе, а к моей Мечте.
Но расставаться не хотелось.
– Что это у тебя за брошь? – спросил я, чтобы как можно дольше продлить мгновение.
– Это серебряный скарабей. Можно, я подарю его тебе на память? На память именно об этом времени. Вот, возьми. Это мой талисман. Он принесет тебе счастье.
– Спасибо. А удачу принесет?
– Счастье всегда приходит через удачу.
– На счастье – давай. Смотри, какая странная скатерть.
– Ты специально подозвал меня, чтобы обнять? Чем же скатерть странная?
– Мне кажется, она с автографом Пушкина.
– Александра Сергеевича?
– Да, того самого.
– А ты фантазер.
– «Сказку о мертвой царевне и восьми богатырях» помнишь, Алиса?
– Помню. Только сказка была о семи богатырях. Мне пора.
– Странно. Мне всегда казалось, что богатырей было побольше. А королевич Елисей разве не в счет?
– Мне правда пора, Платон…
– А какое у тебя любимое число?
Потом потянулись спокойные, размеренные, почти унылые, если бы не молодость, годы – а поцелуй все не забывался. Временами мне казалось, что поцелуй предназначался мне, именно мне, Платону, – и было так стыдно, когда я представлял, что об этих моих тайных мыслях может узнать Алиса. Ведь в моих мечтах было что-то от слабости: я не мог найти себе девушку по сердцу, вот и выдумывал себе прекрасную, скорее всего, несуществующую, Алису. Если она узнает об этом, то поймет, что я слабак и неудачник. Ничтожество. Вот почему я тщательно скрывал (в том числе и от самого себя) то, что казалось мне самой большой моей слабостью.
А теперь вернемся в 8 марта 1990. Алиса плакала, я ее целовал. И потом спросил:
– Что случилось?
В моем вопросе была логика: зачем же плакать, если ничего не случилось, верно?
Она плакала так горестно, что мне пришлось повторить вопрос:
– Что случилось, Алиса?
На первый взгляд, ничего особенного: она вышла замуж. Это естественно. Нормально для девушки её лет, почему же «непоправимо». Девушка созрела, ей пора. Тоже логично.
Но я вместо того, чтобы поздравить свою милую приятельницу, выпил бокал, до краев наполненный водкой (рука не дрогнула), – и отключился.
Наверное, пока я находился в забытьи, я думал о чем-то или что-то соображал, не исключено, что строил какие-то планы. У меня есть основания это предполагать, ибо первое, что я сделал, когда пришел в себя, нашел танцующую танго Алису (она уже безоблачно смеялась: «если допустить, что на душе у неё кошки скребли, то это признак характера», – пронеслось где-то в самой глубине моего измученного сознания) и спросил у нее (оттеснив какого-то кривляку в бабочке, изображавшего ее партнера):
– Если я правильно понял, ты меня любишь?
– Да, – сказала Алиса, не переставая улыбаться. Но в глазах ее уже не было и тени того блеска, отражавшего уверенность в неизбежном счастье.
– Ага, – сказал я и, забыв об учтивости, направился к столу, где, помнится, водки было в изобилии. Как и бокалов. Потом вспомнил об учтивости, вернулся к ней, отодвинул кривляку взглядом и просипел, так энергично кивнув при этом головой, словно мне её срубили:
– Спасибо.
И только после этого опрокинул в себя бокал – лихо, в два глотка – под аплодисменты какого-то дебила. Кажется, он сделал то же самое. Так, за компанию.
Я отключился во второй раз.
Придя в сознание, я обнаружил себя сидящим на диване в задумчивой позе (подходили знакомые, мы шутили – они обращались ко мне как к субъекту вполне вменяемому, и это дало мне основании полагать, что никто не замечает, что со мной происходит; много позже я пойму: всем на всех в этом мире просто наплевать). Я размышлял о чем-то, связанном с Алисой. Скорее всего, о том, стоит ли поздравлять ее с замужеством. И если стоит, то в какой форме.
Кроме того, меня слегка мучило любопытство: дело в том, что на моем правом мизинце я обнаружил увесистый перстень, излучавший тяжелый синий цвет. При этом сложно сказать, женский это был перстень или мужской. Как он оказался на моей руке? Чьи это шутки?
Наверное, сейчас кто-нибудь подойдет ко мне, и все объяснится само собой. Наверное, это намек на то, что не стоит так много пить. Посмеемся вместе. Именно поэтому любопытство мое было легким: я почти не удивлялся тому обстоятельству, что неизвестно как стал обладателем великолепного перстня, играющего живой синей искрой.
И тут ко мне подошла Алиса и спросила:
– А ты? Разве ты еще не женат?
Я молча показал ей перстень.
– Красивый, – сказала она. – Только тебе не идет.
– Я женюсь на следующей неделе, – неожиданно для самого себя ответил я. И твёрдо посмотрел ей в глаза. – На ней, вон на той девушке в белом, – я махнул в сторону танцующих, где, вероятно, могла быть и та, которая уже не раз делала мне предложение стать моей верной женой. Главное – верной.
– Понятно, – сказала Алиса. – Но ведь ты меня любишь?
– Не вижу связи между моей счастливой женитьбой и предполагаемой любовью к тебе.
– Значит, любишь, – сказала Алиса.
– Я любил тебя четыре года, – зачем-то выдал я свою самую большую тайну, – а сейчас торжественно объявляю: с этого вечера с любовью покончено. Ее не существует. Это выдумка. Возьми своего скарабея назад. Он честно просидел на мне четыре года и… В общем, он не выполнил своей миссии.
– А я именно этим вечером поняла, что любовь существует.
– Мы с тобой живём на разных планетах.
– Но в одном времени, не говоря уже о пространстве, и в одной системе. Солнечной. Всё можно изменить. А подарки назад не возвращают. Скарабей будет хранить тебя. Он вытащит тебя из любой трясины, он воскресит тебя и поможет победить.
– Ж-ж-ж-ж, – сказал я и молча поклонился в знак того, что каждый имеет право на свои собственные мифы и заблуждения (в тот вечер меня что-то так и тянуло поклониться Алисе; я кланялся непринужденно, как шут, – но ведь кланялся же!). И слабости. И ошибки. В мои, например, ближайшие планы входило то, о чем я, вероятно, в скором времени пожалею, а именно: водка – бокал – забытьё. Ж-ж-ж-ж…
Каждый имеет право быть самим собой.
Каждый имеет право пытаться скрыть от себя своё истинное лицо.
К сожалению, и в третий раз я отключился не окончательно (вопреки всем сказочным требованиям к повороту сюжета). И тому есть веские доказательства: через месяц я женился. Следовательно, я успел в тот чертов вечер сделать предложение своей будущей верной жене. Видимо, она все же танцевала в той веселящейся стае.
И, судя по всему, приняла мое предложение. Дьявол. Дьявол. Дьявол.
Кстати, перстень с моего пальца исчез. Как появился – так и исчез. Даже не смешно.
И ещё один штришок, незабываемый. Веня весь вечер маячил рядом со мной, на заднем плане; его кривая улыбка (плотоядная загогулина где-то поверх костюма) неизменно сопровождала мои выходки. Помню, когда мне становилось особенно плохо, я начинал злиться от отчаяния – но злился не вообще, а весьма избирательно: объектом моей злости становился почему-то Веня, словно именно он был причиной всех моих несчастий. Я даже запустил в него пустую бутылку из-под водки. Промахнулся. Попал в зеркало, а не в него.
«Клоун, бля, по жизни», – глухо звучало у меня над ухом осуждающим рефреном.
Вот что случилось в Минске в марте 1990 года.
Если кому-то покажется, что в этом происшествии не было ничего особенного, не было ничего такого, что могло бы заинтересовать умных и добрых людей, то он сильно заблуждается. Заметные события всегда начинаются с незаметных происшествий. Взрослая жизнь начинается с детства. Река начинается с ручейка – а потом её не удержать.
И Волга рано или поздно впадает в Каспийское море.
Всё происходит так, как и должно быть, хочу я сказать.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
1
1.1Марсик был отчаянным котом.
Марсик падал с девятого этажа, побывал в пасти у туркменского волкодава, тонул, попал с Веней в страшную аварию, его украли (увезли километров за сто, а он сумел вернуться), попался Вене под горячую руку (Веня, не любит об этом вспоминать, ох, не любит), отравился свежей рыбой с Байкала. Семь. Что-то я упустил. Ах, да, его же несли топить, а я выпросил у прагматичного соседа живой комочек, попискивающий, как полая резиновая игрушка со свистулькой, и потом подарил Вене. Восемь.
Теперь он жил девятую жизнь.
– Мар-рс, подь сюда, подлое животное, хромоногое и парнокопытное – рычал Веня, сидевший в своём рабочем кабинете за рабочим столом в чёрном японском халате с изображением золотого дракона на спине, но Марсик его нисколько не боялся. Он словно чувствовал, что не бояться Вени – в высшей степени прагматичная линия поведения, обеспечивающая ему уникальный статус: беззащитное существо, которое плевать хотело на всемогущего хозяина – это бесконечно умиляло Веню.
– Что позволено Марсу – не позволено никому… Можешь объяснить мне сей парадокс? – обратился ко мне Веня.
– Могу. Но тебе этого не понять.
– Ты полегче, полегче. Не надо со мной как с равным. Марс на этом свете один. Верно, крупнорогатое?
Марсик спрыгнул с колен повелителя, давая понять, что не расположен к нежностям.
– Вот сволочь, обожаю, – в глазах Вени холодной звездой блистала влага.
Я первый и последний раз в жизни видел в его стальных глазах подобие слезы.
– Иди сюда, жопа, таблеточку проглотил, пёс. Ну!
Тон Вени стал таким, что Марсик выскочил из-под стола и стал тереться о ноги хозяина.
– Препарат разрабатывали специально для этого Котофеича, ни один император в мире не может позволить себе такой роскоши, а мы вот даже спасибо не мяукнем…
Кот аккуратно, язычком взял таблетку в рот и пошел ее запивать – в углу стояла для него вода из специальной артезианской скважины.
Веня наслаждался зрелищем.
– Художественное творчество – продукт всего лишь удивительным образом настроенного, изменённого, если угодно, сознания, работающего под определенным психологическим углом или градусом, – продолжил я мысль, мощное течение которой было прервано появлением Марсика.
По остекленевшим глазам Вени можно было догадаться, что он послушно погружается в моделируемую мной реальность. Веня вот уже годами зачем-то держал меня при себе – словно шута, сиречь юродивого, или оракула; Марсик ведь не мог говорить, а я был говорящей игрушкой. И мои эпизодические утренние импровизации (после его обычных таблеток и процедур, за «голубым» кофе) были отчего-то необходимы Вене, хотя он и считал своим долгом время от времени ставить меня «на место».
Мы не говорили с ним об этом, но я чувствовал: от меня требовалось всякий раз удивлять Барона д`Огорода (это была кличка Вени, придуманная мной для внутреннего, то есть монологического употребления) – практически до изумления. До икоты. Это было залогом его интереса ко мне. Гарантией наших стабильных отношений, крайне мне выгодных, полезных и необходимых. И если я ощущал, что Веню «зацепили» мои мысли, я мог позволить себе не меньше, чем Марсик, – правда, ровно до того момента, пока он получал кайф от интеллектуального блуда или от перспектив, которыми я его завораживал (тоже ведь своего рода кайф). Я уже знал: в моем распоряжении было от получаса до сорока пяти минут. По истечении этого срока то ли действие таблеток прекращалось, то ли по каким-то еще причинам Барон д`Огород (кличка, глупее не придумаешь!) начинал нервничать, отвлекаться на пустое, как первоклассник, элементарно терять концентрацию – и я, после, желательно, ядерного резюме, удалялся с умным видом.