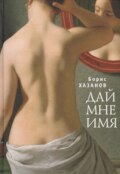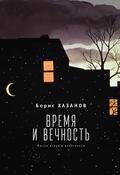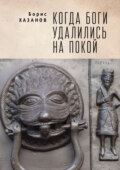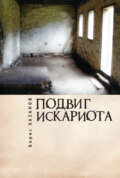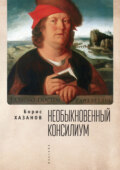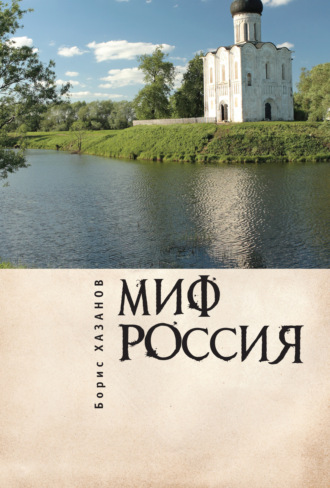
Борис Хазанов
Миф Россия. Очерки романтической политологии
Дело не в том, правильна или неправильна концепция революции, сочинённая Солженицыным. А в том, что ось, на которой вращается это колесо, точка зрения или обозрения, более или менее выдержанная во всех частях эпопеи, принадлежит сознанию, которое даже не догадывается, что сама эта точка отсчёта может быть релятивирована. Оно просто принимает себя за единственную и конечную истину. Банальность точки зрения – главная особенность этой прозы. Это взгляд усреднённого сознания, это его тривиальная правдивость – мир, видимый сквозь оконное стекло. Изменил искусству не потому, что выбрал не ту идеологию, какую надо, но прежде всего потому, что въехал в царство банальностей.
Банальность надо замаскировать вычурностью языка и т. п. И даже когда рассказ ведётся «глазами» Ленина, «глазами» императора, через восприятие Богрова и проч., – это всё та же беллетризация обыденного сознания. Оттого и воспринимается такой рассказ «через кого-то» как избитый литературный приём. Опасность литературщины тем больше, чем «ближе к жизни». Кажется, что писатель задаёт себе вопрос: а как бы я себя чувствовал на месте царя? Или на месте женщины, профессора Ольды Андозерской. А вот так: я бы подумала, какой интересный мужчина этот Воротынцев!
24
Гибель путников на мосту Людовика Святого. В 1714 году, в вице-королевстве Перу рухнул мост в горах, сплетённый инками из ветвей ивы; пять человек погибло. Одному монаху-францисканцу понадобилось выяснить, была ли их смерть нелепой случайностью или предуказана свыше. Либо наша жизнь случайна и наша смерть случайна, либо и в жизни, и в смерти нашей заложен План. Замысел брата Юнипера был расценён как посягательство на тайну неизъяснимых путей Господних. Его книга, свод документов о жизни и судьбе каждого из погибших, признана богохульной, еретик погиб на костре.
Да и самый роман Торнтона Уайлдера можно истолковать как религиозно-еретическую притчу; уж не списан ли он у брата Юнипера?
Будущее в каком-то смысле существует, будущее осуществляется, – есть ли идея более чарующая, гипнотизирующая? Судьба, учили древние, ведёт покорного и тащит упрямого. Латинское fatum – причастие от архаического глагола fari, «говорить», а также вещать и предрекать, в нём присутствует тот же индоевропейский корень, что и в русском «баять» (кот-баюн, басня, Баян). Судьба есть нечто (пред)сказанное. Судьбу прядут бессмертные старухи – римские парки и северные норны. Участь человека записана в древнееврейской Книге судеб, вырезана скандинавскими рунами на камне. Судьба есть суждение и суд.
Но! Стрелочник перевёл стрелку, и поезд послушно свернул на другой путь. И вот уже другой пейзаж бежит за окошком, другие станции, новые страны и города. Тот, кто, подобно историку, смотрит назад, видит много рельсовых путей, все они сходятся к одному единственному пути; но для того, кто смотрит вперёд, веер дорог не сужается, а раздвигается. Лишь одна из многих возможностей будет реализована. Однако и прошлое когда-то было будущим. Всякая жизнь есть всего лишь осуществившийся вариант. Подчас вероятность случиться тому, что не случилось, была ничуть не меньше того, что случилось. Так в старости женщина с сожалением вспоминает о претендентах на её руку, которым она отказала. Вместо этого вышла за какого-то сморчка.
Оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что она соткана из случайностей. Случайно встретились мои родители, чтобы полюбить друг друга. Могли не встретиться. Нечаянная удача или нечастный случай; цепь знакомств, нарвался на стукача, арест. Из пустяка, как из жолудя, растёт чудовищное древо.
Не было гвоздя – подкова упала,
Не было подковы – лошадь захромала…
У дверей в каждую новую эпоху жизни стоит подслеповатый привратник, называемый случаем, и. отовсюду нас обступает смерть. То, что мы ещё живы, следует приписать чуду; это чудо – всё тот же случай. Но когда потом вспоминаешь свой «путь», то подчас нелегко отделаться от впечатления, что тебя вела тайная рука.
Жизнь без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами сумрак неминучий
Иль ясность Болжьего лица.
Но ты, художник…
25
Антивремя. То, о чём говорилось в романе под этим названием, представляло собой чисто мифологическое построение. В нём была своя прелесть.
Давным-давно меня увлекала мысль связать воедино предопределение и непредсказуемость, План и Случай.
Я подумал, что две противоположности можно примирить, представив время в виде двух противонаправленных векторов. Можно рассматривать жизнь литературного героя не только с двух точек зрения (либо – либо), но и как бы с двух концов. Мы живём в двух временах, вернее, в точке пересечения двух времён. Одно течёт из прошлого в будущее – и представляет собой хаос случайностей. Другое несётся нам навстречу. Это время предназначения и смысла. Из будущего шествует предопределение. Навстречу ему катится безглазая случайность.
Если в космическом пространстве вы повстречаетесь с кораблём, идущим из отдалённых миров, и астронавт протянет вам левую руку, берегитесь! – возможно, он состоит из антивещества. Физика (это цитата из Фейнмановских лекций) смеётся над здравым смыслом. Пойдём ли мы ещё дальше и предположим, что и время астронавта – это антивремя?
Роман был отнят у меня при обыске и написан заново. Повествователь, единственный оставшийся в живых после всего, что происходило с ним и его друзьями, припоминает события, ему кажется, что так он сумеет преодолеть абсурд жизни, возвратить ей достоинство, цель и смысл.
Такова модель двунаправленного времени. Антивремя – это время Бога, для которого нет ничего бессмысленного, ибо его нет в настоящем, он всегда впереди – в будущем. Время течёт для него наоборот. Можно сказать, что мы живём в его памяти. Аналог божественного антивремени присутствует в нашем опыте: это – воспоминание, созерцание прошлого глазами того, кто знает будущее, обратное течение времени, превратившее хаос прожитой жизни в связный текст. Так писатель пребывает в будущем своих героев. В конечном счёте антивремя – это метафора литературы.
26
Бегство от истории в историю. Он ютится в Британской энциклопедии между Мьюзиелом и Муссолини. Статья об игроке в бейсбол Стэне Мьюзиеле занимает 28 строк. Статья о вожде итальянского народа Бенито Муссолини, при крайней сжатости изложения, – 480 строк: детство, юность, литературная, ораторская и политическая карьера, историческое значение, мировоззрение, семейная жизнь, не забыт и подхваченный в юные годы сифилис. Статья о Роберте Музиле состоит из одной фразы. Четыре строчки: имя автора, кто такой, даты жизни, название главной книги. Место литературы (М) в массовом обществе описывается уравнением: М = М (1): М (2), где М (1) – Музиль, а М (2) – Муссолини.
На вечер Музиля в Винтертуре, первый и последний, где автор читал отрывки из «Человека без свойств», пришло 15 слушателей. Весной 1942 года за его гробом шло пять человек. Адольф Фризе составил реестр: как отзывались о Музиле те, кто его знал. Сдержанный, холодный, надменный, замкнутый, рыцарственный, сама любезность, невероятное самомнение, сухой, как чиновник, ни разу не улыбнётся, офицерский тон, горд своим фронтовым прошлым, оч-чень интересная личность, малоприятный человек, выглядит безупречно, есть деньги или нет – костюм от лучшего портного, щёгольские туфли, считает себя недооценённым, падок на похвалы, держит всех на расстоянии и сам страдает от этого…
Однажды это холодное одиночество было нарушено, Музиль написал короткое обращение к собратьям по перу, под заголовком «Я больше не могу». Ледяным тоном, на изысканном немецком языке сообщается, что он погибает от нищеты, нечем платить за квартиру; нация равнодушна к своему писателю. К обращению приложено «Завещание». Существует четыре варианта. Он работал над этим криком о помощи, как работают над прозой, – под его пером всё становилось литературой. Воззвание осталось в бумагах. Четыре редакции представляют собой не столько ступени совершенствования стиля, сколько реализацию разных возможностей, заложенных в тексте, – писание в разные стороны. Возможно, здесь кроется один из секретов этого творчества, а может быть, и секрет этого человека.
Античный анекдот об умельце, который записал всю «Илиаду» на пшеничном зерне: изделие было показано Александру Македонскому, в награду царь распорядился выдать мастеру мешок зерна, «с тем, чтобы он и впредь мог упражняться в своём замечательном искусстве».
В Вене в 30-х годах состоятельные господа – несколько человек – согласились выплачивать автору «Человека без свойств» ежемесячное пособие, чтобы он и дальше упражнялся в своём искусстве – завершил гигантский роман. Это было «Общество Роберта Музиля». Сам писатель считал, что оказывает меценатам честь, позволяя им содержать Музиля, и проверял, все ли аккуратно платят взносы.
Достоинство писателя состоит не в том, чтобы жить в истории, но в том, чтобы противостоять истории; очевидно, что это означает жить в своём времени и вопреки ему. Всякий литературный текст «актуален», тем не менее литература и общественность – понятия, связанные скорее обратной зависимостью: чем литература актуальней, тем она меньше литература. Несколько великих исключений, Аристофан или «Бесы», лишь подтверждают правило; при ближайшем рассмотрении исключения оказываются мнимыми; злоба дня переселяется в комментарий – кладбище злободневности; то, что некогда было животрепещущим, в глазах потомков всего лишь повод для чего-то бесконечно более важного. Жизнь неизменно отвечает ангажированной литературе чёрной неблагодарностью: литература, которая хочет говорить лишь о жгучем и наболевшем, оказывается банальной, то есть художественно устарелой. Быть своевременным в литературе – совсем не то, что быть современным, и чем стремительней уносится время, чем быстрее вянет злоба дня, тем печальней участь этой литературы.
Речь Музиля на просоветском и прокоммунистическом конгрессе писателей в защиту культуры в Париже в 1935 г. никак не соответствовала настроению публики и тех, кто сидел в президиуме. (Эренбург, упомянувший в своих мемуарах множество участников, Музиля не заметил.)
Я всю жизнь держался в стороне от политики, так как не чувствую к ней никакого призвания. Упрёк в том, что никто не вправе уклоняться от политики, ибо она касается каждого, мне непонятен. Гигиена тоже касается всех, и всё же я никогда не высказывался о ней публично. У меня нет призвания быть гигиенистом, так же как нет таланта руководить экономикой или заниматься геологией. Политики склонны рассматривать достижения культуры как свою естественную добычу, вроде того, как женщины раньше доставались победителям. Я же, со своей стороны, полагаю, что роскошной культуре подобает женское искусство защищать себя и своё достоинство. Культура предполагает непрерывность и пиетет даже перед тем, с чем борются. Кроме того, можно твёрдо сказать, что культура всегда была сверхнациональна. Но даже если бы она не обладала качеством наднациональности, она и внутри собственного народа всегда была бы чем-то таким, что живёт над временем, служила мостом над эпохой провала и соединяла бы живущих с далёким прошлым. Отсюда следует, что тому, кто служит культуре, не положено отождествлять себя без остатка с сегодняшним состоянием его национальной культуры. Культура – не эстафета, передаваемая из рук в руки, как это представляют себе традиционалисты; дело обстоит куда сложнее: творческие умы не столько продолжают культуру как нечто идущее к нам из мглы времён и из других стран, сколько видят в ней нечто такое, что заново рождается в них самих.
После аншлюса Общество Роберта Музиля распалось, жертвователи были евреи, им пришлось уехать. Да и сам Музиль был женат на еврейке.
Марта и Роберт едут в Италию, вроде бы в отпуск, возвращаются – но не домой, а в Цюрих; это уже эмиграция. Оттуда перебираются в Женеву, в две комнатки на шестом этаже на rue de Lausanne; вещи, книги – всё осталось в Вене, дом погибнет в конце войны. Музилю остаётся жить 2 года 10 месяцев. В эти тысячу дней происходит последняя схватка с Минотавром, – грандиозный замысел давно уже существует сам по себе и диктует автору свои условия; исход единоборства – ничья. Или – оба убиты.
27
Письма с улицы Chemin de Clochette. Супруги кочуют, одно время живут за городом, под конец посчастливилось найти в квартале вилл отдельный домик. Полиция интересуется, когда, наконец, немецкая чета покинет страну: Швейцария может быть только транзитной страной для эмигрантов, особенно – беглецов из Германской империи, с которой лучше не ссориться. Но у Муз ил ей нет официального статуса беженцев, неопределённость тянется до тех пор, пока пастору Лежёну не удаётся выхлопотать отсрочку.
Знакомых нет, немецкие эмигранты кто во Франции, кто в Америке, все разъехались (пишет Марта Музиль подруге), моя дочь в Филадельфии, мой сын в Риме, а мой гениальный супруг – в стране по имени Утопия.
Музиль – Лежёну:
Вообразите буйвола, у которого на месте рогов выросло другое придаточное образование кожи, а именно, две смехотворные мозоли. Вот это самое существо с огромной головой, некогда оснащённой грозным вооружением, от которого остались только мозоли, – и есть человек, живущий в изгнании. Если он бывший король, он говорит о короне, которая была у него когда-то, и люди вокруг думают: небось не корона, а шляпа. В конце концов он и сам начинает сомневаться и не уверен даже, осталась ли у него вообще голова на плечах…
Между тем начинается война, речи и конгрессы – всё валится в тартарары, вся шумная деятельность предвоенных лет оказалась абсолютно бесплодной; два могущественных соседа делят Польшу, Франция побеждена и выходит из игры, идёт воздушная битва за Великобританию, СССР продолжает раздвигать свои границы, корпус Роммеля теснит англичан в Африке, Рузвельт и Черчилль провозглашают Атлантическую хартию. Наконец, вермахт вторгается в Россию, а японцы бомбардируют Перл-Харбор.
Он сидит над своим романом. Действие происходит до первой Мировой войны, гротескная Какания – глубокая древность. Кого может заинтересовать такая книга? Призрачный роман, как река в пустыне. После того, как Ровольт выпустил в 1930 г. первый том, а в 1932 – второй, дело застопорилось; издатель нервничает, время идёт, имя Роберта Муз иля отодвигается в прошлое. Разве он ещё жив? Новый издатель готовит к печати продолжение, двадцать глав, готов платить вперёд, но гранки, высланные автору для вычитки, так и не возвращаются в типографию: писатель считает, что всё надо переписывать заново. Музиль сравнивает себя с человеком, который хочет зашнуровать футбольный мяч размером больше его самого, пытается вскарабкаться на его поверхность, мяч всё раздувается; главы без конца переписываются, ворох бумаг не помещается на столе. К этому времени его произведения уже запрещены на территории рейха, но и без того он забыт, погребён под своим чудовищным романом.
Догадки, почему не удалось закончить «Человека без свойств», сами по себе образуют поле возможностей, аналогичное пространству самой книги. Лёжа в саду, Ульрих и Агата ведут нескончаемые разговоры – и ничего не происходит.
Однажды, это было в декабре 1939 г., Музиль прочёл газетный отчёт о гастролях танцевального ансамбля с острова Бали. Под стук барабана плясуны впадают в транс. Они испускают хриплые крики, взгляд застывает, нижняя часть тела сотрясается в конвульсиях. Сходство с половым актом выступает ещё сильней, когда смотришь на выражение лиц… Транс принадлежит к области магии, магического воздействия на реальный мир. Коитус – то, что осталось у нас от транса. Понятно, что Агата и Ульрих не хотят соединиться… Западный человек не может примириться с потерей самоконтроля.
«Иное Состояние», der Andere Zustand, к которому стремятся брат и сестра, не допускает утраты собственного «я». Снять извечное противоречие между рациональным и иррациональным! Личность не может быть принесена в жертву экстазу. Пускай же экстаз сомкнётся с бодрствующим сознанием.
28
Невозмутимость, с которой покидают сцену. Из записей последних лет: То, что в этих разговорах так много приходится распространяться о любви, имеет тот основной недостаток, что вторая жизненная опора, второй столп – злое, страстное начало, начало вожделения, – проявляет себя так слабо и с таким запозданием! Просчёт состоял в переоценке теории. Она не выдержала нагрузки; во всяком случае, оказалась не столь важной, какой представлялась до осуществления задуманного. Я давно уже это понял, теперь приходится расплачиваться. Вывод: не отождествляй себя с теорией. Отнесись к ней реалистически (повествовательно). Не изобретай теорию невозможного, но взирай на происходящее и не питай честолюбивой уверенности, будто ты владеешь всей полнотой познания.
«Теория» – это система внутрироманных оценок, сложный комментарий к «происходящему», который внешне приписан главному герою, но очевидным образом переступает за его горизонт; ведь и сам рефлектирующий герой становится в свою очередь объектом рефлексии. Это и есть расползание героя, вследствие которого он превращается в сверхперсонаж и не-персонаж, – ещё немного, и он возьмёт на себя функции всевидящего богоподобного автора. Но при такой нагрузке герою некогда жить. Вместо того, чтобы любить, страдать и, может быть, застрелиться, он без конца рассуждает о страсти и вожделении. Комментаторы говорят о крушении утопии, о неосуществимости Иного Состояния, но не есть ли странная неудача несостоявшихся любовников следствие несостоятельности самой концепции повествования? Роман, как блуждающая река, затерялся в песках.
И всё-таки. В романном пространстве всё становится художеством. Не зря у писателя возникает чувство, что книга сама диктует ему условия. Если есть ощущение, что автор, подобно своим героям, находится внутри романного пространства, значит, победило искусство. Если этого не произошло, роман разваливается. И снова: Отнесись к теории реалистически. Это значит: не превращай её в нечто привнесённое извне, нечто самодовлеющее. Не используй роман как средство для деклараций или как выставку эрудиции. Не пытайся выдать свои размышления за безусловную истину, искусство – это истина, которая не знает о том, что она – истина. Не поучай читателя…
«Теория» – это тоже «жизнь»; это часть повествования. Это тоже художество. Всего лишь художество: не больше и не меньше. Это тоже «искусство для искусства», потому что искусство подчиняет себе всё – или уходит.
Всё в жизни Человека без свойств остаётся возможностью, пробой, экспериментом, в том числе самый грандиозный опыт – попытка достичь экстаза, не покидая царство разума. Загадочное «иное состояние», taghelle Mystik — мистика при свете дня, – слияние с другой душой, нечто вроде бесконечно длящегося соития, но не в первобытноварварском помрачении сознания и не в вагнеровской ночи, а под полуденным солнцем, при свете бодрствующего ума. Другая душа – сестра-близнец Агата, которую Ульрих, оставив гротескную общественную деятельность, повстречал в доме почившего отца. Глава 45 второго тома начинается с сообщения о то, что «невозможное», почти физически овеявшее Ульриха и Агату, повторилось, und es geschah wahrlich, ohne daB irgendlei geschah. И воистину это случилось, хотя ничего такого не случилось. Инцест растворился в бесконечном незавершённом сближении, в разговорах, в томительном бездействии летнего дня. Atemziige eines Sommertags, Вздохи летнего дня. Над этой главой писатель сидел с утра 15 апреля 1942 г., в двадцать минут десятого зарегистрировал в тетрадке, заведённой по совету врача, первую сигарету, в одиннадцать часов – вторую. В час дня, собираясь принять ванну перед обедом, он умер.
29
Вот-вот проскочит искра. Эта глава 11:45, где что-то случилось и не случилось, снабжена интригующим заголовком: Начало целого ряда удивительных переживаний. Переживаний (Erlebnisse) или реальных событий?
В любви, как и в художественной прозе, летучая реплика, мимолётный взгляд, движение бровей многозначительны, тончайшие переживания становятся событиями, к ним возвращаются, над ними ломают голову, их невозможно забыть.
Близнецы собираются на званый вечер, прислуга ушла, и некому помочь переодеться Агате. Они остались одни в доме. С этой минуты начинает что-то меняться, сгущаться. Так растёт напряжение электромагнитного поля.
Они опаздывают.
Всё ещё разбросаны там и сям военные украшения, которыми женщина оснащается перед выездом в свет. Поставив высоко открытую ногу на стул, она натягивает шёлковый чулок. Она вся поглощена этим занятием. Ульрих, уже одетый, стоит за спиной Агаты.
Он смотрит на её полуобнажённую спину. Желая убедиться, что чулок правильно обхватил пятку, она склоняет голову вбок, отчего появляются лёгкие складки на её нежном затылке. Видение женщины, её гипнотизирующая телесность пронизывает мужчину, прежде чем он успевает что-либо предпринять, – и вот это происходит. Он обхватывает сзади Агату.
Она вскрикивает и оборачивается – то ли самопроизвольно, то ли оттого, что он рывком привлекает её к себе. Всё совершается не то в шутку, не то всерьёз, намеренно, но и спонтанно. Любовниками, которые ими ещё не стали, владеет бессознательная целеустремлённость. И вот они стоят молча, тесно обнявшись, – близнецы, они как бы растут из единого корня. И далее следуют пространные размышления автора, который, оставаясь сторонним наблюдателем, вместе с тем и сливается, солидаризуется с Ульрихом, с обоими – братом и сестрой, как действующее сверхлицо романа.
О, эта вечная рефлексия… В каком-то смысле они уже соединились, но соединения не произошло. Что их остановило: запрет инцеста? Едва ли. Казалось, из мира более совершенного, хотя и призрачного слияния, мира, который они предвкушали в мечтательном уподоблении, их овеяла некая высшая заповедь, высшее предчувствие, любопытство или предвидение чего-то.
Темнеет, о поездке уже не может быть речи. Медленно разряжается эротическое поле. Они стоят у окна…
Обычный упрёк автору: рухнул под тяжестью своего абсолютно нечитабельного романа, словно под обвалившимся, плохо спроектированным, нежилым домом. Слишком много рассуждений; нет никакого действия; главный герой – безжизненная фигура, остальные персонажи – вялые тени; в сущности, это не художественное произведение, а разбухшее сверх всякой меры, размазанное на двух с половиной тысячах страниц эссе.
Но книга-кирпич Музиля – не роман, которые читают как обыкновенные романы. Его надо читать отдельными страницами, малыми порциями, как пьют крепкий кофе – маленькими глотками из крошечных чашек; читать, постоянно возвращаясь к прочитанному; его персонажи – не действующие лица обычной повествовательной прозы, о них хотя и рассказывается, но гораздо больше делается отсылок к подразумеваемому рассказу, к повествованию в собственном смысле – там они были бы подлинно действующими лицами. Мы как будто имеем дело с гигантским комментарием к ненаписанному тексту. Книга, в которой как бы содержится другая книга, и в той, подразумеваемой книге «всё в порядке»: есть и сюжет, и действующие лица, но беда в том, что реалистическое повествование скомпрометировано, ибо скомпрометирована сама концепция действительности. Огромное зеркало, в котором мелькает то, что, собственно, должно было служить содержанием романа, быть романом в обычном смысле.
Да, конечно, это роман «послероманной эпохи», когда уже невозможно вернуться к классической нарративной прозе. Роман, поставивший своей задачей дать новый синтез действительности, – и задача эта оказалась неразрешимой.
30
Кафка, или сон без сновидца. Вот – проза: вот всё что угодно, только не хаос. Мир Франца Кафки упорядочен, как и его язык. Полная противоположность тому, о чём говорил Мандельштам: Вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела.
О, нет. Ничто так не противопоказано прозе, как блуждающее слово.
Ошеломляющее действие этой прозы: бесстрастный, чрезвычайно добросовестный отчёт, от которого исходит аромат безумия. Абсурдная естественность, с которой совершаются невероятные события; нелепая самоочевидность, необходимость происходящего. Всё это описано деловым и дисциплинированным, сдержанно-педантичным языком, напоминающим классическую прозу девятнадцатого столетия, новеллы Клейста; пожалуй, и слог австрийской канцелярии. Порой кажется, что, подробно объясняя мотивы поведения его героев, автор хочет предотвратить всякие попытки усомниться в правдивости этого отчёта. И в самом деле, никаких сомнений по поводу объективности автора не может быть, совершенно так же, как в мире сна не возникает сомнений в подлинности сновидения. Но парадокс этой прозы – кажущийся: между стилем прозы и её содержанием нет противоречия. Язык Кафки – это и есть его мир.
В этом мире нет случайностей. Не может быть и произвольных решений, всякая спонтанность репрессирована. Попытки нарушить порядок немедленно пресекаются. Свободы воли не существует.
Всё происходящее подчинено мертвенной логике. Мы можем сказать – онирической, алогичной логике; и действительно, всё выглядит как связный, последовательный сон. Так Кафка характеризует в дневнике и собственную жизнь: сновидческая, сноподобная.
Но если это сон, то он снится не отдельному человеку, например, кому-нибудь из действующих лиц: проза Кафки бессубъективна. «Действующими лицами», dramatis personae, их даже трудно назвать. Если это сон, то такой, в который погружены все персонажи. Вы входите в него, как в загадочный, сумрачный особняк зеркал.
Мир Кафки заставляет вспомнить и некоторые клинические формы шизофрении, бред отношения (Beziehungswahn), описанный классиками психиатрии. Всё, что происходит вокруг, в глазах больного неслучайно, зловеще многозначительно, напоено угрозой, чревато опасностью: заговор прохожих, заговор обстоятельств. Этот мир следует закономерностям паранойяльного бреда – внутренне логичного, жестко детерминированного, хоть и основанного на абсурдных посылках. Они принимаются без критики как нечто само собой разумеющееся.
31
Сюжет из нашей жизни. Легче допустить, что с твоей психикой что-то неладно, нежели согласиться с тем, что ты живёшь в мире, сошедшем с ума. Но Кафка не был сумасшедшим. Кафка был наделён исключительной навязчивостью художественного воображения; назовём ли мы её патологией?
Не был он и социальным критиком. (Об этом у Е.М. Мелетинского.) Неуловимая ирония пропитывает его прозу. Обличителем его не назовёшь: не тот масштаб. Таинственный суд, разместившийся на чердаке, где невозможно разогнуться, не стукнувшись о стропила; какой-нибудь Титорелли, род придворного портретиста, который рисует судейских чиновников, восседающих в мантиях на троноподобных сиденьях, хотя на самом деле судьи так же непрезентабельны, как и всё учреждение. Замок графа Вествест, куда никак не может попасть землемер К.; муторные, изнурительные разъяснения хозяйки деревенской гостиницы, как надо вести себя с Фридой и с обитателями деревни. Или судьба несчастного Грегора Замзы, который стал позором семьи. Всё это не сатира; бери выше.
Ещё одно соблазняющее толкование (Гессе). Я думаю, среди душ, которым дано было – творчески, но и мучительно – выразить предчувствие великих переворотов, всегда будут упоминать Кафку. И верно: на тексты Кафки ложится тень недалёкого будущего. Чем-то удивительно знакомым показался мне когда-то сюжет романа «Процесс». Человек живёт, ни о чём не подозревая, а в это время в тайных канцеляриях на него затевается «дело». Множатся доносы, подшиваются всё новые материалы, дело переходит из одной инстанции в другую, обрастает визами, резолюциями, последний удар штемпеля – и за обречённым приезжают и волокут его на расправу.
Офицер в штрафной колонии, одновременно судья и палач, руководствуется правилом: Виновность всегда несомненна. Разве не похоже на аксиоматический тезис советской тайной полиции: «Органы не ошибаются»? Разве все мы не были под её лучом, виновные самим фактом нашего существования; разве притча о вратах Закона, которую рассказывает Йозефу К. тюремный капеллан, – не метафора глухой засекреченности постановлений, инструкций и «установок», всей этой паутины, в которой барахтались граждане гигантского всесильного государства? Жизнь согласно рациону, жизнь с разрешения или по недосмотру перегруженного делами начальства, у которого до тебя просто ещё не дошли руки.
Но и это впечатление было только интерпретацией, одной из тех, которыми возмущалась Сузан Зонтаг.
Некоему прокуристу, мелкому банковскому служащему, однажды утром сообщают, что он арестован. Оказывается, против него затеян процесс. Почему, непонятно. Все попытки обвиняемого добраться до судебной инстанции, где он мог бы узнать, в чём дело, бесполезны. Под конец его уводят два палача, в заброшенной каменоломне совершается казнь.
Легко убедиться, что такой пересказ – не более чем грубая схема; фактическое содержание книги при этом ускользает. Действительно ли Йозеф К. арестован? Об аресте сказано в первой фразе. Но о нём лишь сообщают потерпевшему. На самом деле он остаётся на свободе, ходит по-прежнему на работу. Первый допрос происходит на чердаке обыкновенного жилого дома, но сводится к установлению паспортных данных обвиняемого, к тому же ещё и фальшивых. Это карикатура на суд: ничего общего со знакомой читателю юстицией. «Арест», «допрос», «обвинение» – все эти слова нельзя понимать буквально, всё это хоть и похоже на то, что мы ждали, но вместе с тем и что-то другое. (R. Stach. Kafka, 2004.)
В определение художественности входит неоднозначность замысла (чтобы не сказать – неопределённость). То, о чём вам рассказывают, всегда так – и не так, об этом, но и о чём-то ещё. Здесь, но не только здесь или даже совсем не здесь. Ни одно из толкований не исчерпывает содержания.
Рискнём сформулировать. В самом общем смысле задача романа – сотворение мифа о жизни. Такой миф обладает известным жиз-неподобием, свои реалии он черпает из общедоступной действительности, а вернее, из кладовых памяти, но это только сырьё, материал, из которого воздвигается нечто относящееся к реальной жизни примерно так, как классический миф и фольклор относятся к историческому факту. В прозе есть некоторая автономная система координат, сверхсюжет, внутри которого организуется сюжет, напоминающий историю «из жизни». В царстве романа миф преподносится как истина. На самом деле это игра. Ничего нет серьёзней этой игры; ибо игра есть путь к истине. Истинный в художественном смысле, миф свободен от притязаний на абсолютную философскую или религиозную истинность и, стало быть, радикально обезврежен.