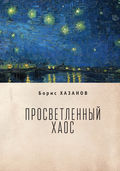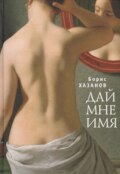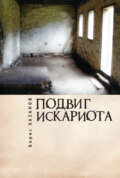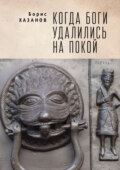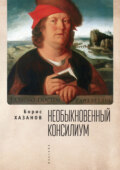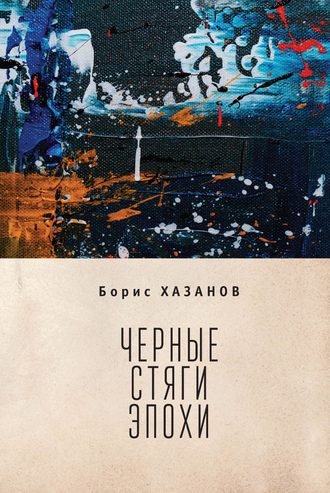
Борис Хазанов
Черные стяги эпохи
Короткие проводы, Фокке-Вульф «Кондор» с Гитлером на борту и второй самолёт со свитой исчезли в облаках. Шлабрендорф (которому посчастливилось дожить до конца войны) описал подробности этой истории. Взрыв должен был произойти в воздухе через полчаса после старта. Через два часа поступило сообщение о том, что фюрер благополучно приземлился в ставке. Офицер, для которого якобы предназначался коньяк, не был посвящён в заговор. Полковнику Треско удалось дозвониться до начальника сопровождающей команды, произошла, сказал он, путаница и пакет не надо передавать по адресу. Шлабрендорф срочно выехал в ставку в Восточную Пруссию, передал настоящий коньяк, получил назад невскрытый пакет с адской смесью и убедился, что детонатор не сработал.
Новые попытки
В «День памяти героев» фюрер пожелал осмотреть выставку захваченных на русском фронте трофеев. Это было через восемь дней после неудачи в самолёте, 21 марта 1943 г. Выставка в берлинском Цейхгаузе была устроена командованием всё той же армейской группы «Центр». Вести почётных гостей и давать объяснения должен был откомандированный с фронта, упомянутый выше барон Герсдорф. Теперь он был уже посвящён в планы заговорщиков и даже выразил готовность пойти на риск погибнуть самому. В левом внутреннем кармане у Герсдорфа помещалось миниатюрное взрывчатое устройство с кислотным детонатором, рассчитанным на короткое время – 10 минут; террорист предполагал, выбрав удобный момент, раздавить в кармане ампулу с кислотой, подложить бомбу поближе к своей жертве, а может быть, и взорваться вместе с вождём.
В это время в штабе под Смоленском Треско, с часами в руках, слушал по радио репортаж о праздновании в Берлине Дня памяти героев. И снова ничего не получилось. Гитлер спешил и, обежав выставку, ускользнул из Цейхгауза. Герсдорф, который уже включил детонатор, успел в уборной обезвредить бомбу.
Можно кратко упомянуть о других попытках. 24-летний, увешанный боевыми наградами капитан Аксель фон дем Бусше-Штрейтхорст, между прочим, ставший на фронте свидетелем того, как украинские СС в Дубно расстреляли перед заранее вырытым могильным рвом пять тысяч евреев, вызвался взорвать себя и Гитлера во время демонстрации новых моделей форменной одежды для армии. Заговорщики ждали этой минуты, чтобы в короткое время овладеть Берлином. Но за день до покушения вагон с экспонатами был разбит при воздушном налёте. Бусше приготовился к новому покушению – вождь неожиданно отбыл на дачу-крепость Берггоф в Баварских Альпах. Немного времени спустя Бусше был тяжело ранен на фронте, потерял ногу; заменить его должен был Эвальд Генрих фон Клейст, потомок семьи, из которой вышел великий поэт и драматург Генрих фон Клейст. Гитлера предполагалось застрелить во время совещания в Берхтесгадене. По какой-то причине в последний момент охрана не пропустила Клейста на дачу.
Неудачи не сломили волю полковника Треско, они лишь придали ей траурный оттенок героического пессимизма в духе Ницше. Что бы ни случилось – нужно шагать навстречу року. Очередной, подготовленный Ольбрихтом и другими план «Валькирия IV», предусматривал в качестве главной опоры восстания армию резерва, сосредоточенную вблизи нервных узлов империи. Были заготовлены приказы командирам частей. Оставалось устранить величайшего стратега. Фабиан фон Шлабрендорф, один из немногих оставшихся в живых участников заговора, сохранил для историков слова Треско: «Гитлера надо попытаться убить coûte que coûte (любой ценой). Но даже в случае неудачи нужно тем или иным путём осуществить государственный переворот. Дело не только в том, чтобы найти практический выход из тупика, дело в том, что немецкое движение сопротивления должно ценой жизни совершить этот прыжок. Всё остальное несущественно… Бог обещал Аврааму не уничтожить Содом, если там найдётся десять праведников. Будем надеяться, что благодаря нам Господь не испепелит Германию. Все мы готовы к смерти».
Армия и режим
Года за два до описанных событий на горизонте появился майор Шенк фон Штауфенберг.
Швабский род Штауфенбергов впервые упомянут в грамоте 1317 года. В конце XVII столетия баварская линия рода получила баронские привилегии, двести лет спустя Штауфенберги стали графами. Клаус Филипп Мария Шенк граф фон Штауфенберг родился в 1907 году в Йеттингене, родовом поместье между Ульмом и Аугсбургом. Его брат-близнец умер на другой день после родов; младшие братья были тоже близнецами. Мать Клауса была балтийской дворянкой, праправнучкой прусского полководца Гнейзенау. Отец – шталмейстер и камергер, впоследствии обергофмаршал вюртембергского двора. Можно добавить, что Клаус Штауфенберг приходился двоюродным братом графу Йорку фон Вартенбургу, одной из главных фигур Крейсауского кружка.
Восемнадцати лет Штауфенберг поступил в конный полк, затем окончил кавалерийскую школу в Ганновере. Несколько позже, в числе многообещающих молодых офицеров, с перспективой карьеры в генеральном штабе, он был направлен в берлинскую военную академию.
Это был высокий (1 м 85 см), очень стройный, тридцатилетний темноволосый и синеглазый молодой человек, светски воспитанный, производивший впечатление одновременно мужественное и девическое, всадник-спортсмен и поклонник Стефана Георге. Стихи Георге, непогрешимого мастера, аристократа и ницшеанца с даром предвидения, сопровождали Штауфенберга всю его недолгую жизнь.
Граф Штауфенберг мог презирать, с высоты своего офицерского достоинства, вульгарную демагогию, плебейские манеры и отвратный немецкий язык фашистского вождя, мог брезгливо отстраняться от людей этого сорта, но активного протеста переворот 1933 года, – как и то, что за ним последовало, – у Штауфенберга не вызвал. Считалось даже (до недавних пор), что он был в молодости горячим сторонником Гитлера. Исследования опровергают эту версию. Верно, однако, что он разделял взгляды и настроения своей касты. У Веймарской республики было гораздо меньше сторонников, чем врагов. Офицерство чуть ли не по определению было её недругом. Ненависть к демократии и демократам, воинственный национализм, дух агрессивной молодости и дисциплинарный пафос, призывы к национальному сплочению, решимость свести счёты с внешними и внутренними врагами за все потери, за унижение немецкого отечества, потерпевшего поражение в 1918 году, как хотелось верить, не на поле битвы, а в результате предательства, покончить с Версальским договором, в самом деле кабальным, – весь этот набор нацистских лозунгов, вся эта фразеология не могли не вызвать – в той или иной мере – сочувствия в офицерской среде. То, что в первые же недели национал-социалистической революции были ликвидированы политические партии, отменены гражданские права, учреждена свирепая цензура, политические противники заключены в срочно созданные концлагеря, не слишком волновало этих людей; об антисемитизме и говорить нечего; в большей или меньшей степени его разделяли многие; хаотическую книгу Гитлера «Моя борьба», где ещё в 1924 г. была выдвинута программа уничтожения евреев, вообще никто не читал. Когда же с помпой провозглашённая Третья империя (первая – средневековая Священная Римская империя, вторая – империя Гогенцоллернов) аннулировала в одностороннем порядке 160 статью Версальского договора и принялась накачивать военные мышцы, когда была введена всеобщая воинская повинность, – к 1939 г. вермахт должен был насчитывать 36 дивизий, свыше полумиллиона солдат, соответственно возрасти должен был и командный состав, для десятков тысяч откроются возможности карьеры, а там и вдохновляющее видение новой, на сей раз победоносной кампании, – сердца вояк были отданы новому режиму. Мы видели, что волчий облик режима и действительность войны радикально отрезвили многих – одних раньше, других позже.
Рубикон
Штауфенберг участвовал в «польском походе», в разгроме Франции; был откомандирован на восточный фронт, где состоялось знакомство с подполковником Треско; зимой сорок третьего года, в дни сталинградской катастрофы, в Таганроге безуспешно пытался склонить командующего войсковой группой «Дон» Манштейна (изрядно разочарованного в Гитлере) к участию в антигитлеровском комплоте. На вопрос, что делать с самим диктатором, Штауфенберг ответил: «Убить!».
Приехав домой с фронта в трёхнедельный отпуск, он узнал, что его переводят в Северную Африку, в танковый дивизион на должность первого штабного офицера I-a.
Когда Африканский корпус Роммеля, прославленного «лиса пустыни», был остановлен на границе Ливии и Египта войсками фельдмаршала Монтгомери, начались затяжные бои. Как-то раз Штауфенберг, объезжая позиции, ночью, в кромешной тьме был обстрелян: оказалось, что он попал в расположение противника. Громко по-английски он отдал приказ прекратить огонь. Решив, что в машине сидит высокий британский чин, солдаты расступились, Штауфенберг пронёсся мимо и, обернувшись, крикнул: «Можете продолжать».
Армия отступала; за месяц до капитуляции немецко-итальянской группы войск в Тунисе (в плен попало около 200 тыс. человек, больше, чем под Сталинградом), в начале апреля 1943 г., случилось несчастье: штабную машину 10-го дивизиона атаковал на бреющем полёте американский бомбардировщик в открытом поле близ Меццуны, в пятидесяти километрах от побережья. Этот был тот самый участок, где на другой день, прорвав фронт, соединились английские и американские части.
Из развороченного бомбой автомобиля извлекли полумёртвого Штауфенберга. Он выжил; ему ампутировали правую руку до плеча и два пальца на левой руке; он потерял левый глаз. Штауфенберг выписался через три месяца из госпиталя в Мюнхене и остался на военной службе. Только так он мог осуществить своё непреклонное намерение покончить с Гитлером. Зимой была налажена связь с Герделером и его людьми. Наступил 1944 год. В Крейсау граф Мольтке говорил друзьям: «Какой год нам предстоит! Если мы останемся в живых, все остальные годы поблёкнут перед ним…». Действительно, медлить и выжидать больше было невозможно. В конце концов все обсуждения и приготовления свелись к одному: спасти Германию.
Зарницы
На самом деле то, что «предстоит», было совсем рядом. Утром 19 января 1944 года в берлинскую контору Гельмута фон Мольтке явились гости из гестапо, он был арестован и увезён в подвалы главного комплекса зданий тайной полиции на Принц-Альбрехт-штрассе, нечто сходное с московской Лубянкой. Арест, судя по всему, не имел отношения к собраниям в Крейсау. Узнав стороной, что за одним из его знакомых, который позволил себе крамольные высказывания, ведётся слежка, Мольтке счёл своим долгом предупредить его об опасности. Долг долгу рознь: на Мольтке в свою очередь был сделан донос; ему вменялось в вину «забвение долга». Две-три недели спустя он был переведён в тюрьму при лагере Равенсбрюк в Мекленбурге. Жена посещала Мольтке, он содержался в относительно сносных условиях; после 20 июля, однако, всё изменилось.
Тучи сгустились и над Карлом Гёрделером. Просочились сведения о том, что готовится арест. В чём дело, о чём могло разнюхать гестапо, оставалось неизвестным. Гёрделер уехал к родителям в Восточную Пруссию, где скрывался вплоть до 20 июля и ещё некоторое время спустя.
Доложите обстановку
Положение на фронтах к середине июля 1944 года было следующим.
На юге генерал Александер, командующий силами союзников в Италии, продвигаясь вверх по Аппенинскому полуострову, овладел Вечным городом и приблизился к Пизе и Флоренции. На Западе немногим больше месяца тому назад, после многомесячных бомбардировок транспортных артерий во Франции и Бельгии, английские, американские и канадские части под началом Эйзенхауэра высадились в Нормандии – открылся давно обещанный второй фронт. Теперь союзники находились на подступах к Нанту и Руану. За три дня до покушения на Гитлера генерал-фельдмаршал Роммель, назначенный командиром армейской группы «Б» в Северной Франции, был тяжело ранен, его место занял Клуге, не обладавший военным гением Роммеля.
Капитальную угрозу, однако, представлял восточный фронт, где Красная Армия, терпя большие потери, наступала на всех важнейших участках; 38 дивизий вермахта были перемолоты в короткое время; лишь на севере немцам удалось остановить дальнейшее продвижение. Линия фронта проходила вдоль бывшей границы с Эстонией, через Латвию, готовилось вторжение в Восточную Пруссию (20 июля бои шли приблизительно в 200 километрах от ставки). Началось наступление на Варшаву, Люблин, Львов; на юге войска 2-го и 3-го украинских фронтов заняли часть Молдавии и перешли румынскую границу.
Еженощно союзная, главным образом английская, бомбардировочная авиация громила немецкие города, еженощно под развалинами гибли тысячи жителей; тяжёлые разрушения понесли Гамбург, Берлин, города Рурского угольного, железнорудного и промышленного бассейна. Начались систематические налёты на румынские нефтяные прииски, главный источник горючего для промышленности, авиации и танков.
Волчья нора (1)
Задача – убить сразу трёх: Гитлера, Гиммлера и Геринга; после этого одновременно во многих местах должен был вспыхнуть мятеж. Возможность представилась 6 июля, когда полковнику генерального штаба графу Штауфенбергу надлежало принять участие в двух обсуждениях обстановки на фронтах в альпийской крепости Гитлера Берггоф в Берхтесгадене. Штауфенберг прилетел с бомбой в портфеле, но Гиммлер и Гёринг не явились. Через пять дней подоспел новый случай, Штауфенберг был снова вызван в Берггоф. Адъютант приготовил машину и самолёт, с тем чтобы тотчас после включения детонатора Штауфенберг мог вернуться в Берлин, центр восстания. Начальник общевойскового управления верховного командования генерал от инфантерии Ольбрихт, генерал-фельдмаршал Вицлебен, Йорк фон Вартенбург – знакомые нам лица – ждали сигнала. Но Гиммлер снова отсутствовал, и снова Штауфенберг предпочёл отложить покушение.
Наконец, 15 июля Гитлер прибыл в Растенбург (ныне Кентшин, Польша), уездный городишко с военным аэродромом, некогда цитадель Тевтонского ордена; вокруг – густые хвойные и лиственные леса, камышовые озёра, обычный ландшафт Восточной Пруссии. В шести километрах от аэродрома находилась главная штаб-квартира верховного главнокомандующего, так называемая Волчья нора, обширная, отгороженная со всех сторон площадка. Собственно «норой» был подземный бункер фюрера под бетонным покрытием толщиною в семь метров; бункер гарантировал полную безопасность в случае воздушного налёта. Несколько поодаль стояли дом для адъютантов и барак, где происходили совещания. Внутри барака коридор, комнатка дежурного, рабочее помещение и просторная (60 кв. метров) комната в пять окон с массивным, шестиметровой длины прямоугольным столом на двух тумбах. В углу справа от входа – круглый столик стенографиста. Барак был деревянный, крыша бетонирована, стены проложены стекловатой.
Итак, снова назначено совещание, Штауфенберг, отвечавший за состояние резервной армии (которую предполагалось ввести в действие в случае вторжения русских на территорию рейха), прилетел для доклада в Растенбург из столицы, где он жил в квартире своего брата Бертольда и работал в генштабе сухопутных сил на Бендлерштрассе. Вместе с одноруким полковником прибыл генерал Фридрих Фромм, посвящённый в заговор. Несколько заградительных оцеплений и постов охраняли дорогу к ставке. На самой территории, перед входом в барак – но не внутри – стояли телохранители вождя. Штауфенберг оставил портфель с бомбой в большой комнате. На этот раз он решил выполнить свой план, даже если бы оказалось, что Гиммлер и Геринг не участвуют в совещании. Сообщили, что шеф тайной полиции наверняка будет здесь; но до половины третьего, когда всё закончилось, он так и не приехал; не было и Геринга.
Вильгельм Кейтель, генерал-фельдмаршал, начальник штаба верховного командования (повешенный по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге в 1946 г.), пожелал предварительно ознакомиться с докладом; речь шла о подготовке 15 «народно-гренадёрских» дивизий, укомплектованных юнцами из нацистской «Гитлер-югенд» (аналог комсомола). Затем все трое – Кейтель, Фромм и Штауфенберг – вышли из барака. Вскоре из бункера появился Гитлер. Сохранилась фотография: фюрер пожимает руку кому-то из генералов, рядом, вытянувшись в струнку, стоит граф.
Покушение и на этот раз не состоялось. Уже в ходе совещания выяснилось, что Штауфенберг должен докладывать последним; успеть включить зажигательное устройство и покинуть барак не было никакой возможности. Он вернулся в Берлин. Через несколько дней пришёл новый приказ из ставки: явиться для доклада 20 июля.
Новый Сулла
Капитан вермахта Эрнст Юнгер, прозаик, эссеист, диарист, самый, может быть, значительный немецкий писатель из тех, кто не эмигрировал после 1933 года, находился с начала Второй мировой войны на западном фронте, участвовал в походе на Францию и провёл, если не считать коротких отпусков и командировки на Украину и Северный Кавказ, два года в оккупированном Париже при штабе командующего оккупационными силами во Франции генерала Карла-Генриха фон Штюльпнагеля. Юнгер дружил с Штюльпнагелем, знал о том, что тот примкнул к заговору с целью совершить государственный переворот, знал других участников сопротивления, но сам к нему не присоединился. В дневниках, составивших книгу «Излучения», имеется запись (от 29 апреля 1944 г.), из которой видно, что Юнгер скептически относился к этой авантюре. Движущей силой заговора, по его мнению, является «моральная субстанция», религиозные и нравственные убеждения участников, тогда как успех может быть достигнут только при условии, что во главе движения станет «какой-нибудь Сулла», «простой народный генерал».
Таким Суллой, замечает новейший биограф Юнгера П. Ноак, мог бы стать Роммель. Но в апреле 1944 г. Роммель занят подготовкой к отражению угрозы вторжения, а вскоре после этого, как мы знаем, выходит из игры.
Прав ли был Юнгер? Какой смысл имел заговор, стоивший жизни всем или почти всем его участникам? Это были люди, прекрасно осведомлённые о ситуации; на что они рассчитывали? Приходится снова задать себе этот вопрос.
Некоторые из них, например, Гёрделер, всё ещё думали, что можно будет заключить сепаратный мир с англичанами и американцами и остановить русских; большинство сознавало иллюзорность этих надежд. Ещё в январе 1943 г. конференция западных союзников в Касабланке завершилась тем, что Рузвельт выдвинул, с общего согласия, требование безоговорочной капитуляции. Заговорщики пытались сложными путями установить с союзниками связь (мы на этих попытках не останавливались). Ничего не вышло: их никто не хотел слушать.
Задав вопрос о смысле «авантюры» (была ли она всего лишь авантюрой?), приходится согласиться, что побуждения участников заговора носили в первую очередь моральный характер. Убрать Гитлера значило уничтожить, как сказал на суде один из заговорщиков, «полномочного представителя Зла в истории». Прекратить войну значило предотвратить дальнейшие бессмысленные жертвы. Покончить с нацизмом означало спасти честь страны. В том, что эти люди были в гораздо меньшей степени политиками, чем защитниками нравственного закона, который восхищал Канта, состояла их слабость. В том, что, вопреки всему, они предпочли действовать, состояло их величие.
Молчание
Спросим себя (несколько раздвинув тему), что делать честному человеку перед лицом преступного режима. Коммунистические идеалы были во многом противоположны идеалам немецкого национал-социализма, противостояние двух режимов заслоняло от многих сходство этих режимов, впрочем, бросавшееся в глаза; осознание подлинного характера советской власти, понимание того, что тоталитарная партия и созданная ею в первые же недели после захвата власти тайная политическая полиция по самой своей природе являются преступными организациями, – сравнительно поздно пришло даже к тем, что честно стремился разобраться в происходящем. Тем не менее по крайней мере в тридцатых годах, не говоря уже о более позднем времени, режим показал себя во всей красе; слепому было ясно, в каком государстве он живёт. Что можно было сделать, можно ли было вообще что-то делать? Эмигрировать было поздно. Любые формы открытого протеста были исключены, самая мысль о свержении существующего строя казалась абсурдной. Убить вождя-каннибала мог лишь тот, кто имел доступ к нему. Как и в Германии, эту задачу могли бы взять на себя только военные. Но ничего подобного Двадцатому июля не было в СССР; до сих пор мы не слышали о каких-либо признаках активного сопротивления, о каких-либо мятежных замыслах в ближайшем окружении Сталина или в военной среде. Многочисленные «враги народа» были изобретением тайной полиции. Архивы, которые могли бы кое-что прояснить, остаются под спудом либо уничтожены; в отличие от Германии, где национал-социализм был разбит стальной кувалдой войны, а позднейшие годы стали временем радикального расчёта с прошлым, в России аналогичного сведения счётов не произошло, и до сих пор, по-видимому, значительная часть народа не отдаёт себе отчёта в том, какого рода прошлое осталось за его спиной.
Протест, сказали мы, был невозможен. И всё же кто-то протестовал. Автору этой статьи известны группы молодёжи, студенческие кружки, робкие попытки объединиться, чтобы совместно уяснить себе ситуацию, а там, быть может, и перейти к более активным действиям. Эти мальчики и девочки исчезли бесследно, система тотальной слежки и всенародного доносительства не пощадила ни одного. Но они были, и, может быть, их одинокое возмущение в какой-то мере искупило молчание взрослых.
Волчья нора (2)
Гитлер имел обыкновение ложиться перед рассветом. До десяти часов утра никто не имел права будить фюрера. На лифте в спальню подавался завтрак. Это было как раз то время дня 20 июля 1944 г., когда военный самолёт, в котором сидели полковник Штауфенберг и адъютант Вернер фон Гефтен, приземлился на аэродроме Растенбург. Там ждал «мерседес» с шофёром.
На пути в ставку нужно было миновать три контрольных поста. Штауфенберг имел при себе портфель с бумагами. Адъютант держал на коленях другой портфель, где находилась упакованная в бумагу тетриловая бомба английского образца размером с толстую книгу, с детонатором, рассчитанным на взрыв через тридцать минут после включения.
Дежурный первого поста проверил документы. При въезде во вторую оцеплённую зону Штауфенберга встретил командующий военным округом генерал Тадден, решили вместе позавтракать. Мимо последнего контрольного поста въехали во внутреннюю зону. Вылезая из машины, Штауфенберг велел шофёру ждать: в 13 часов он должен возвратиться на аэродром.
Три четверти часа ушло на предварительную беседу с Кейтелем. Из бункера позвонил камердинер фюрера Линге: в связи с визитом в Берлин итальянского дуче Муссолини совещание переносится на полчаса раньше. Тем лучше. Штауфенберг попросил адъютанта Кейтеля майора Фрейэнда показать ему туалетную комнату: нужно привести себя в порядок после дороги. «Поторопитесь, Штауфенберг!» – крикнул майор. Штауфенберг вошёл в соседнюю комнатку, где его поджидал адъютант Гефтен. Привезённое с собой находилось в двух пакетах, каждый весом в килограмм. Один пакет успели переложить из сумки Гефтена в портфель Штауфенберга, когда неожиданно вошёл дежурный фельдфебель, чтобы сказать полковнику, что ему звонил из бункера Фелльгибель. (Генерал разведывательной службы Эрих Фелльгибель был тоже посвящён в заговор). Фельдфебель заметил, что полковник и его адъютант возятся с каким-то предметом. Второй килограммовый пакет остался в портфеле Гефтена. На часах была половина первого. Гитлер вошёл в барак.
Совещание
«Иду, иду…» – сказал Клаус Штауфенберг, тремя пальцами искалеченной левой руки, с помощью специально изготовленных щипцов вскрыл ампулу с кислотой, вставил ампулу в предохранительный штифт и соединил с капсюлем-детонатором. С портфелем под мышкой он вошёл в комнату, где уже началось совещание. Его сопровождал ни о чём не подозревавший майор Йон фон Фрейэнд. «Будьте добры, – проговорил Штауфенберг, – позаботьтесь, чтобы для доклада мне уступили место поближе к фюреру…».
На большом столе была разложена карта. Очевидец оставил подробное описание, где кто стоял. Гитлер в центре, напротив входа, за длинной стороной стола. Слева от него Кейтель, справа основной докладчик, генерал-лейтенант Адольф Хейзингер. Остальные вокруг стола и позади стоящих за столом; всего присутствовало 24 или 25 человек.
Доложили о приходе полковника графа Шенка фон Штауфенберга. Гитлер взглянул на полковника, кивнул в знак того, что знает его, и повернулся к столу. Он был близорук и должен был разглядывать карту через толстую лупу; все бумаги для фюрера печатались на машинке с крупным шрифтом. Хейзингер докладывал общую обстановку на фронтах. Фрей-энд помог изувеченному полковнику встать справа от докладчика, принял у Штауфенберга портфель и поставил его под стол. Штауфенберг передвинул портфель так, чтобы он никому не мешал, – и поближе к себе и Гитлеру. Теперь портфель стоял, прислонённый к правой тумбе, к её наружной стороне, так что между бомбой и Гитлером находился только Хейзингер. Сам Штауфенберг – справа и несколько позади от Хейзингера, с левой стороны от Штауфенберга полковник Брандт, который год тому назад участвовал в неудачной попытке Геннинга фон Треско взорвать самолёт диктатора при помощи мнимого коньяка.
Несколько минут спустя Штауфенберг пробормотал что-то вроде того, что ему надо срочно позвонить по телефону. Хождение во время доклада не возбранялось, никто не обратил внимания на то, что полковник вышел в соседнюю комнату. Фуражка и портупея Штауфенберга остались в углу на стуле в большой комнате, это значило, что он сейчас вернётся.
У аппаратов сидел вахмистр. Штауфенберг снял трубку, поднёс к уху, положил трубку обратно, вышел и быстро зашагал к адъютантскому дому, перед которым ждал кабриолет с Гефтеном. Штауфенберг сёл впереди рядом с шофёром. «Вы забыли фуражку», – сказал шофёр. Штауфенберг отвечал, что он спешит; на часах было 12.40. Машина подъехала к вахте внутреннего оцепления, когда за деревьями взвилось облако дыма и грянул гром.
Обратный путь
Сигнал тревоги ещё не успел поступить на вахту. Очевидно, в суматохе не знали, что делать. У сидящих в машине были безупречные документы. Уверенный вид и величественная осанка штабного полковника с чёрной повязкой на глазу, с пустым правым рукавом, с Рыцарским крестом на шее произвели своё действие, машину пропустили.
У второго контрольного поста дежурный фельдфебель отказался поднять шлагбаум. Штауфенберг повысил голос, это не помогло. Он вышел из машины и связался по телефону с комендатурой. Ротмистр Меллендорф снял трубку. Очевидно, он тоже ещё не слышал о том, что произошло. Ротмистр знал полковника. Дело уладилось, кабриолет с поднятым верхом понесся дальше по лесной дороге, между озёрами, но шофёр заметил в боковом зеркале, что Гефтен выбросил из окна пакет. Это была вторая, неиспользованная половина заряда.
Миновав на большой скорости уединённое поместье Вильгельмсдорф, миновав третий пост, достигли аэродрома. Шофёр развернулся и поехал обратно. В 13 часов 15 мин. трёхмоторный Хейнкель-111 поднялся в воздух и взял курс на Берлин.
Мятеж
В начале второго – самолёт в Растенбурге только что стартовал – в генеральный штаб, пятиэтажное здание на Бендлер-штрассе (ныне улица Штауфенберга, между Тиргартеном и набережной реки Шпрее), где собрались заговорщики, поступило первое известие из Волчьей норы – телефонограмма от Фелльгибеля, краткая и маловразумительная:
«Случилось нечто ужасное, фюрер жив».
Это звучало двусмысленно: ужасно, что хотели убить фюрера, или ужасно, что он не убит? Но главное, оставалось неизвестным, что предпринять. Надо ли что-нибудь предпринимать? Неясно было, что с графом Штауфенбергом. Новых сообщений не поступало. Первым опомнился полковник Альбрехт рыцарь Мерц фон Квирнгейм. Не дожидаясь указаний от своего начальника генерала Ольбрихта, он поднял по тревоге пехотное и танковое училища и отдал приказ по военным округам привести в исполнение 1-ю (подготовительную) ступень плана «Валькирия». Тем временем самолёт со Штауфенбергом и Гефтеном приземлился на берлинском аэродроме Рангсдорф. Адъютант позвонил с аэродрома на Бендлер-штрассе и сообщил, что покушение удалось.
Наконец-то! Ольбрихт распорядился приступить ко 2-й ступени: непосредственное осуществление государственного переворота. Начальники округов, а также дислоцированных вокруг столицы учёбных и резервных частей получили следующую депешу:
«Фюрер Адольф Гитлер мёртв!
Клика партийных руководителей за спиной у воюющей армии попыталась использовать власть в своих корыстных целях. Правительство империи, с целью поддержания правопорядка, объявило чрезвычайное положение и передало мне вместе с командованием вермахта исполнительную власть.
Приказываю:
Власть в районах страны, где идут бои, вручается главнокомандующему армией резерва генерал-полковнику Фридриху Фромму, в оккупированных областях… (далее перечислялись имена командующих армейскими группами “Запад”, “Юго-Запад” и “Юго-Восток”, а также командующих войсками на Украине, в Прибалтике, в Дании и Норвегии). Немецкий солдат стоит перед исторической задачей. От его энергии и выдержки зависит спасение Германии.
Подпись: Верховный главнокомандующий вооружёнными силами генерал-фельдмаршал фон Вицлебен».
Никакого «правительства» восставших пока ещё не существовало. Одновременно был разослан приказ занять главные здания радио, телефона и телеграфа, арестовать всех министров, гаулейтеров (партийные наместники, нацистский аналог секретарей обкомов), командиров СС, начальников полиции, гестапо, СД (служба безопасности), обезоружить охрану концентрационных лагерей и так далее. Под приказом стояло имя генерала Фромма, сам Фромм о нём не знал.
Он прибыл
Штауфенберга всё ещё не было: машины, заказанной для него и адъютанта, не оказалось на аэродроме. Между тем генералу Ольбрихту удалось связаться по телефону с Волчьей норой. Кейтель подтвердил: да, имело место покушение на фюрера. Но фюрер жив, он отделался лёгкими повреждениями.
В половине четвёртого в здании на Бендлерштрассе, обычно называемом Бендлер-блоком, наконец, появился Штауфенберг. Он взбежал по лестнице, распахнул дверь своего кабинета – там его ждали брат Бертольд Шенк фон Штауфенберг, Фриц-Дитлоф фон дер Шуленбург из окружения Мольтке и ещё несколько человек – и с порога, не здороваясь:
«Он умер. Я видел, как его вынесли».