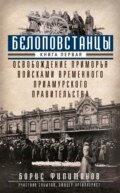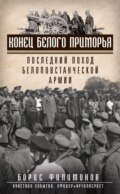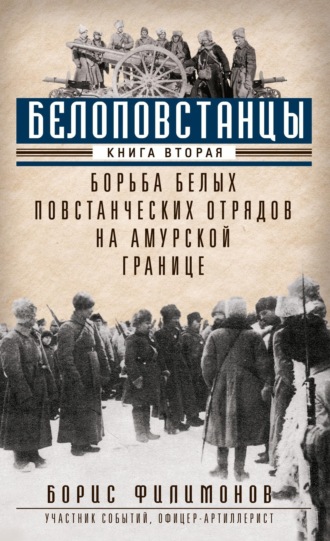
Борис Филимонов
Белоповстанцы. Книга 2. Борьба белых повстанческих отрядов на амурской границе
«Взрывом народного негодования коммунистическая власть свергнута и город Хабаровск освобожден от преступного произвола шайки грабителей и насильников.
Я, командующий белоповстанческими отрядами, объявляю себя начальником гарнизона города Хабаровска и его района и принимаю на себя охрану безопасности жителей.
Мои отряды признают Временное Приамурское правительство как единственную ныне национальную русскую власть на Дальнем Востоке.
Впредь до прибытия представителя Временного Приамурского правительства по всем общегосударственным вопросам обращаться ко мне».
Таков был текст приказа командующего белыми повстанческими отрядами Приморской области генерал-майора Молчанова от 23 декабря 1921 г. № 15, первого приказа белых властей в г. Хабаровске.
В тот же день приказом по гарнизону г. Хабаровска комендантом города был назначен подполковник Волков, вместе с тем оповещалось, что ношение военной формы разрешается только воинским чинам, находящимся на службе в белоповстанческих отрядах, приказывалось всем бывшим начальникам военных и гражданских казенных учреждений, заведений и складов так называемой Дальневосточной Республики, оставшимся в городе, явиться в штаб командующего 21 декабря в 11 часов со сведениями об имеющемся имуществе и личном составе, и, наконец, лицам, желающим поступить добровольцами в белоповстанческие отряды, предлагалось являться в штаб к начальнику штаба ежедневно от 8 до 10 часов.
Небезынтересен приказ по гарнизону от того же числа № 2: «Вследствие того, что китайское население, проживающее на русской территории, подчиняется русским законам и посему не должно иметь собственной милиции, предлагаю китайскому обществу города Хабаровска немедленно по опубликовании настоящего приказа упразднить китайскую милицию и оружие милиции сдать в мой штаб. Флаги китайской республики с домов граждан республики должны быть сняты, кроме дома консульства».
Приказом по гарнизону № 3 от 24 декабря гражданам г. Хабаровска разрешалось свободное появление их на улице, без ограничений, во всякое время дня и ночи.
Приказом командующего от 26 декабря № 20 было устранено от управления городскими делами Хабаровское городское управление, организованное по закону ДВР, за то, что «своей резолюцией от 8 декабря 1921 г. поставило себя в явно враждебное отношение к Временному Приамурскому правительству». Впредь до новых выборов гласных по особым в дальнейшем распоряжениям Временного Приамурского правительства для управления делами города созывалась Городская дума из городских гласных по избранию 1919 г. Этот приказ был отдан на основании телеграммы председателя правительства.
Начальником городской милиции, также согласно телеграмме из Владивостока, был назначен гражданин Л.П. Тауц.
Только что приведенные отрывочные данные дают отчасти представление о той колоссальной работе, которую должен был совершить и совершал генерал Молчанов по занятии г. Хабаровска. Действительно захват такого большого центра, как Хабаровск, со значительными военными мастерскими, с большим сравнительно рабочим населением, с попрятавшимися коммунистами, требовал к себе большого внимания. Первые ложные шаги могли настроить население города, особенно рабочих, против Белой армии и создать в тылу опасный очаг волнений и мятежей. От того, как будет вести себя город, зависело, сколько сил отвлечет он с фронта для охраны порядка. Конечно, ближайшей и неотложной задачей командующего было установить в городе такой порядок и наладить такие отношения с населением, чтобы гарнизон города состоял из минимума боевых частей. Генералу Молчанову предстояла тяжелая задача – взять город «железной рукой в бархатной перчатке». Генерал Молчанов блестяще провел эту роль. Необычайно разумные шаги генерала Молчанова, благожелательная, но твердая политика по отношению ко всем частям городского населения сделали свое дело для будущего, но для текущего момента это создало одно из препятствий для желательного присутствия генерала Молчанова на фронте, для непосредственного руководства им боевыми операциями белоповстанческих отрядов. Какие же операции предстояли? Как сложилась обстановка к этому времени?
Части Приамурского военного округа ДВР, усиленные Особым Амурским стрелковым полком, не остановили наступления белых и не удержали в своих руках г. Хабаровска. После беспрерывного ряда неудач и поражений, начавшихся с 30 ноября, красные части откатились к самому Хабаровску. Здесь 21 декабря под Ново-Троицким свежий, только что прибывший на фронт Особый Амурский стрелковый полк был смят наступавшими белыми и откатился на левый берег реки Амур в д. Владимировка. При такой обстановке части железнодорожной группы красных в ночь с 21 на 22 декабря без боя оставили г. Хабаровск и отошли на левый берег реки Амур. 23 декабря, будучи растрепанными под д. Владимировка – Покровка, 4, 5 и 6-й стрелковые полки красных в беспорядке откатились дальше на запад в д. Дежневка. Велики были в этот день беспорядок и смятение в стане красных: управления частями фронта не существовало, означенные выше три стрелковых полка рассыпались, в большем или меньшем порядке в этот день находился один только Особый Амурский стрелковый полк с приданными ему частями. Эти обстоятельства в связи с потерей большого и ценного военного имущества в г. Хабаровске и на ст. Покровка заставляют назвать поражение красных тяжелым, а части красного фронта на ближайшее время рассматривать как небоеспособные, долженствующие отступать. Сии выводы полностью подтверждаются не только Я. Покусом, одним из видных красных командиров и автором книги «Борьба за Приморье», но и приказами командующего красным фронтом тов. Серышева, инструкциями Реввоенсовета ДВР и иными документами. Пассивность генерала Сахарова, остававшегося в д. Покровка с полудня 23 декабря до утра 24 декабря, дала возможность комиссару Особого Амурского полка тов. Бороздину привести в некоторый порядок дезорганизованные толпы красноармейцев, скопившихся в д. Дежневка, разгрузить разъезд Николаевский и ст. Волочаевка, выдвинуть на фронт бронепоезд и под его прикрытием к вечеру 24 декабря неспеша вывести из д. Волочаевка на запад части красного фронта уже с сохранением полного порядка. Белые колонны, выступившие из Покровки поздним утром 24 декабря, в этот день противника не нагнали, так как на Амуре против 3-й колонны (полковник Ефимов) его вовсе и не было, а на железнодорожном направлении продвижение 5-й колонны (генерал Сахаров) было задержано красным бронепоездом, блестяще выполнившим свое задание. Директивой от 13 часов 30 минут 24 декабря № 0278/оп генерал Молчанов «ввиду сильной усталости людей и неналаженности тыла» поставил генералу Сахарову оставаться на линии ст. Волочаевка – д. Волочаевка, а полковнику Ефимову занять Нижне- и Верхне-Спасское. «Движение вперед по особой директиве» – так заканчивался этот приказ. Главные силы красного фронта к утру 25 декабря находились в районе разъезд Ольгохта – ст. Ин, а тов. Серышев, комвостфронтом, со своим штабом находился на ст. Бира. В тылу белых, в районе с. Князе-Волконского, находился отряд тов. Бойко-Павлова.
Учет обстановки на фронте и возможностей, которыми обладали командования обеих сторон, а также плана красного командования приводит к выводу, что в течение еще почти целого месяца на фронте должно было сохраниться равенство в силах борющихся сторон. Поэтому вполне можно было ожидать в течение этого времени успешного продвижения на запад белоповстанческих частей, командованию коих надлежало по мере сил использовать благоприятно складывающуюся для них обстановку.
О тех задачах, которые главнокомандующий Народнореволюционной армией тов. Блюхер поставил своим войскам после поражения под Владимировкой – Покровкой, Я. Покус пишет следующее:
«Сосредоточение 1-й Отдельной Читинской пехотной бригады должно было закончиться к 15 янвааря 1922 г. в районе пос. Пашкова – ст. Кундур – с. Черниговка (по реке Хинган). Но ввиду невозможности точно учесть провозоспособность Амурской железной дороги Отдельной сводной бригаде и Надеждинско-Побережной группе тов. Бороздина приказано: вести активную оборону Инского плацдарма и в случае сильного нажима со стороны неприятеля отходить на запад с целью дать 1-й Отдельной Читинской бригаде выигрыш времени, необходимый ей для сосредоточения по реке Хинган (около 200 верст к западу от ст. Ин). Троицко-Савскому кавалерийскому полку, который должен был прибыть на две недели раньше намеченного срока сосредоточения, разрешено остаться в с. Облучье, но без разрешения главнокомандующего Народно-революционной армии в бой не вступать. В случае отступления частей от ст. Ин на запад приказано по пути отступления взрывать железную дорогу и мосты с таким расчетом, чтобы к моменту введения в бой всех войск, сосредоточенных по реке Хинган, бронепоезда противника не могли бы принять участия в предстоящих операциях. Бой решено было принять на архаринских позициях, расположенных между реками Хинган и Архара.
В общем же идея операции, послужившая основанием к составлению вышеуказанного плана, заключалась в следующем: под прикрытием отступающих частей из района ст. Ин совместно с надеждинско-побережной группой произвести сосредоточение 1-й Отдельной Читинской бригады на архаринских позициях. Передовыми частями, изматывая силы противника, оттянуть его вглубь, на запад от хабаровской базы, и, удлинив, таким образом, его коммуникационную линию, ударить по последней партизанскими отрядами Приморско-Хабаровского района и Тунгусским отрядом тов. Шевчука. Действия на коммуникации противника должны заставить его держать на всем протяжении желдорожного пути гарнизоны, выделение которых из армии, естественно, ослабит силы последней.
Подпустив противника к Архаринской позиции, перейти в наступление и, нанеся сильный удар, заставить его откатиться назад, организовав в это время преследование, сначала вдоль Амура, в восточном направлении, а затем от г. Хабаровска, вдоль р. Уссури, на юг с тем, чтобы окончательно ликвидировать белоповстанческую армию.
С 25 декабря 1921 г. оперативный план стал проводиться в жизнь.
Для руководства операцией на фронте решил выехать из г. Читы лично главнокомандующий тов. Блюхер. Тов. Серышев продолжал оставаться командующим войсками Востфронта».
Численность отрядов и групп действующих армий обеих сторон, по приблизительному расчету, на 25 декабря была следующей:

По данному расчету белые превосходят красных на 330 человек. Следует отметить, что вышеприведенные цифры взяты или вычислены приблизительно, так как точных документальных данных с обеих сторон не сохранилось. Поэтому вполне допустимо, что в действительности белые не только не обладали превосходством над красными в 330 человек, но, быть может, даже наоборот, на деле было некоторое превосходство в людях со стороны красных. Во всяком случае, ни та ни другая сторона не превосходила своего противника в численности своих бойцов значительно. Превосходство же одной стороны над другой в 10–15 % общего числа людей, конечно, не могло играть какой-либо роли в исходе того или иного боя, не говоря уже об операциях. Таким образом, будет вполне правильно, если силы сторон будут почитаться равными.
Но если равенство сил действующих армий может быть принято, то, во всяком случае, вышеприведенный расчет сил приводит к вопросу: не мало ли назначил сил генерал Молчанов для преследования главных сил противника? Из расчета явствует, что против 3500 бойцов при 2 бронепоездах генерал Молчанов посылает всего 2240 бойцов при 5 орудиях и оставляет в тылу, в г. Хабаровске, до 1700 штыков и сабель и на разъезде Хор еще 200 сабель. Генерал Сахаров считает, что данный расчет сил не давал полной уверенности белым в успешном теснении противника, хотя бы даже потерпевшего поражение. Генерального штаба полковник А.Г. Ефимов расчет сил, произведенный генералом Молчановым, считает вполне правильным. Исходя из опыта предыдущих боев на Хоре, под Ново-Троицком и у ст. Корфовской, а также учитывая состояние частей Восточного фронта и возможные задания красного командования своим частям, полковник Ефимов приходит к выводу, что части, назначенные генералом Молчановым для преследования разбитого врага, вполне могли и должны были выполнить возложенное на них задание и этих частей вполне было достаточно и дальнейшее усиление группы, назначенной в преследование, не вызывалось необходимостью. Кроме того, в число бойцов, оставленных в Хабаровске, полковник Ефимов вносит поправку – именно 260 человек, представляющих собой чинов баз бригад (иными словами, обозы 2-го разряда), не должно принимать на учет, так как они в большей своей массе представляли собой нестроевых, полустроевых, обмороженных, больных и «ловчил». Я. Покус в своей книге свидетельствует о том моральном разложении, которое охватило части Нарревармии после разгрома их под Владимировкой – Покровкой о бегстве в глубокий тыл комвостфронтом тов. Серышева и, самое главное, о решении главнокомандующего войсками ДВР тов. Блюхера отступать до архаринских позиций, где красные намеревались дать решительный бой и опрокинуть белых. Таким образом, следует признать, что указания полковника Ефимова совершенно справедливы и генерал Молчанов решил правильно задачу, пришел к верному решению, поставив армии вполне посильную задачу.
Организация белоповстанческих частей (группа войск генерала Молчанова) на 25 декабря представляется в следующем виде:


Организация частей Восточного фронта (группа тов. Серышева) после переформирования, произведенного тов. Бороздиным (комиссар Особого Амурского стрелкового полка) по собственному почину 24 и 25 декабря в с. Волочаевка и на ст. Ин, приняла следующий вид:
Отдельная сводная бригада – тов. Попов;
Особый Амурский стрелковый полк;
Отдельный сводный стрелковый полк (остатки 1, 5 и 6-го стрелковых полков);
1-й кавалерийский полк;
Отдельный артиллерийский дивизион
(3 батареи – погружены в эшелоны для большей безопасности);
бронепоезд № 8.
За свои самочинные действия тов. Бороздин через несколько дней был арестован комвостфронта тов. Серышевым и предан суду, но главком тов. Блюхер не только освободил его от суда, но благодарил за приведение частей в порядок и назначил тов. Бороздина командиром вновь созданной Надеждинско-Побережной группы (Я. Покус, с. 35).
24 декабря поздно вечером, после занятия деревни и станции Волочаевка колонной генерала Сахарова, разъезд белой конницы был выкинут вперед по линии железной дороги к реке Поперечной для занятия находящейся там железнодорожной водокачки. Следующая на запад железнодорожная водокачка находилась на ст. Ин, на расстоянии 50 верст от ст. Волочаевки. Занятие и удержание водокачки, что у реки Поперечной, имело для белых большое значение, так как в этом случае понудило бы красный бронепоезд брать воду только на ст. Ин. Высланный белый отряд из Волочаевки подошел к водокачке и занял ее без боя, так как красных там не оказалось.
На другой день, то есть 25 декабря, утром белое командование в Волочаевке узнало, что на реке Поперечной, на водокачке, красный бронепоезд берет воду. В этом ему никто не препятствовал, так как белой заставы на водокачке в это время не было. Как это случилось и почему – выяснить не удалось. Немедленно на водокачку была выслана сильная застава, но, когда она туда прибыла, бронепоезда там уже не оказалось.
25 декабря в 12 часов 40 минут в городе Хабаровске генерал Молчанов подписал приказ № 0289/оп следующего содержания:
«Генералу Сахарову, полковнику Ефимову, подполковнику Дробинину, полковнику Зуеву.
Противник после понесенного поражения решил привести части в порядок планомерным отходом.
Амурский полк, 5-й и 6-й полки, 4-й кавалерийский полк с артиллерией и отряд Мелехина (250 конных чекистов города Читы) отходят по железной дороге.
Партотряд Шевчука, морской отряд и конно-горная батарея отходят на Архаровку по Амуру (Архаровка в 450 верстах от Хабаровска около станции Аркадие-Семеновка), по-видимому, для пополнения.
Я ставлю задачу – вытолкнуть противника в местность без населения, то есть в район ст. Икура – Тихонькая, для чего:
1. Полковнику Зуеву с Ижполком немедленно выступить и к вечеру 26-го перейти в дер. Волочаевка, где поступить в распоряжение начбрига Ижевско-Воткинской.
2. Полковнику Ефимову 26-го перейти с двумя стрелковыми полками и батареей в д. Волочаевку, где, подчинив себе Ижполк, поступить в распоряжение генерала Сахарова.
3. Подполковнику Дробинину, оставаясь в Верхне-Спасском, вести разведку вверх по Амуру и не допустить проникновения противника до Амурской протоке на реку Уссури. Связь со мной постами летучей почты по возможности на местных подводах. Выяснить расстояние и количество дворов в селениях вверх по Амуру.
4. Генералу Сахарову 27-го занять станцию Ин, имея резерв на станции и д. Волочаевка не менее 2 полков. В случае потери связи со мной генералу Сахарову принимать самостоятельные решения для движения вперед.
5. Связь по желдорожному проводу № 481.
Комкор 3, генерал-майор Молчанов».
Задания этого приказа вполне гармонировали с обстановкой, сложившейся на фронте. Как то уже было сказано выше в отрывке, посвященном учету сил частей действующих армий, красным не было смысла защищать какие-либо ближайшие, не имеющие значения пункты до подхода подкреплний, скорое прибытие которых ожидать не приходилось. Количественно красные, быть может, и не уменьшились, так как вместо 300 пленных, потерянных 23 декабря, они получили в свои ряды около того же числа пополнение, но их дезорганизованность, моральная подавленность, паническое настроение заставляли расценивать всю их массу много ниже, чем в боях перед Хабаровском, и являлись более верным залогом дальнейшего их отступления, нежели даже решение их командования. Действительно, чем заставишь держаться на месте часть, потерявшую веру в себя, своих соседей и начальство? Исходя из этого полковник Ефимов считает, что назначение для преследования красных двух белых бригад с их кавалерией и батареями должно считать не только достаточным, но и обеспечивающим успех даже и тогда, если б к красным подошла какая-либо свежая часть или решительными мерами их командиры могли бы восстановить порядок и относительную боеспособность. Относительную потому, что моральную подавленность от ряда поражений излечить вполне никакими мерами нельзя, это дается только победой.
Генерал Молчанов, поручая преследование по железной дороге генералу Сахарову, дает ему больше, чем надо. Для преследования по приказу № 0270/оп, когда предполагалось, что красные, как и раньше, отходят двумя колоннами – по железной дороге и реке, генерал Молчанов назначил в железнодорожную группу две бригады и на Амур одну бригаду, но после того, как выяснилось, что противник целиком отходит по линии железной дороги, генерал Молчанов приказом № 0289/оп усиливает генерала Сахарова отрядом с Амура и полком с тыла, но обязывает Сахарова оставить в Волочаевке два полка для обеспечения своего же тыла. Таким образом, для движения на запад у генерала Сахарова остается в распоряжении пять пехотных полков и две кавалерийские части. Какие полки следовало оставить в Волочаевке, в приказе не указано, то есть генерал Сахаров имел право выбора.
Генерал Сахаров считал силы, переданные ему для удара по ст. Ин (пять пехотных и два кавалерийских полка при семи орудиях), недостаточными, так как считал, что красные, отходя назад, приближаются к своей базе и тем самым усиливаются. Кроме того, он считал, что белоповстанческие части вообще еще недостаточно отдохнули и для совершения пятидесятиверстного перехода без жилья по тайге не готовы. Из этого видно, что генерал Сахаров с состоянием красных не считался, видел в них силы прежнего качества, свои же силы расценивал, видимо, ниже, чем они были в боях перед Хабаровском.
Завязались переговоры по прямому проводу. Генерал Молчанов сразу же согласился, чтобы генерал Сахаров взял с собой хотя бы оба полка, предназначенные оставаться резервом в Волочаевке. Но, соглашаясь на включение этих полков в походную колонну генерала Сахарова, генерал Молчанов возложил на генерала Сахарова обязанность наблюдать за тылом или его обезопасить своими собственными мерами. Относительно же разговоров об усталости и времени движения генерал Молчанов требовал одного: быстроты. Генерал Молчанов вообще никаких задержек не признавал. Да что еще нужно было для отдыха? 5-я колонна имела дневку 25 декабря, 3-я колонна в этот день сделала небольшой переход всего около 15 верст из Самарки в Нижне-Спасское. 26 декабря 3-я колонна перешла в Волочаевку, проделав 12 верст, она имела ту же дневку. Из этого видно, что как относительно оценки сил своих и противника, так и относительно усталости частей генерал Сахаров впадал в крайность. Чтобы прекратить бесполезный разговор и дать понять генералу Сахарову, что его сетования ни к чему не приведут, генерал Молчанов закончил разговор по проводу так: «Ползти, но продвигаться вперед».
Разговор был окончен. У генерала Сахарова колебаний больше нет. Несмотря на разрешение взять хотя бы оба полка, генерал Сахаров все-таки один полк оставил для обеспечения тыла. Генрал Сахаров указывает, что удар по Ину был отложен на 28 декабря. Полковник Ефимов утверждает, что удар по Ину отложен не был, генерал Молчанов требовал быстроты, чтобы не дать противнику лишнего дня для приведения себя в порядок.
В приказе № 0289/оп находим фразу: «В случае потери связи со мной генералу Сахарову принимать самостоятельные решения для движения вперед». Эта фраза не только дает ясное указание частям фронта о заданиях генерала Молчанова – энергичном преследовании разбитого противника, но и говорит о том, что Молчанов, доселе лично руководивший боевыми операциями белоповстанческих частей, по тем или иным причинам принужден был оторваться от частей первой линии настолько, что допускал даже возможность потери связи между собой и этими частями. Подобная фраза не встречалась ни в одном из приказов генерала Молчанова с самого начала похода белых на Хабаровск. Итак, сохраняя за собой общее руководство операциями, генерал Молчанов в течение, во всяком случае, ближайших дней лично руководить операциями частей первой линии не мог, а потому управление этими частями сосредотачивал в руках своего первого заместителя – генерала Сахарова. Почему же генерал Молчанов передавал управление войсками первой линии генералу Сахарову, а сам остался в Хабаровске?
Выше уже говорилось о том, какую огромную роль в ходе дальнейшей борьбы на фронте мог и должен был сыграть Хабаровск, его население. Но конечно, как бы велика и ответственна ни была работа в только что освобожденном Хабаровске, если б положение на фронте требовало личного присутствия генерала Молчанова там, он, вне всякого сомнения, отложив работу по наведению порядков в городе на более благоприятное время, выехал бы на фронт. Но обстановка на фронте не была тревожной, наоборот, казалось, что она сложилась очень благоприятно для белых. Сильно потрепанный и морально подавленный противник отступал, и было ясно, что силам красных, не сумевшим удержать Хабаровска, нет никакого смысла подвергать себя новым поражениям, ввязываясь в упорные бои. Красные должны были отступать. Дело сводилось к преследованию. Обстановка на фронте, таким образом, упрощалась, и, как казалось, генрал Молчанов мог поручить руководство частями первой линии своему заместителю. Но кроме этих двух причин была и еще одна – приезд в ближайние дни (26 или 27 декабря) в г. Хабаровск командующего войсками Временного Приамурского правительства генерала Вержбицкого. Ясно каждому, что командующий войсками должен был в личной беседе с генралом Молчановым обсудить на месте создавшееся положение, наметить будущие задачи. Не нужно забывать, что выполнение заданий директивы командующего войсками от 8 декабря подходило к концу.
Утром 26 декабря из Волочаевки вперед к Ольгохте был выслан командир конно-егерского полка со своими конными. До второй будки (считая от Волочаевки) полковник Степанов дошел спокойно – красного бронепоезда видно не было. Миновав вторую будку, отряд Степанова чуть было не погиб в выемке железной дороги, находящейся между второй и третьей будками (считая от Волочаевки). Здесь желдорожную линию пересекает один из отрогов гор Лумку-Карани. Дело происходило так: не встречая противника, конники спокойно продвигались вперед, двигаясь по самому полотну железной дороги. Справа и слева железной дороги в этом месте сплошной стеной тянутся кусты. Времянка, идущая от самой Волочаевки все время вдоль полотна железной дороги, в нескольких от него шагах, в данном месте не существует, и в случае нужды путник должен забираться на полотно железной дороги вместе со своим возком, ибо кругом – кочки и кусты. Едва успели белые всадники выйти из выемки, оставив позади себя вышеуказанный увал, как красный бронепоезд, стоявший тихо по северную сторону увала и, видимо, поджидавший подхода белых, быстро двинулся на конно-егерей и открыл по ним огонь из пулеметов и орудия. К счастью белых, они были в этот момент в таком месте, где им представилась возможность кинуться в стороны и скрыться в кустах. Если б они кинулись назад, то, сгрудившись в узком дефиле выемки, имевшей почти отвесные и высокие берега, они неминуемо стали бы жертвами огня бронепоезда. То же самое с ними произошло, если бы бронепоезд выскочил на них на минуту ранее, ибо в таком случае белые не имели бы возможности броситься в стороны и им остался бы один только путь – назад. Между прочим, по этой гряде имелись в зиму 1921/22 г. проволочные заграждения, воздвигнутые красными весной 1920 г. на случай наступления японцев. Разлетевшиеся в разные стороны белые конники вскоре собрались все вместе, красный же бронепоезд, видимо опасаясь за свой тыл, удовольствовался тем, что распугнул белых, и поспешил отойти в сторону Ольгохты.
В 16 часов 20 декабря из Волочаевки по времянке на Ольгохту выступила головная бригада отряда генерала Сахарова – 1-я стрелковая. Противника не было. Дорога была малоезженная и такая скверная, что артиллерии и санному обозу не раз пришлось, выехав на самое полотно железной дороги, двигаться по шпалам. Между Волочаевкой и Ином, на протяжении 50 верст, кроме разъезда Ольгохта, находящегося как раз на полпути, и водонапорной будки, что на реке Поперечной, имеется еще только пять железнодорожных казарм-будок, удаленных одна от другой на расстояние 5 верст. Разъезд Ольгохта имеет всего три железнодорожные казармы, столько же казарм на водонапорной будке. Никакого другого жилья во всем этом районе нет. Общий вид местности таков: невысокие холмики покрыты кустарником, иногда невысоким леском. Попадаются прогалины и поляны. Местность болотистая. Ряд осушительных каналов и оврагов пересекают ее.
Была темная ночь, мороз, несколько спавший к вечеру, вновь усиливался. Разведка 1-й стрелковой неслышно приближалась к разъезду. Белые ожидали встретить красных. Несколько конных пошло в обход. Тихо. Кто-то из белых заслышал какое-то движение на разъезде – не красные ли? Минуты тянутся. Сзади, с востока, слышно движение – подходит колонна. Раздается громкий голос комбрига, зовущего одного из своих офицеров. «Тише, разъезд еще не занят…» Со стороны разъезда появляется какая-то фигура – разведчик: «Разъезд занят, пока красных не видно…»
В 22 часа 26 декабря 1-я стрелковая бригада заняла разъезд Ольгохта и расположилась на нем на ночлег. Три маленьких домика оказались набитыми так, что в них нельзя было повернуться, не говоря о том, чтоб можно было растянуться.
Дабы обезопасить себя от неожиданного налета красного бронепоезда, вперед по железной дороге были высланы две партии конных охотников для разрушения полотна. Что сделала одна из этих партий, восстановить не удалось, вторая же, отойдя на несколько верст от разъезда, единственной скверной, ржавой пилой подпилила основные балки одного из небольших железнодорожных мостиков. Белые надеялись, что в случае движения бронепоезда по мосту балки осядут и произойдет крушение. Как выяснилось впоследствии, этого произойти не могло – повреждения были чересчур незначительны.
По занятии разъезда Ольгохта белые установили, что красный бронепоезд не то не успел, не то забыл снять и порвать телефонные провода. Немедленно белые присоединили телефонные провода к своему аппарату. Прошло некоторое время. Вдруг – вызов. Телефонист, стоявший на проводе, немедленно вызвал начштаба бригады, но, пока тот подошел, телефонист, не зная, что ему отвечать на вызов, успел побледнеть от напряжения и волнения. Красный телефонист был толковый, он сразу же потребовал от Ольгохты отзыв, и, как ни пытались белые втереть ему очки, он не сдался. На замену телефониста-красноармейца на инском аппарате очень скоро стал, видимо, какой-то комиссар. Со стороны белых говорили комбриг – полковник Александров и исполняющий должность начштаба бригады поручик Эссен. Красные завели с белыми бессмысленный, нудный, легкомысленно-шутовской разговор. Ольгохта не хотела сначала сдаваться и пыталась уверить, что говорит бронепоезд. Из этого ничего не вышло, и разговор закончился руганью по телефону и обещанием белых загнать красных на Архару.
Наутро 27 декабря телефонист, стоявший у этого улавливающего аппарата, вновь зовет поручика Эссена. Оказывается, красный бронепоезд начал разговор с Ином. Поручик Эссен, ожидавший вызова по телефону от полковника Степанова, ушедшего вперед, поспешно схватившись за трубку и не поняв сразу, что разговор уже идет между двумя лицами, перебил его. Серьезность разговора этим была сразу же нарушена: «Третий? Кто третий?» Поручик Эссен замолчал, но было поздно. Между тем командир бронепоезда, предположительно, не зная о случае накануне, вскоре после того, как поручик Эссен замолчал, пытался вновь завязать деловой разговор с Ином, но это ему не удалось – Ин опять понес околесицу. Командир бронепоезда пытался настаивать, но, ничего не добившись, видимо, снял провода, так как Ольгохте не стало ничего больше слышно.
К 15 часам 27 декабря на разъезд Ольгохта прибыл генерал Сахаров с частями Поволжской бригады. Через небольшой промежуток времени туда же подтянулся полковник Ефимов с частями Ижевско-Воткинской бригады, за исключением одного Ижевского полка, который был оставлен гарнизоном в Волочаевке.