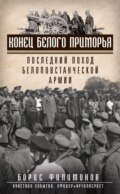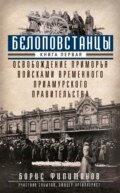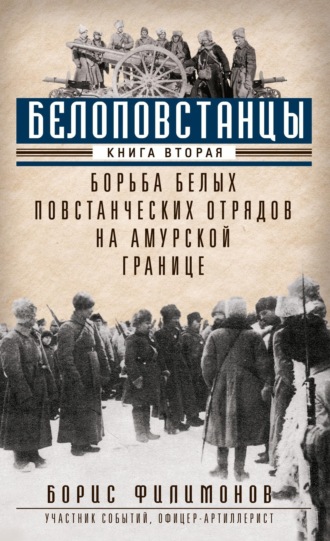
Борис Филимонов
Белоповстанцы. Книга 2. Борьба белых повстанческих отрядов на амурской границе
О всей помощи, которую оказало население белым войсковым частям, рассказать полностью невозможно. Надо было самому быть в рядах белоповстанческих полков, чтоб видеть и чувствовать, как оно относилось к белым бойцам. Тут были не только сведения о месторасположении красных застав, переходах красных колонн, их численности, даже намерениях и иных данных о противнике. Население помогало связываться белым колоннам со своими, спешило накормить и обогреть белых бойцов, радостно делилось с ними куском своего насущного хлеба. Казаки, крестьяне, железнодорожники приветливо встречали белоповстанцев и всячески шли им навстречу. Между прочим, полковник Ефимов отмечает, что через жителей генерал Молчанов получал сведения о ходе дел с переправой красных через Амур у г. Хабаровска. Через жителей же генерал Молчанов передал главному инженеру переправы, что он его расстреляет, если переправа будет сделана. Это «обещание» своевременно дошло по назначению, о чем главный инженер лично и доложил генералу Молчанову по занятии Хабаровска белоповстанцами. Следует так же отметить, что одна из волостей (В…) под Хабаровском постановила полностью выполнять все наряды на подводы для «белоповстанческой армии» и действительно точно выполняла это обязательство по первому требованию белого командования, даже во время отступления белых. В постановлении этой волости говорилось также, что волость признает генерала Молчанова за власть и будет ему подчиняться, но владивостокского правительства, его законов и указов не признает и исполнять не будет. Почему же население так сердечно отнеслось к белоповстанцам? Освобождение от тягот советского режима не может еще привести к тому, чтобы население всей душой своей повернулось к неведомым пришельцам. Поведение белых войск было тем двигателем, что расположило население к ним. Вот тому один из многих примеров: после захвата ижевцами у разъезда Гедикэ (район ст. Котиково) в плен красной конной заставы начальник последней, будучи отпущенным с остальными пленными народоармейцами на все четыре стороны, обратился к начальнику 3-й колонны белоповстанцев с просьбой о выдаче ему его лошади, его собственной, им самим выкормленной. Лошадь всегда считается трофеем, но полковник Ефимов снизошел к его усиленным просьбам и приказал отдать ему его лошадь. Представьте теперь, какое впечатление произвело на его односельчан появление в родном селе (В…) бывшего красноармейца, отпущенного из плена на свободу, да еще с лошадью? Картина эта была для Гражданской войны необычайна и потому впечатление произвела сильное. И потому нет ничего удивительного в том, что население этого села встретило пришедших туда через некоторое время ижевцев как друзей, вдоволь угощало их и даже охраняло от партизан, предупреждая белых о движении последних. Конечно, впоследствии, если бы борьба с красными развилась, из этого села белые, несомненно, получили бы добровольцев и смогли бы произвести успешную мобилизацию.
Порядок в Белой армии, отсутствие обид, уплата за продукты и подводы расположили деревню к белоповстанцам, что было чрезвычайно невыгодно красным. По занятии белыми Хабаровска чины японской миссии рассказывали генералу Молчанову о той тревоге, которая охватила красного командующего, тов. Серышева, «когда ему доложили о перехваченном разговоре генерала Молчанова из Имана с генералом Вержбицким. Генерал Молчанов просил дать ему право утверждать смертные приговоры полевых судов над мародерами, насильниками и т. д. Поводом к этому разговору послужило следующее дело: на Имане фельдфебель одного из белоповстанческих полков продал китайцу на снос железную крышу… За это дело оба они были расстреляны. Об этом эпизоде был разговор у тов. Серышева с членами японской миссии в Хабаровске. «Разве вы недовольны?» – спросили японцы. «Да, это нам не на руку, – последовал ответ. – Генерал Молчанов идет с новыми методами борьбы, и нам будет труднее с ним бороться». Тов. Серышев оказался опытным политиком, он быстро оценил значение перехваченного разговора и, в свою очередь, отдал приказ о расстреле всех мародеров. Но, как это всегда бывает, слава бежала впереди армии, и красная пропаганда не могла вызвать в населении враждебные выступления к белым.
Подводя итоги этой стороне похода, надо признать, что Белая армия сделала все возможное, не только в боевом отношении, но и подготовила дальнейшую борьбу в моральном и политическом отношении, показав себя населению с лучшей стороны, заручившись его симпатиями и некоторыми видами помощи и этим самым сделав возможным в дальнейшем привлечение населения освобожденных районов к активной борьбе с красными. Следует отметить, что возможность платить за все была дана Временным Приамурским правительством, предоставившим армии определенные средства, но у многих видных чинов белоповстанческой армии вызывал сомнения вопрос: «Дано ли все возможное?» На этот вопрос ответ был дан отчасти раньше, отчасти будет дан в дальнейшем.
Какие же задачи ставили себе руководители белого движения в Приморье? Какими путями намеревались они их проводить? В дневнике В.Г. Болдырева находим несколько строк, но строк весьма характерных. Возвращаясь с казачьего круга в Гродекове, Н.Д. Меркулов беседовал в поезде с В.Г. Болдыревым. «Между прочим Н. Меркулов не скрывал некоторого уклона в сторону Америки, откуда будто бы имеются сведения, что вся территория до Хабаровска включительно будет закреплена за их правительством (Временное Приамурское правительство) и что есть предположение направить сюда (Приморье) всех, ныне находящихся на попечении Франции, русских беженцев. Слушая проекты о грядущей судьбе Приморья, за время остановки в Никольске, я (Болдырев) все время наблюдал за деловитой, спокойной работой японских солдат. Они разгружали эшелон с оружейными патронами и чувствовали себя хозяевами».
Как уже неоднократно впереди указывалось, что в целях успешной борьбы с коммунистами белым необходимо было: 1) полное объединение политических групп и партий, борющихся с большевиками, 2) добыча материальных средств, дабы снабдить и обеспечить армию и население всем необходимым. И о том и о другом уже говорилось выше, и то и другое не давало больших надежд на ближайшее будущее. Между тем, двинув войска на Хабаровск, белые не могли рассчитывать, что после захвата г. Хабаровска они могут почить от дел своих на лаврах. Ни белые с красными, ни красные с белыми не могли примириться. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Надежд на заключение какого-либо мирного трактата быть не могло. Поэтому белое командование после захвата г. Хабаровска могло ставить одну из двух задач: 1) продолжать наступление в Амурскую область, ставя очередной целью захват Благовещенска, или же 2) временно остановиться для пополнения рядов, увеличения запасов и выжидания более подходящей обстановки для дальнейшего движения вперед. В случае более длительного перехода к обороне и значительного усиления противника Белой армии необходимо было удержаться на левом берегу Амура до вскрытия этой реки, после чего, используя эту мощную преграду, готовиться к осенней или зимней кампании, уничтожив за время отдыха партизанские отряды в своем тылу и вниз по Амуру. Наличие взятой и исправленной флотилии, базирующейся на реке Уссури, давало возможность держать белым всю оборонительную линию реки Амура от пос. Казакевичево до устья, и, если было бы признано желательным, помогло бы белым удержать плацдарм (тет-де-пон) на левом берегу Амура для облегчения перехода в наступление до зимы. Как наступательная, так и оборонительная задачи Белой армии требовали от правительства и всех белых громадной, неустанной творческой работы. Нужно было пополнить поредевшие белые отряды, довести численность их до состава Народо-революционной армии, обеспечить всем необходимым. Белым отрядам удалось добыть себе оружие (артиллерию целиком и большую часть пулеметов) и огнеприпасы (в том числе 2 миллиона патронов), но надеяться в будущем пополнять нужды одними только трофеями было неразумно, особенно при переходе к обороне. Нельзя забывать, что успехи большевиков были основаны не только на темных инстинктах массы, обманах и подлостях, но и на бешеной энергии их партийных органов и отдельных членов, дисциплине и больших организаторских способностях. Ту же дисциплинированность и организованность, даже в больших размерах, должны были проявить белоповстанцы, весь белый лагерь. Между тем на север двигалась только боевая часть Белой армии, возглавлявшаяся командиром 3-го стрелкового корпуса генерал-майором Молчановым и его штабом. В результате белоповстанцы испытывали недостаток не только в средствах, но и в людях. Действующей армии нужны были не только рядовые бойцы, но и строевые начальники и администраторы. Недостаток в двух последних категориях стал особенно ощутителен после занятия белыми такого большого центра, как Хабаровск. Руководство боевыми операциями на фронте, налаживание жизни большого города, налаживание связи с тылом, привлечение симпатий населения, понуждение его к сотрудничеству с армией и т. д. и т. д. – все это тяжелым бременем легло на двух человек – на генерала Молчанова и его ближайшего и незаменимого помощника – начальника штаба Генерального штаба полковника Ловцевича. Они положительно сбились с ног, не хватало времени…
Как реагировало красное командование на шаги белых, предпринятые в отношении населения? О приказе тов. Серышева о расстреле мародеров и насильников, изданном после того, как красные узнали о подобном решении генерала Молчанова, уже говорилось. Необходимо также отметить другую меру, предпринятую красными в целях удержания населения от выражения сочувствия и оказания помощи белоповстанцам. Как известно, белоповстанцы расплачивались за все забираемое у населения «настоящими» деньгами – иенами и мелким русским серебром. Весть об этом летела вглубь ДВР гораздо быстрее продвижения белых отрядов. Не должно забывать, что в стане красных был денежный голод, продукты и товары можно было достать только у китайцев, а это требовало «настоящих» денег, а между тем денег не было, а потому и не было у населения возможности купить даже самое необходимое. Торговля, а с нею и жизнь замирали все больше и больше на территории ДВР. При подобных обстоятельствах скрыть от населения факт расплаты белыми за все настоящими деньгами было, конечно, невозможно. Одно это могло настроить население местностей, к которым приближались белоповстанцы, благоприятно к ним и создать много неприятностей красным. В минуту тяжелого положения красные не останавливаются ни перед какими мерами. Надо отдать им справедливость в их умении все учесть и принять разумные меры. Вскоре после взятия белыми Хабаровска ими было обнаружено, что красные установили как бы денежную «дымовую завесу». Они стали расплачиваться с жителями прифронтовой полосы золотом и серебром, этим самым обезвреживая невыгодный им порядок у их противников. При такой денежной «дымовой завесе» не было резкой разницы в положении населения по ту или иную сторону фронта. Само собой разумеется, что слух о «белых, расплачивающихся настоящими деньгами», далеко не должен был идти, «так как и у красных такой же порядок». Какова ширина, вернее глубина, этой полосы денежной «дымовой завесы», то есть той полосы, где красные расплачивались серебром и золотом, выяснено белыми не было (?). Через несколько лет за хранение валюты жители этих местностей подвергались смертной казни, но во время Хабаровского похода они, вне всякого сомнения, поверили красным и никак не думали, что здесь кроется один лишь маневр. Случаи захвата белоповстанцами у красных серебра и золота или случаи расплаты красных с населением валютой до занятия белыми г. Хабаровска неизвестны. Надо полагать, что мера эта была принята красными в конце декабря или в самых первых числах января, так как уже 5 января чины Добровольческого (Голубого) полка 2-го отряда захватили в Волочаевке два мешка с разменным русским серебром, а полковник Карлов в тот же день в пос. Надеждинском захватил мешок с золотом у комиссара Павловского-Покровского-Смирнова. Останавливает на себе внимание захват серебра добровольцами: это серебро было отобрано, видимо, у какого-либо начхоза или казначея, которые в первую же ночь по занятии Волочаевки, расплачиваясь с жителями валютой, должны были доказать, что «у красных порядки не хуже порядков белоповстанцев». Сколько здесь расчета и энергии в проведении распоряжений верхов!
К каким же выводам приводит рассмотрение общего положения дела борьбы, сложившееся к началу 1922 г.? Кратко их можно охарактеризовать так:
1. Общее положение в России указывало, что борьба противобольшевиков с коммунистами еще не закончена. Результаты НЭПа и других мер, принятых советским правительством для обезоружения врагов, еще не сказались с достаточной ясностью.
2. На Дальнем Востоке для белых сложилась в общем благоприятная обстановка, которую можно было использовать в целях перенесения борьбы дальше на запад.
3. Борьба должна была продолжаться с увеличенной энергией. Должно было изжить раздоры в тылу, укрепить и расширить объединение, ведущее борьбу, поддержать армию, подготовить партизанские действия и восстания в тылу красных.
4. В белом лагере не замечалось объединения, но разлад все усиливался. В тылу белоповстанцев, во всяком случае, не наблюдалось широкой жертвенности. Белоповстанцам грозила опасность остаться одинокими в борьбе со врагом.
II
Борющиеся армии накануне вторжения белых в Амурскую область
Силы сторон. – Вопрос усиления красного фронта. – Вопрос усиления белоповстанческого фронта. – Отправка на фронт гродековцев. – Первые мероприятия генерала Молчанова в Хабаровске. – Обстановка на фронте на 25 декабря. – План красного командования. – Численность различных колонн и отрядов борющихся армий. – Красный бронепоезд под Волочаевкой. – Приказ генерала Молчанова № 0289/оп. – Причины задержки генерала Молчанова в Хабаровске. – Движение белых к Ольгохте. -1-я стрелковая бригада на Ольгохте
Хотя к началу боевых действий на Дальнем Востоке в 1921 г. силы Народно-революционной армии ДВР (Наррев-армии) превосходили живую силу белых войск (войска Временного Приамурского правительства) в два с половиной раза, тем не менее, ввиду разбросанности сил красных на территории глубиной до 3000 верст, белые, державшие свои силы в это время в кулаке в Южном Приморье, перейдя в решительное наступление в ноябре 1921 г., сумели за месяц с небольшим распылить красные партотряды Приморской области, разбить части Приамурского военного округа ДВР, очистить от противника весь Уссурийский край, захватить г. Хабаровск и приблизиться к границе Амурской области.
В описываемое время Нарревармия могла вывести в поле от 15 000 до 20 000 бойцов с достаточным количеством пулеметов и артиллерии. Кроме того, она имела неограниченный резерв в виде частей Красной армии РСФСР. Силы же белых в то же время исчислялись всего в 6000 чистых бойцов. При полном напряжении своих сил Белая армия (войска Временного Приамурского правительства) могла выставить в поле не более 9000 человек. К тому же у белых пулеметов было совсем немного, а артиллерии они совершенно не имели.
К 20 декабря 1921 г., то есть несколько более, чем по истечении одного месяца борьбы, красные имели на фронте под Хабаровском всего до 4400 штыков и сабель при 7 орудиях против 4100 штыков и сабель при 4 орудиях белоповстанческих сил. Остальные части обеих сторон находились в глубоком тылу и оказать содействие своим частям фронта в ближайшие дни, конечно, не могли. Почему же красные не использовали численное превосходство своей армии? Казалось бы, под Хабаровском, по истечении месяца борьбы, они свободно могли бы иметь силы, превосходящие белых по крайней мере в два раза. Дабы уяснить положение вещей, следует принять во внимание оперативные планы командования Нарревармии того времени: наступательного плана у армии ДВР не было совершенно, так как красным командованием почиталось, что Нарревармия недостаточно сильна для наступления. Красное командование ставило своей армии задачу прикрытия территории молодой республики. Оборонительный план предусматривал развитие ударов вражеских сил по четырем направлениям, из которых два почитались главными и наиболее вероятными, а два других второстепенными, так как не грозили самому существованию ДВР. Главными считались 1) удар вдоль линии КВЖД в направлении на Читу и 2) удар со стороны Маньчжурии и Монголии в направлении на Троицкосавск и Верхнеудинск. Второстепенными считались 1) удар вдоль тракта
Цицикар – Благовещенск и 2) удар вдоль линии Уссурийской железной дороги в направлении на Хабаровск. Теперь становится понятным, почему Хабаровский район не был насыщен частями Нарревармии до начала военных действий.
После того как выяснилось, что белые избрали для своего удара линию Уссурийской железной дороги с выходом на Хабаровск, правительство и командование ДВР, признав необходимым произвести усиление частей группы тов. Серышева, состоявшей из 3 пехотных полков, 1 кавалерийского с артиллерией и 2 бронепоездов, приняло меры по отправке из Забайкалья в Хабаровск частей Забайкальского военного округа, дабы тов. Серышев мог вести успешную борьбу с белыми. Переброска воинских частей из Забайкалья под Хабаровск зимой в полной мере зависит от провозоспособности Амурской железной дороги, между тем расстройство транспорта и крайний недостаток топлива, особенно остро отзывавшийся на эксплуатации Амурской железной дороги, явились теми основными причинами, которые лишили Читу возможности своевременно усилить части тов. Серышева, оборонявшие г. Хабаровск, и создать внушительный кулак для противодействия наступательной операции белых и контрудара по ним.
С первых же чисел декабря красные стали отправлять из Забайкалья на Хабаровск воинские части. Как протекала эта переброска сил – указывается ниже, теперь же, дабы читатель смог бы правильно учитывать обстановку на фронте в дальнейшем и дабы вышеприведенная фраза о «неограниченном резерве Нарревармии в виде частей Красной армии РСФСР» не показалась голословной, нелишне привести следующее показание чинов 5-го полка Нарревармии, взятых в плен белоповстанцами 23–30 декабря, показание, вскрывающее истинные взаимоотношения ДВР и РСФСР. Эти чины показали: «В сентябре 1921 г., будучи командированными из учебной артбригады, они прибыли из Москвы в Читу, где 170 человек из них были разбиты по частям Нарревармии, а остальные 30 человек получили назначение в Хабаровск на пополнение частей Амурской армии. Перед прибытием их в Читу в августе 1921 г. в Читу из Москвы были переброшены две горные батареи (8 орудий) с прислугой, но без конского состава, который ими был получен в Чите. Одна из этих батарей расположилась на Песчанке, другая проследовала на восток». Не говорит ли данное показание за то, что еще задолго до открытия военных действий белыми самостоятельного, независимого ДВР не существовало и так называемое ДВР на деле являлось только одной из провинций РСФСР?
Отправка из Забайкалья на Хабаровский фронт частей Нарревармии протекала следующим образом: 5 и 6 декабря на ст. Чита был погружен в несколько эшелонов и выбыл на восток Особый Амурский полк. 17 декабря, то есть на одиннадцатый день с момента выезда, этот полк прибыл на ст. Покровка, где выгрузился и прошел на фронт в пос. Ново-Троицкий. Пулеметные команды этого полка, шедшие отдельным эшелоном, прибыли на два или три дня позднее.
Вслед за этим полком красные стали перебрасывать на фронт 1-й запасный пехотный полк из г. Верхнеудинска. Один из батальонов этого полка, двинутый со ст. Березовка 5 декабря, прибыл на ст. Покровка 22 декабря, то есть на семнадцатый день пребывания в пути. При своем отъезде этот батальон насчитывал до 500 штыков, но по дороге разбежалось до 200 амурцев и забайкальцев. 3-й батальон этого полка прибыл на ст. Ин только 28 декабря.
6 декабря в Петровский завод прибыл из д. Урлых Троицко-Савский кавалерийский полк для погрузки и отправки на Хабаровский фронт. 14 декабря полк выступил из Петровского завода. Этот полк следовал эшелонами за 3-м батальоном 1-го запасного пехотного полка и к 25 декабря все еще находился на запад от реки Зея.
Таким образом, переброска частей из Забайкалья протекала крайне медленно. Сравнительно быстро на фронт прибыли на пополнение 4-го кавалерийского полка два эскадрона из Благовещенска. Эти эскадроны прибыли в полк 15 и 16 декабря и по переформировании полка образовали 4-й эскадрон.
Однако переброска на фронт вышеперечисленных частей признавалась красным командованием недостаточной. Командование считало, что на фронт следует отправить еще по крайней мере 1-ю Отдельную Читинскую пехотную бригаду, состоящую из трех пехотных полков, дивизиона конницы, дивизиона легкой артиллерии и двух батарей 48-линейных гаубиц. Эта бригада была укомплектована до полного штата мобилизованными в Забайкалье очередного призыва 1898 и 1899 гг. Но отправка бригады на восток считалась в то же время невозможной ввиду неустойчивости положения дел в самом Забайкалье. Тогда правительство ДВР обратилось в Иркутск с просьбой о высылке подкреплений. После двухкратного отказа Реввоенсовета 5-й армии читинскому командованию, мотивированного «напряженностью общего политического положения в Восточной Сибири», Иркутск, убедившись в беспомощности ДВР, обещал двинуть войска Красной армии в пределы ДВР, а потому главнокомандующий Народно-революционной армией тов. Блюхер мог принять 20 декабря решение, в силу которого части тов. Серышева подлежали усилению свежими частями, для чего на Восточный фронт должна была отправиться 1-я Отдельная Читинская пехотная бригада. В Забайкалье после этого из коренных частей ДВР оставалась только одна – конная бригада тов. Каратаева.
Свидетельским показанием лица, прибывшего из ДВР, в Чите 21 декабря располагались: 1) батальон Госполитохраны – 200 штыков и 2) караульный полк – 600 штыков. Из Иркутска через Читу на Хабаровск наблюдалась переброска частей Красной армии. Советские войска следуют под видом частей Нарревармии, имея на рукавах значки ДВР. Среди населения муссируются слухи о том, что читинское правительство на свои войска не надеется, поэтому они останутся в тылу, а на фронт будут выдвинуты части Красной армии, которые будут влиты в полки, находящиеся в боевой линии (разведсводка Управления генерал-квартирмейстера Военно-морского ведомства к 13 часам 2 января 1922 г.).
Исходя из только что приведенных данных, касающихся переброски частей Народно-революционной армии на фронт под Хабаровск, следует признать, что до середины января силы красного фронта – части, ранее находившиеся на фронте, и новые пополнения и подкрепления, могущие быть переброшенными к этому сроку по Амурской железной дороге, не должны были превосходить 5–5½ тыс. бойцов, так как 1-я Отдельная Читинская стрелковая бригада Народно-революционной армии могла прибыть только после указанного срока.
Выдвигая на север сильную группу генерала Молчанова (4 бригады общей численностью в 4100 тыков и сабель), белое командование принуждено было оставить до 1600 штыков и сабель в только что очищенных от противника районах Сучана, Анучина, Приханкалья, Спасска и Имана, дабы поддерживать в них порядок и окончательно ликвидировать оставшиеся в этих районах рассеянные мелкие партотряды, общая численность которых вряд ли во многом уступала оставленным против них частям войск Временного Приамурского правительства. Остальные части Белой армии, общей численностью от 3300 человек, были расквартированы во Владивостоке, Никольске, Спасске и Гродековском районе. Удержание этих сил в Южном Приморье не вызывалось обстановкой борьбы с красными, но так как до 9 декабря Гродековская группа войск все еще не находилась в полном подчинении у командующего войсками Временного Приамурского правительства, то и отправка частей этой группы на фронт для генерала Вержбицкого была делом трудно выполнимым: больше того, видимо, ввиду этого самого неполного подчинения гродековцев каппелевское командование придерживало у себя под руками во Владивостоке крупный и боевой 1-й Уфимский полк и некоторые иные части. Только после полного подчинения гродековцев и ареста генерал-лейтенанта Глебова каппелевское командование, не опасаясь какого-либо подвоха со стороны Гродекова, могло приступить к дальнейшему усилению группы генерала Молчанова. Тому было и время: с фронта одно за другим шли известия о победах белоповстанцев, об их продвижении вперед. Хабаровск пал. Армия захватила материальную часть. Но так как к красным должны были вскоре прибыть покрепления, а белоповстанческие части понесли потери в боях и обмороженными, наконец, г. Хабаровск требовал наличие хотя бы небольшого гарнизона, все это понуждало белое командование к скорейшей отправке на фронт подкреплений. В первую голову должны были отправиться: Иркутская батарея, 1-й Уфимский полк и гродековцы. Таким образом, через каких-нибудь 10–15 дней фронт должен был усилиться на 1500 штыков и 3–5 орудий, то есть общая численность белых бойцов на фронте достигала бы примерно 5½ тысячи, что составляло, по масштабам того времени, силы довольно значительные.
Для более полного ознакомления с постановкой дела отправки на фронт пополнений, а также уяснения сложившихся к этому времени взаимоотношений каппелевцев и семеновцев следует более подробно остановиться на отправке гродековцев на фронт. С 9 декабря, как помечает в своем дневнике В.Г. Болдырев, Гродековская группа войск перешла в «безоговорочное» подчинение командованию. В этот день заместитель командующего группой генерал Правохенский отдал в Гродеково соответствующий приказ, основанием которому послужило распоряжение генерала Глебова, который вслед за сим был командующим войсками отстранен от занимаемой должности и арестован. Гродековская группа войск, представлявшая собой две бригады – Отдельную сводную стрелковую и Отдельную сводную конную, – вошли в состав 2-го стрелкового корпуса. Конная бригада была сведена в полк, а дивизионы стрелковой бригады в течение нескольких дней были переброшены по железной дороге в Никольск. Здесь они разместились в полуразрушенных казармах, в которых не было ни дверей, ни окон. Конвойцы разместились в районе церкви, а маньчжурцы в районе штаба корпуса. Командир бригады полковник Буйвид еще на ст. Никольск-Уссурийск, сразу после прибытия эшелона, получил через подполковника Ктиторова пакет. Через несколько минут полковник Буйвид в сопровождении того же подполковника Ктиторова отбыл во Владивосток по особому вызову. Во Владивостоке он был арестован. Между тем в Никольске командир Конвойного дивизиона, полковник Иванов, уже через 6 часов после своего прибытия в город получил приказ о влитии Маньчжурского дивизиона в Конвойный и о назначении его, полковника Иванова, командиром полка. Так как из всего предыдущего было видно, что каппелевцы намереваются совсем покончить с семеновцами, полковник Иванов отказался от принятия полка. Этого отказа генерал Правохенский, остававшийся еще во главе группы, не принял. Тогда полковник Иванов вторично подал рапорт с отказом от полка. Генерал Правохенский с большой неохотой разрешил полковнику Иванову переговорить с командиром корпуса. Последний принял полковника любезно, отказ принял, но просил несколько дней покомандовать полком, дабы он мог подыскать подходящего кандидата. Вскоре из Владивостока вернулся в Никольск подполковник Ктиторов и был назначен командиром 1-го пластунского полка, образованного из сведенных Конвойного и Маньчжурского дивизионов. Два других дивизиона (Уссурийский и Камский) образовали 2-й пластунский полк, во главе которого был поставлен семеновед – полковник Салазкин. Полки эти составили бригаду, названную 3-й пластунской. Во главе ее оказался генерал Правохенский, а начальником штаба Генерального штаба полковник Леонов. Переформирование дивизионов еще не прошло в жизнь, как комкор генерал Смолин собрал в офицерском собрании Омского стрелкового полка всех офицеров дивизионов и обратился к ним с речью. Суть ее была такова: генерал Смолин не винил в прежней деятельности гродековской группы войск присутствующих офицеров, но прежнее начальство собравшихся руганул, затем он высказал уверенность в том, что стоящие перед ним офицеры такие же хорошие бойцы, как и «мы, каппелевцы», обещал одеть, дать все необходимое, затем сказал, что сведение в полки дивизионов произведено для пользы дела, и, наконец, в заключение предложил скорее готовиться к выступлению на фронт… Переформирование дивизионов шло быстро: отстранив, по их мнению, опасных начальников, каппелевцы не вмешивались больше во внутреннюю жизнь подчинившихся им частей. Но настроение гродековцев было до известной степени подавлено, и они относились с некоторым недоброжелательством к каппелевцам. Вести с фронта, правда, поднимали их настроение, но, с другой стороны, они во всех мерах каппелевского командования видели недоброжелательство, «отношение к пасынкам». Трудно теперь сказать, что могло дать правительство и командование бригаде, отправляемой на фронт, но все же кажется, что дано было пластунам слишком мало. Положение их в Никольске продолжало оставаться скверным: довольствия они почти не получали, казармы были отвратительны, а обмундирование еще того хуже, ведь значительная часть пластунов все еще гуляла в легком летнем дрелевом обмундировании, не только полушубков, но и шинелей у многих не было, и в декабрские дни люди ходили в брезентовых дождевиках. Прибытие подполковника Ктиторова в 1-й пластунский полк значительно подвинуло дело снабжения этого полка: ведь он был для 2-го корпуса «свой», и ему несравненно легче было раздобыть необходимое, нежели полковнику Салазкину – семеновцу. В 1-м полку появились галоши, винтовки (на неполный состав полка) и значительное количество коротких полушубков, правда, старых и гнилых, но все же полушубков. Патронов не было выдано совершенно. Быть может, это произошло случайно, но, быть может, и умышленно, дабы не совсем верные части не возомнили слишком много о себе. 31 декабря пластунская бригада в двух эшелонах, идущих на расстоянии одного перегона, выбыла по железной дороге на север. Штаб бригады шел с 1-м полком. Общая численность бригады равнялась 1100 чинам, из них 650 человек в 1-м полку, а 450 человек во 2-м. Пластуны ехали на фронт, на службу Родине, для борьбы за нее, но, как ни бодрили себя бойцы, скверное состояние их обмундирования давало знать о себе, и пластуны ехали, будучи твердо убеждены в том, что их обделили, что из всех своих посулов каппелевское командование полностью выполнило лишь один – отправку на фронт… Черные мысли лезли в голову, но пасынки-пластуны их отгоняли, они торопились на фронт выполнять свой долг…