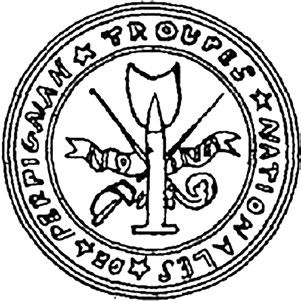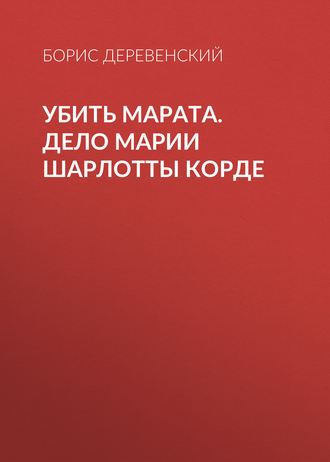
Б. Г. Деревенский
Убить Марата. Дело Марии Шарлотты Корде
Большая Обитель. 7 часов вечера
Столовая мадам Бретвиль была едва ли не самым тёмным помещением в Большой Обители. Через узкое окно с закопчёнными стёклами проникало так мало света, что приходилось зажигать несколько светильников, чтобы что-нибудь разглядеть. Копоть исходила от расположенной здесь же печи, у которой трудилась кухарка Габриель, приходившая в Большую Обитель по утрам и вечерам. Вдоль небелёных кирпичных стен тянулось несколько старинных шкафов, заполненных разнообразной посудой, ещё более ветхой, чем сами шкафы. Посреди столовой громоздился длинный дубовый стол из тех, какие встречаются только в старых дворянских домах или даже в средневековых замках, по обеим концам которого стояло по жёсткому креслу из орехового дерева, а с боков – ещё пара стульев со спинками. Особенно нелепо выглядел установленный здесь же неработающий клавесин эпохи Людовика XIV. После того, как хозяйка закрыла на два замка гостиную, а после неё и другие помещения, которые она сочла излишними для пользования, эта тёмная столовая стала одновременно и кухней, и столовой, и гостиной. О прижимистости владелицы Большой Обители в Кане ходили анекдоты.
В этот вечер, как обычно, мадам Бретвиль заняла место у одного конца стола, Мария – у другого, а кухарка подавала им блюда. Пища тоже была обычной: на первое суп с сушёными грибами, на второе жареный в масле тунец, и в завершение вишнёвый компот.
Неожиданно для Марии на обеде присутствовал Огюстен Леклерк вместе со своей женой. Они сидели рядышком на стульчиках и мило улыбались старой хозяйке и её молодой постоялице. Мария вдруг поняла, почему кузина не ложилась сегодня после полудня: она ожидала своего управляющего.
Когда мадам Бретвиль садилась во главе стола посреди своей челяди, она словно бы сбрасывала с себя груз лет и вновь становилась той величавой надменной особой, которая некогда внушала всему Кану почтение и трепет. Среди её предков были маркизы и графы, а её покойный супруг служил королевским казначеем Нижней Нормандии. Так что чувства собственного достоинства хозяйке Большой Обители было не занимать. Уже отведали первое блюдо, перешли ко второму, а она ни словом не обмолвилась об отъезде Марии. Говорили о том и о сём, и, конечно же, речь зашла о беглых депутатах, уже почти месяц укрывающихся в их городе.
– Да, сейчас все разговоры только о них, – заметил Леклерк, когда к нему обратились. – Хотите знать моё мнение, мадам? Эти господа не внушают мне доверия. Я уже говорил мадемуазель Мари и готов повторить: по-моему, они такие же прохвосты как и все прочие политики. Однако справедливости ради нужно заметить, что с ними обошлись незаконно. И отчего это парижане присвоили себе право решать за всех французов? Члены Конвента избирались не только Парижем, но и всей страной. Поэтому всей Франции и нужно решать, что делать с ними.
– Ты, Огюстен, человек рассудительный и, наверное, говоришь дело, – молвила хозяйка неспешно. – Но ты говоришь по-учёному и поэтому не договариваешь до конца. А я скажу по-простому и скажу всю правду. Все безобразия в стране начались с парижан. Вся зараза пошла оттуда. Кто придумал носить эти дурацкие колпаки, какие раньше носили только балаганные шуты? Это придумали парижане. Где начали перекапывать площади и сажать на них взрослые уже деревья[26], ломая им корни и обрекая на гибель? Начали в Париже. Кто первым навалил перед собором кучу камней и назвал это Алтарём Отечества? Опять-таки парижане. Теперь все толкуют о свободе и равенстве, а двери своих домов, которые раньше всегда держали открытыми, нынче запирают на девять замков. Вот и выходит: свобода нужна тем, кто рвётся творить беззаконие.
– Если я вас правильно поняла, дорогая кузина, – заметила Мария с усмешкой, – парижане не нравятся вам всё же больше, чем бриссотинцы.
Мадам Бретвиль со вздохом откинулась на спинку стула и швырнула салфетку на стол:
– Дались же тебе эти бриссотинцы! Что ты всё трещишь мне о них, не переставая? Кто такие бриссотинцы? Это что, народ такой или такое сословие? Нет ни такого народа, ни такого сословия. Это всё случайные люди: не знаю уж, пострадавшие ли, или получившие по заслугам. Сегодня они есть, завтра нет. Ты, голубушка моя, смотри глубже, туда, где корень зла. Туда, откуда исходят все безобразия.
– Вы говорите о парижанах или о Горе?
– О какой ещё горе? – нахмурилась мадам Бретвиль. – Впору говорить о пропасти, в которую всё катится.
– А я вот что слышала на рынке, – подала голос супруга Леклерка. – Не знаю, верить или нет. Поверить страшно, а не поверить – хуже будет…
– Рассказывай, – милостиво разрешила хозяйка.
– Говорят, что самый главный из этой Горы… Как его?
– Марат, – подсказала Мария.
– Да-да, Марат. Так вот: этот Марат прямо сказал в Собрании[27]: «бретонцы и нормандцы самые ненавистные нам люди на свете». Говорят, что у него уже и списки готовы по всей стране, и количество людей указано, которых нужно истребить: в Ренне – три тысячи, в Бретани – тридцать тысяч, а в нашей Нормандии – триста тысяч. Вот ведь ужас-то какой!
– Не сомневаюсь, что так оно и есть, чтоб его треснуло! – с готовностью согласилась хозяйка. – Кто он по происхождению: итальянец или сардинец? А сардинцы – всё одно, что арабы. От подобных злодеев всего можно ожидать. В Париже уже всё растащили, расхитили, – вот теперь и зарятся на наше добро. Зря, что ли, думаешь, калиф этот присылал сюда своих скупщиков?
– Это которых арестовали в мае месяце?
– Их самых. «Коммерсанты, – говорят, – из Парижа». А под плащами у каждого по пистолету. Нагрянули к Отену, ювелиру: «Как у вас с камушками?» Затем по церквям, по ризницам прошли и всё-всё записывали в книжицу. Золото, стало быть, считали. Один из наших, почтмейстер, улучил момент и заглянул в их карету, а там на стенке буква «М» вышита и под нею скрещённые кинжалы.
– «Марат»! – воскликнула догадливая мадам Леклерк.
– Допустим, дорогая кузина, дело было не совсем так, – возразила Мария со смехом. – И по церквям они не ходили, и о карете, и о скрещённых кинжалах я ничего не слыхивала.
– Ты много чего не слыхивала, голубушка моя, – парировала хозяйка. – Ты и о сардинце-то услышала едва ли не вчера. А я на своём веку слыхала и видала всякое. Поэтому говорю: все бандиты на одно лицо.
Кухарка убрала пустую посуду и подала вишнёвый компот. На колени мадам Бретвиль, мурлыча и облизываясь, взобралась её любимица Минетта. Она жила в Большой Обители уже добрый десяток лет и по своему кошачьему возрасту была такой же старой как и её хозяйка. В прошлом месяце Минетту здорово потрепали соседские кошки, после чего её шею и левую сторону головы охватила огромная опухоль. Чрезвычайно обеспокоенная этим мадам Бретвиль носила кошку к знакомому ветеринару, который сделал ей хирургическую операцию. Теперь, хотя рана понемногу заживала, изрядно похудевшая за это время Минетта, со швами и выстриженной шестью на шее являла собою жалкое и одновременно умилительное зрелище.
Молодую квартирантку Минетта недолюбливала, и когда встречалась с ней, то настороженно поднимала уши и дыбила шерсть. Из-за этой-то кошки и испортились отношения Марии и мадам Бретвиль. Дело в том, что до появления молодой особы Минетта вела себя как вторая хозяйка Большой Обители, для которой открыты все двери. Однажды вечером, идя к себе по тёмному коридору, Мария не заметила, как кошка вместе с нею проникла в её комнату. Только через полчаса, когда непрошеная гостья запрыгнула на стол и попробовала на зуб отмокавшие в стакане кисточки, Мария вскочила на ноги и с помощью чугунной кочерги выгнала кошку прочь. Наверное, при этом Мария слишком энергично размахивала кочергой и пару раз пребольно задела Минетту.
По тому, как повела себя на другой день мадам Бретвиль, Мария не сомневалась, что кошка сумела каким-то образом нажаловаться на неё. «Да, я ударила её, – ответила она на вопрос кузины. – Терпеть не могу, когда кто-то суётся в мою комнату без спроса». После этого случая мадам Бретвиль неделю не разговаривала с Марией, а приходящие в дом гости узнавали, как молодая квартирантка жестоко бьёт и истязает беззащитных животных. Даже после того, как Минетту изодрали соседские кошки, и было понятно, что человек не мог нанести такие раны, мадам Бретвиль всё же не преминула спросить у Марии, не она ли изувечила несчастную тварь.
Итак, обед подходил к концу.
– Совершенно согласен с вами, мадам, – продолжал свою речь Леклерк, всегда согласный с хозяйкой. – В прежние времена господ, подобных мсье Марату, держали в Бастилии под крепким замком. Или четвертовали на Гревской площади, как Картуша. А теперь эти господа заседают в клубах и обществах, пролезли в народные представители и вообразили себя вершителями судеб страны…
Впрочем, владелица дома уже не слушала своего управляющего.
– Завтра я с Габриель собираюсь в Сен-Уэн, – сообщила она, вытирая полотенцем руки. – В девять утра кюре Бюнель отслужит там обедню и примет исповедующихся. Ты пойдёшь с нами, мой друг?
Этот вопрос был обращён к нашей героине. Мария знала, что кузина ходила только к неприсягнувшему кюре Бюнелю и ни к кому другому. Конституционных священников она не признавала, называя их христопродавцами; причём главным христопродавцем в её глазах был департаментский епископ Фоше. И хотя под боком стояли церковь Сен-Жан и просторный собор Сен-Пьер, мадам Бретвиль тем не менее ходила в пригород Сен-Уэн, где в каком-то частном доме служил ещё тот самый священник, из-за которого разгорелся сыр-бор в ноябре 91-го и который уже третий год упорно отказывался присягать Конституции. Именно у этого кюре, в тесноте и духоте его каморки выстаивало мессу, пело «Te Deum» и причащалось почти всё пожилое население Кана.
– Я же вам сказала, кузина, что завтра я уезжаю. Мой дилижанс отправляется в одиннадцать утра.
– В одиннадцать? И я узнаю об этом накануне вечером?! Всего за несколько часов?! Хорошенькие дела… – покачала головою старушка, стараясь не выдать своего изумления. – И что же: ты и вещи уже собрала?
– Мой саквояж ждёт меня в бюро дилижансов.
Теперь четыре пары удивлённых глаз воззрилось на Марию; на лицах кухарки, управляющего и его жены был написан один и тот же вопрос: «Не случилось ли чего-нибудь, мадемуазель?» У кухарки даже задрожала в руках посуда, и Марии показалось, что чашки и тарелки вот-вот упадут на пол. Милая добрая Габриель, души не чаявшая в молодой госпоже, исполнявшая все её прихоти, – уж она-то никак не заслужила такого обращения. Наша героиня покраснела и поспешно добавила:
– Но вам не стоит волноваться. Я уезжаю всего на пару недель. Габриель облегчённо вздохнула, супруги Леклерки вернулись к трапезе, но мадам Бретвиль всё ещё не сводила со своей квартирантки испытывающего взора:
– И куда едешь?
– В Аржантан. К отцу.
– С кем?
– С одной подругой.
– Но ты ведь только что ездила к отцу, на Пасху…
– Я была у отца в апреле, дорогая кузина, – уточнила Мария. – А сейчас уже июль. Прошло почти три месяца.
– Да, три месяца, – хмыкнула хозяйка. – Раньше ты так часто не ездила. Если раз в год соизволишь повидаться с роднёй, и за то низкий поклон. А теперь гляди-ка, как зачастила. С чего бы это вдруг?
– Время вообще течёт быстрее, – заметила Мария философски. – То, что прежде совершалось за годы и годы, теперь происходит в считанные дни.
– Не понимаю, о чём ты говоришь…
– О стремительности событий, дорогая кузина. Читайте современные исторические труды.
Чело мадам Бретвиль потемнело.
– Огюстен! – обратилась она к управляющему таким торжественным тоном, что тот вздрогнул и едва не поперхнулся компотом. – Прошу вас, пощупайте пожалуйста лоб вашей новой хозяйки. Мне кажется, у неё жар и она бредит. Я предупреждала, что чтение этих новых книжек не доведёт до добра.
Леклерк виновато заморгал глазами, словно бы его уличили в чём-то нехорошем. Старая госпожа ревниво относилась к своему мажордому; ей не нравилось, если он служит кому-то ещё, да и без её ведома. Слова «ваша новая хозяйка» неприятно резанули слух всех присутствующих, за исключением одной лишь жены Леклерка, простодушной женщины, с детства воспитанной своим отцом, камердинером маркиза Бланжи, в уважении к титулованным особам.
– Что же вы не предупредили нас, дорогая Мари, что собираетесь в путь? – всплеснула она руками. – Вам не нужно было утруждаться. Огюстен отнёс бы ваш багаж к дилижансу.
– Достаточно уже, что он таскался с нею в Интендантство, – холодно вставила мадам Бретвиль. – Сегодня у неё на уме одно, завтра другое… Сама не знает, что делает. Если она хочет, чтобы он прислуживал ей всякий раз, когда ей что-нибудь взбредёт в голову, пусть выплачивает ему отдельное жалование.
– Неужели вы думаете, – огрызнулась Мария, – что мсье Леклерк оказывает мне услуги за ваш счёт?!
Леклерк сделал умоляющий жест в направлении старой госпожи и поспешил разрядить накаляющуюся обстановку:
– Успокойтесь, мадам, прошу вас. Не нужно ссориться в такой день! – Затем повернулся к Марии: – И вы, мадемуазель, пожалуйста, не обижайтесь на мадам. Всё это от того, что она расстроена тем, что вы уезжаете. Видимо, вы сообщили ей об этом столь внезапно, что она никак не может оправиться от неожиданности. Понимаете? Она по-своему привязана к вам, – право, привязана! – и ей будет очень грустно, если вы уедете надолго.
Хозяйка хотела что-то возразить, но не смогла открыть рта. Внезапная слеза скатилась по её щеке, и она отвернулась, чтобы никто этого не заметил. Её семнадцатилетняя дочь, которую также звали Мария, единственный плод её постылого брака с королевским казначеем, последняя отрада жизни, зачахла и умерла в 1789 году, в год начала Революции. После её похорон Бретвиль два года не снимала траура, а улыбка навсегда исчезла с её лица. Собственно говоря, старая хозяйка немного пришла в себя и ожила лишь тогда, когда в её доме появилась молодая родственница из Аржантана. Только после приезда Марии Большая Обитель вышла из летаргического сна, вновь расцвели цветы на заброшенной клумбе и престарелая вдова вернулась к своим обычным хлопотам по хозяйству.
У самой Марии подкатил к горлу ком и слёзы готовы были вот-вот брызнуть из глаз. Ведь кроме неё никто в этом доме не догадывался, что завтрашний отъезд её станет окончательным, и она уже никогда не вернётся.
– Но… почему же надолго? Я же сказала, что уезжаю всего на пару недель. Сколько раз я ездила к отцу, и это не вызывало такого беспокойства. Что же переменилось теперь? Уверяю вас, всё будет как обычно. Я только проведаю отца и сестру и тут же вернусь.
Противиться тому, чтобы Мария проведала своих ближайших родственников, естественно, никто не смел. Мадам Бретвиль беспокоилась по другому поводу. У неё были все основания считать, что Мария чего-то не договаривает. Никогда ещё её квартирантка не собиралась в дорогу так скрытно и не сообщала окружающим о своём путешествии всего за несколько часов до отъезда. Она и саквояж заблаговременно отнесла в бюро дилижансов, да так, что этого никто не видел. Сегодня, чтобы пройти к себе, она вздумала воспользоваться чёрным ходом, а между тем мадам Бретвиль ещё месяц назад запретила ей открывать старую рассохшуюся дверь в маленьком дворике и даже забрала ключи от неё. Значит, квартирантка где-то раздобыла ключи и пренебрегла хозяйским запретом, и всё это ради того, чтобы входить и выходить незаметно для остальных, живущих в доме. С чего бы вдруг такая таинственность? А теперь ещё эта чрезвычайная спешка…
– Проведать отца и сестру – это хорошо, – кивнула мадам Бретвиль, но в голосе её звучало прежнее недовольство. – Это поступок воспитанной дочери. Если бы ты ещё столь же усердно исполняла то, чему тебя учили в монастыре! Когда ты последний раз была в церкви? Когда последний раз исповедовалась?
Мария примирительно улыбнулась:
– Дорогая кузина, я бы с радостью пошла с вами к мсье Бюнелю. Но, увы, я должна ехать.
– Отложи выезд.
– Но я уже заказала себе место в дилижансе и заплатила вперёд!
– Матерь Божия, Пресвятая Дева! – всплеснула хозяйка ладонями, поднимая глаза к потолку. – И хватает же у неё денег разъезжать туда-сюда! Скажи: откуда у тебя деньги? Своими руками ты ни одного су не заработала.
– Я откладывала из того, что присылал мне отец, – обиженно молвила Мария; ей стало неудобно перед Леклерками, которые могли подумать, что она сидит нахлебницей на шее у бедной старушки.
– Когда нужно что-то для дома, по хозяйству, у неё денег нет, – продолжала ворчать Бретвиль. – А как на карету: нате, пожалуйста…
– Неправда, кузина. Разве я когда-нибудь скупилась на съестное, что полагается к столу? Почти все свечи в этом доме куплены мною, иначе мы бы сейчас сидели в потёмках при одной вашей лампадке. Подтверди, Габриель!
Обращённый к кухарке призыв остался без ответа. Хотя Габриель сочувствовала Марии, но открыто встать на её сторону не решилась, боясь вызвать неудовольствие старшей хозяйки. Нет, против мадам Бретвиль она ей не помощница. Прислуге встревать в господские дрязги – только себе во вред. Остановить назревающую перебранку мог лишь Огюстен Леклерк, слывший у престарелой вдовы рассудительным человеком и в то же время пользовавшийся доверием Марии. Он и в самом деле открыл рот, собираясь что-то сказать, но в этот самый момент мадам Бретвиль сбросила Минетту с коленей, поднялась и, ни слова не говоря, удалилась в свою спальню.
Леклерк перевёл дух, а кухарка удивлённо повела головою: впервые за два года старая госпожа уступила своей квартирантке и не подняла брошенную ей «перчатку». О, это что-то новенькое! Поле боя осталось за молодой госпожой. Неужели слабеет всевластная помещица, плоть от плоти господских кровей, пред которой некогда дрожали не то что дворовые девки, но и крепкие деревенские мужики?! Если так пойдёт и дальше, то глядишь, через месяц-другой хозяйки Большой Обители поменяются местами, и молодая будет командовать старой. Хотя, впрочем, ещё неизвестно, как всё сложится… По напористости и упрямству обе эти дворянки вполне достойны друг друга.
– Благодарю вас, мсье Леклерк, – сказала Мария прежде чем выйти из-за стола, – сегодня вы были весьма предупредительны. Мне хочется также поблагодарить вас за всегдашнюю помощь, оказываемую мне, и за ваши неоценимые услуги. Поверьте, я всегда буду признательна вам.
Вероятно, в словах Марии прозвучало что-то похоронное, отчего управляющий встрепенулся и устремил на неё удивлённый взор:
– Вы так говорите, мадемуазель, будто бы видите меня в последний раз. Я надеюсь ещё немало послужить вам и в будущем.
– Кончено-конечно, мсье! – поспешно улыбнулась она.
В длинном тёмном коридоре прогуливалась хозяйская любимица Минетта. Услышав скрип половиц она настороженно подняла уши и, увидев приближающуюся Марию, тотчас отпрянула назад и юркнула в открытую комнату хозяйки. «Глупое животное, – подумала Мария, проходя мимо. – Что она прячется от меня, будто я её преследую? Чего она боится?»
Зайдя в свой покой, Мария вновь заперлась на крючок, зажгла свечу и опустилась в креслице напротив камина. Взгляд её упал на кучу остывшей золы – всё, что осталось от сожжённых ею бумаг. Некогда один римский полководец приказал сжечь корабли после того, как его армия высадилась в Африке. Тем самым он ясно показал своим легионерам: назад пути нет. Говорят также, что это сделал Фердинанд Кортес, достигнув берегов Мексики. В Нормандии рассказывают нечто подобное о своём национальном герое – Вильгельме Завоевателе, переправившимся через Ла-Манш и покорившим Англию. Но, в конце концов, кто бы это ни был: римлянин, Кортес или Вильгельм, он поступил весьма решительно, исключив возможность всякого отступления. После этого его воинам не оставалось ничего иного, кроме как стать победителями, либо погибнуть. Или – или…
Для нашей героини брошенные в огонь письма, речи, прожекты, брошюры были теми же самыми кораблями, связывающими её с прежней жизнью. Предавая их огню, она рвала с прошлым и устремлялась в будущее. Вперёд и только вперёд! Ни о чём не жалеть! Ничто не должно тянуть назад. Да и что такого замечательного было там, позади, в её прежней жизни, чтобы сожалеть о ней?
День за днём, вечер за вечером, – одна в этих замкнутых стенах, в сгущающихся сумерках, во мраке безысходности сколько дум передумала она, сколько раз приходила в отчаяние от бессмысленности своего существования, сколько раз тяжёлый комок подкатывал к горлу и слёзы ручьями текли из глаз! Так можно сойти с ума. Мария брала себя в руки и чрезвычайным усилием воли заставляла просохнуть глаза. Ведь она ещё так молода! У неё ещё всё впереди. Но что, собственно говоря, впереди? Что может уготовить судьба для представительницы обедневшего дворянского рода? Какую жизнь ей предстоит прожить? Жизнь прилежной дочери, покладистой супруги, доброй матери, мадам Буа-Мари, как того хотел отец, или гражданки Бугон-Лонгре, как советовала кузина, – встречать мужа, возвращающегося со службы или с хмельной пирушки, сажать его за стол, повязывать на его шее салфетку, подавать ночную сорочку, желать спокойной ночи, нянчить детей, хлопотать по хозяйству, варить варенье, отчитывать нерадивую прислугу, запасаться на зиму дровами, греться на солнышке в плетёном креслице, стариться, ворчать на внуков, принимать сердечные капли, слечь от паралича и умереть, – всё.
Для кого-то это и есть жизнь. Но только не для неё, кипучей и деятельной натуры, рождённой для бурь и раскатов грома, потрясающих землю от одного края до другого. Она ещё так молода! Обжигающая кровь струится по жилам и стучит в висках, сердце готово выпрыгнуть из груди. Такая нерастраченная сила коренится в её теле! Перед этой силой падут легионы. Ей не хватает только толчка, чтобы вырваться на волю, изливаясь широким потоком, сокрушая на своём пути все преграды. О боги света и тьмы, вложившие в неё эту великую неодолимую силу! неужели вы допустите, чтобы она зачахла, замурованная в четырёх стенах как в могильном склепе? Нет же! Если вы вложили её, то и сделайте так, чтобы эта сила нашла выход. О боги света и тьмы, укажите путь своей избраннице, и тогда она покажет, на что она способна! Тогда, быть может, вы сами всплеснёте руками от изумления, великие боги, и ваши уста застынут в немом восторге.
С этой молитвой Мария легла в постель, закрыла глаза и уснула. За окном тревожно стрекотали сверчки и ночная мошкара тщетно билась в толстое стекло. Плывущий по небу полумесяц цеплялся рожками за острые шпили собора Сен-Этьен. На столе в жестяной плошке, оплывая, догорала свеча. Мария забыла её потушить перед сном. Стояла тихая июльская ночь, – последняя ночь её безвестного прошлого и первая ночь славного будущего.
Жить ей оставалось всего девять дней.
Из мемуаров Луве де-Кувре (1797 г.)
Я заявляю и утверждаю, что она никогда ни единым словом не открывала нам своих намерений. И если бы мы могли ей советовать и руководить её действиями, то разве на Марата захотели бы мы направить её удар? Разве мы не знали тогда, что он настолько был поражён жестокой болезнью, что ему оставалось жить едва ли два дня. Склонимся же пред волей Провидения; это оно пожелало, чтобы Робеспьер и его сообщники были обречены на гибель задолго до того, как это случилось. И давно уже было ясно французскому народу, какая участь ожидает как коварных роялистов, так и честолюбивых тиранов.
Ничто не затмит нам тебя, о Шарлотта Корде! Напрасны усилия рисовальщиков-кордельеров, которые, сговорившись, пытаются обезобразить твои прекрасные черты; ты всегда будешь сиять пред нашим взором, гордая и возвышенная, благородная и целомудренная, какой ты останешься для нас навсегда. Ты сохранила эти достоинства в неприкосновенности, твой пылкий взор умеряла скромность. Этот взор блистал, когда ты нанесла нам последний визит накануне того дня, когда ты пустилась в путь, чтобы убить того человека, ужасные деяния которого не забыты до сих пор, сколько бы не старались затушевать и приукрасить его гнусности.