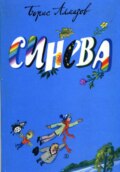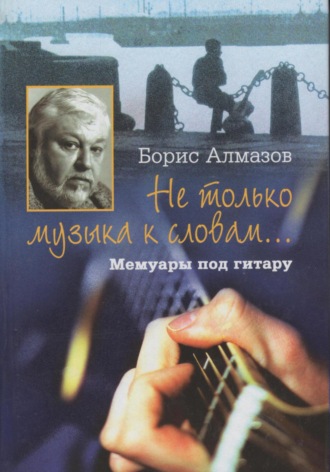
Борис Александрович Алмазов
Не только музыка к словам… Мемуары под гитару
Тонкая рябина
Полвека назад жизнь была совсем другой. Ещё во всем чувствовалась недавно окончившаяся война. Вечерами часто гасло электричество – не хватало угля и торфа для электростанции, и наша коммунальная квартира, где в двенадцати комнатах проживало пятнадцать семей, погружалась в темноту "И у вас нет света? Нет, это не пробки… Теперь надолго … Теперь до утра…" – слышались в коридоре голоса соседок.
Не сговариваясь, жители нашей коммуналки зажигали керосиновые лампы свечки, а ещё чаще, хранившиеся с блокадных времен коптилки, и натыкаясь на многочисленные шкафы, сундуки, ящики с картошкой, что громоздились у дверей каждой комнатушки, шли на кухню. Там было и теплее и светлее, и конечно, же мы, ребятишки вымаливали разрешения нести светлячки коптилок на кухню, а потом затаившись, чтобы не погнали спать, сидели тихонечко, слушая взрослые разговоры о жизни, о любви, о войне, о нас – детях.
Хорошо было сидеть на огромной ещё тепло кухонной плите, среди погашенных примусов и керогазов. В живом свете коптилок кухня не казалась такой громадной и пугающе голой, по стенам её двигались волшебные тени, в сказочные узоры складывались трещины, и пятна, отвалившейся штукатурки, на потолке.
И было чувство одной огромной семьи. Днем на кухне вели примусы и воняли керосинки, крикливо, переругивались женщины, а сейчас было тихо, и никому бы в голову не пришло выяснять, чья очередь выносить помойное ведро или делить плату за свет в местах общего пользования… Может быть виноват в этом первобытный волшебник – огонь, может – темная ночь за окнами, но объединяла нас тогда древняя как мир любовь. Нет, не та, что показывают в кино, не та, что отличается от подлинной любви, как жевательная резинка от краюхи хлеба, а изначальная, что даёт людям почувствовать себя нераздельным единством, духовная любовь, которая не противопоставляет человека – человеку, а человечество – природе, но все согревает, все одушевляет и творит.
Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь,
До самого тына…"
выводила тоненьким голосочком Танечка Грищенко белобрысенькая голубоглазая хохлушечка, сидя на руках у отца – офицера, который все кашлял, все шаркал ночами по коридору… Он единственный сидел с нами на кухне. Остальные офицеры, что жили в нашей квартире и в нашем доме, почему -то этих спевок избегали. А он уже отличался от всех… Потому шептались женщины «Его демобилизовывают по здоровью.»
Я не знал что это такое, но понимал, что если его демобилизуют, то сразу и выселят из нашего дома, потому что дом для военных…
Нас тоже постоянно грозили выселить, несмотря на то, что мама была на фронте офицером медслужбы… Но война-то кончилась, и она была демобилизована. Мамин брат – был начальником штаба полка и спас этот полк, ценою своей жизни, выведя его из окружения.
– Это мало кого волнует! – сказали бабушке, в штабе части, которой принадлежал наш дом. И бабушка согласилась: война кончилась и то, что ее сын спас полк уже никто не помнил, и в полку все сменились.
Да и вообще, как говорил наш сосед дворник и пьяница :
– Пузо старого добра не помнит.
– Так ведь человек ни из одного живота состоит! Есть еще сердце, разум, наконец!....– возражала бабушка.
– Эх, Олимпиада Осиповна! – вздыхал дворник – Старорежимная вы женщина… Москва слезам не верит!
И бабушка поджимала губы – мы были "чуждые", как кричала однажды наша пьяная соседка:
– Интеллигенция недорезанная! Белогвардейцы! Погодите, мы вас всех передушим.
– За что они нас так ненавидят? – спрашивал я бабушку.
И она серьезно ответила:
– Нас победили… И мы должны терпеть… Пока
– Кто победил?
– Хамы.
На этом разговор кончился. И я уже больше не спрашивал почему все готовят на кухне, а мы в комнате,…Почему мальчишки во дворе, дети этих самых офицеров, которые были либо старше ,либо моложе.( В сорок четвертом году никто не рождался.) Они кричали мне: "Тебе мать отчество выдумала."
Не мог же я им ответить: "У меня в метриках прочерк – потому что папа погиб в штрафном батальоне" – было бы еще хуже. Я – внук священника и казачьего офицера, сын лишенки и штрафника, … «Нас победили, и мы должны терпеть!»
А через дорогу,
За рекой широкой,
Так же одиноко
Дуб стоит высокий…
– пела Танечка. Она была тихая девочка и когда приходила в нашу комнатушку, то останавливалась, в изумлении, перед сундуком, на котором стояли мои игрушки, и ничего не трогала, а только смотрела своими небесными глазами. За это я любил ее еще сильнее. И когда она пела, в свете коптилок на кухне, я не выдерживал и подхватывал:
Как бы мне рябине
К дубу перебраться
Я бы тогда не стала
Гнуться и качаться.
Больше всего на свете я любил петь. И все хвалили мой голос и слух, и я знал, что пою хорошо. Но самое главное не знал никто, кроме меня. Того счастья, что я испытывал, наполняясь музыкой от макушки до кончиков пальцев на ногах, когда голос заполняет грудь и ты, кажется, сейчас взлетишь от красоты, силы и самозабвения… Когда я пел, то казался себе большим и сильным, способным защитить и маму, и Танечку Грищенко и ее сутулого отца в фуражке с тусклым козырьком и потертом мундире с облупленным орденом Красной звезды на груди и ее тихую словно выцветшую маму. Они всегда сидели вместе, тесно прижавшись друг к другу. Тоненьким голоском пела Танечка, осторожно вторила ей мама, иногда хрипловатым баском подтягивал, не в силах сдерживаться, отец, но тут же начинал кашлять, и песня обрывалась.
– Грищенко демобилизовали – сказала как-то утром бабушка – услышавши эту весть на кухне. Квартира притихла. Никто не собирался больше по вечерам петь на кухне.
Недели через две я проснулся от топота и громких голосов в коридоре.
– Две недели тебе было сроку! Две недели, – громко говорил твердый уверенный голос.
– Ну, куда ж я пойду? Нашего и села – то нет! Погодите, обустроюсь – съеду! – услышал я голос танечкиного отца.
Я выскочил в коридор, но тут же был схвачен бабушкой за рубашку и втащен назад в комнату, и все же я кинулся подглядывать в щель приоткрытой двери Красивый крепкий офицер, весь в ремнях, грозно говорил:
– Комната выделена мне, а ты задерживаешь! Есть приказ!
Что-то закричали соседки, напирая на солдат, стоявших тут же в коридоре.
– Вяжите его! – скомандовал офицер – Сержант, выносите вещи на улицу!
Солдаты кинулись к Грищенко. Он покорно заложил их за спину и глядя небесными как у Танечка глазами, сказал:
– Что ж ты делаешь, Коля… Мы же с тобой всю войну под одной шинелью…из одного котелка…
В коридоре воцарилась такая тишина, словно всех выключили.
.Красивый офицер стал белым, как потолок, начал рвать ворот гимнастерки и захрипел:
– А как нас в тридцать втором? А?.. Как нас !.. А? – и вдруг заплакал.
Солдаты остановились и Грищенко, высвободив руки, скрутил веревку, молча отдал ее сержанту.
Мы уйдем, – сказал он, – мы уйдем… Только цирк-то не устраивай! Детей не пугай.
Бабушка оттащила меня от двери и заперла ее на ключ,
Сиди! Сегодня их, а завтра нас!
Я готов был кинуться на защиту Танечки и ее отца, но меня ошарашили слезы красивого офицера.
Вечером, за стеною, где прежде помещались Грищенки, зашипел патефон, и рыдающий голос Руслановой запел:
"Степь да степь кругом…"
Новый жилец, заводил и заводил эту пластинку… Ночью мы слышали как он, шаря руками по стенам , проходил в уборную и обратно.
– Он пьет! – сказала бабушка, и я понял, что этот человек для нее больше не существует.
Никто теперь не собирался на кухне, не пел "Тонкую рябину", и в притихшей коммуналке, по ночам только слышался тоскливый распев "Как в степи глухой умирал ямщик…"
По утрам красивый офицер, твердо топая каблуками, начищенных до зеркального отражения, сапог, проходил по коридору. Он был бледен, затянут ремнями. Лицо его было уверено и неподвижно. Но я помнил его хватающим воздух раскрытым в крике ртом, и как он рвал на груди гимнастерку, мотал головой, и как во все стороны летели его слезы: «А как нас в тридцать втором… А?»
– Нас тоже! – сказала бабушка маме, когда они, уверенные, что я сплю и не слышу, обсуждали происшедшее между собой, – Нас тоже столько раз и расказачивали, и раскулачивали, так что же после этого облик человеческий терять?
К нашему новому соседу вскоре приехала жена, и патефон перестал играть одну и ту же песню "Степь да степь кругом". Когда офицер уходил, его жена заводила совсем другую музыку,– "Вальс цветов", "Брызги шампанского" "Рио-риту"… По вечерам они ругались и даже дрались. Потом его куда-то перевели, и в его комнате поселился раскосый киргиз…
Причем тут песни? Да при том, что, во-первых, они так и остались у меня в сердце рядом: «Рябина» и «Степь да степь»…, во вторых, потому что они одного автора – Сурикова
Но это я узнал много позже, когда в третьем классе стали учить наизусть
"Вот моя деревня,
Вот мой дом родной"
Я был уже помешан на книгах, а тут такое счастье – в соседний дом переехала библиотека, и я мог просиживать там, в читальном зале, все свободное время. Там меня никто не трогал, не донимал. И тогда, если мы проходили стихотворение Сурикова, я брал в библиотеке, все что находил этого поэта и читал, читал.... Как помешанный! Конечно же, я глотал книги. Но, клянусь, томик Сурикова я прочитал в четвертом классе, когда мне было одиннадцать лет! И тогда я обнаружил там и "Рябину" и "Смерть ямщика"…
Мы еще только начали проходить то, что пробалтывали в одно слово "устное народное творчество"… Еще тогда я, бодро отвечая на уроках истории и литературы, твердил, как попугай: «народ – творец истории» "народ создатель – великих произведений" …
Но возвращаясь домой, я видел этот безликий народ, что под гудки Охтенского химического, отравлявшего желтым дымом все вокруг, шел домой. И не мог себе представить как народ, пивший и валявшийся у пивных, мог сочинить "Тонкую рябину " и "Ямщика"?
Когда мы проходили Некрасова, со мной приключилась болезнь, и я попал – первый раз – в больницу. Мама бегала ко мне каждый день и однажды принесла три маленьких томика Некрасова, которые я читал с утра до ночи. И там я вычитал в поэме о железной дороге, спор автора и старого генерала: когда тот спрашивает автора, что же Святого Стефана в Риме, и Аполлона Бельведерского – тоже народ сотворил?
Некрасов- то генерала переспорил, а я тогда, грешник, был на стороне генерала…
У меня были доказательства. Стоило мне порыться в библиотеке, я обнаруживал, что у каждой песни, про которую говорили: она – "народная" то есть, следуя школьному учебнику, создана народом, безымянным и талантливым, как я обнаруживал автора стихов, а в примечаниях имя композитора!
Повторяю, примерно с пятого – шестого класса, я был убежден, что песни, любимые народом, не безымянны! Они имеют авторов, которых народ – великий и могучий, не помнит…
И мне было обидно за авторов, а народ не вызывал у меня симпатии, потому, что именно народ устроил революцию и все что потом произошло.
Именно народ раскулачивал и расказачивал, поэтому мы живем в комнатушке с одним окном, едим одну картошку и еще счастливы, поскольку мы "гнилая интеллигенция" и "недорезанные", а я еще хуже: я – безотцовщна!
Я помню все свои тогдашние мысли и чувствования, и мне жаль того мальчика, что смотрит на меня с фотографий. Потому что он страдал, и потому что все это было от жалости: – к маме, к бабушке, к Танечке Грищенко, к ее отцу, ко всем униженным и оскорбленным – которые и есть народ. Народ, обездоленный во всем. Народ, не безликая человеческая масса, вроде той, что валила по улицам во время первомайской демонстрации, а состоящий из людей, тех, что переживают, умирают в песнях и трагедиях, что это видят и говорят о них поэты. Поэт – мысль и голос народный. Он облекают жизнь народа в словесные образы…Он подсказывает народу слова! А то, что народ не помнит имен многих поэтов так это – высшая награда и слава. Как в церкви, как в Писании говориться " из земли восстав, в землю же и пойдем" – это – награда. А имя – это гордыня… Пыль на ветру вечности…
И все же знать имена поэтов нужно! Знать, и снимать шапку перед их памятью, перед сердцем способным вместить такой вселенский размах боли от "Рябины" до " Ямщика"… Перед словами, которые рождены этим страдающим сердцем, найденными с такой пронзительной точностью, что народ причислил их к своему языку.
Какая мука и какое счастье подсказывать народу слова! Поистине это удел титанов! Каким же надо быть поэтом, чтобы и кашляющий, выселяемый Грищенко, и весь в скрипучих ремнях Стороженко, (так, кажется, звали того офицера ) оба вмещались в Сурикова. Хотя чему тут удивляться – оба были жертвы! Только одной жертве выпало еще побыть палачом.
Я видел его почти каждый день, когда он шел, после вечерней поверки, впереди свой батареи, где зычный голос запевалы помогал держать строй.
Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой!
Мы в смертный бой идем за честь страны.
Пылают города, охваченные дымом,
Гремит в лесах суровый бог войны!»
И батарея, чеканя шаг, подхватывала:
Артиллеристы! Сталин дал приказ.
Артиллеристы! Зовет отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей,
За слезы наших матерей.
За нашу Родину! Огонь! Огонь!
– тоже замечательная песня: слова В.Гусева, музыка Т.Хренникова. Как сошла с экрана из кинофильма "В шесть часов вечера после войны", так полвека и гремит, и, я верю, будет греметь во славу русской артиллерии, и никакие перестройки и модернизации не заставят меня забыть тогдашние, первые грохочущие слова:
Узнай родная мать, узнай жена подруга!
Узнай родимый край и вся моя семья
Как жжет и бьет врага стальная наша вьюга
Как волю мы несем в родимые края!»
И это тоже песня моего детства! Тем более, что первый салют в честь победы на Курской дуге прозвучал ровно за год до моего рождения – 5 августа 1943 года, но это другая история.
Я увидел лошадь первый раз
Как это было – я не помню, потому что был мне от роду год. У казаков, из которых наша семья происходит, есть такой обычай: когда мальчишке исполняется год, его сажают в седло. И со мной так было. Друг моего деда (они еще в первую мировую вместе служили) привел лошадь и посадил меня, а все соседи, родственники и знакомые смотрели, что я буду делать. Мне потом не раз в подробностях все это рассказывала бабушка, потому что я не заревел, а уцепился изо всех сил за гриву, что считалось хорошей приметой. Вторая встреча произошла лет пять спустя и могла вообще отбить у меня охоту подходить к лошади. Я попал в колхозную кузницу, где подковывали старую рабочую конягу. Лошадь была привязана в специальном станке, чтобы не могла ударить кузнеца.
Кузнец Алексей Касьяныч, глухой после фронтовой контузии, подмигивая мне и улыбаясь, длинными щипцами выхватил из огня раскаленную докрасна полоску железа и резкими ударами молотка стал делать из нее подкову.
Хозяин лошади поочередно поднимал ей ноги и специальным ножом с острым лезвием зачищал копыта, чтобы на каждом было что-то вроде клина, похожего на римское V. Лошадь нервно переступала, трясла всей кожей, и хозяин кричал на нее страшным голосом. Новую подкову специальными четырехгранными гвоздями – «ухналями» – приколотили к самому краю копыта, чтобы животному было не больно. Но лошадь все равно боялась и нервно пофыркивала. Еще бы не бояться: молот стучит, в горне огонь полыхает, и черный кузнец что-то там делает с твоим копытом, зажав его между колен!
Я далеко стоял, меня не подковывали, и то было страшновато. Поэтому лошадь мне стало жалко. Когда ее, мокрую от пота, вывели из кузницы, привязали к телеге, где был насыпан ячмень с овсом, и она стала жадно им хрупать, я подошел к ней, благо возница увел ковать вторую лошадь, и тихонько погладил по задней ноге и животу – выше я достать не мог. И тут лошадь ударила меня новенькой подковой! Прямо в грудь! Когда я вырос, то понял, что лошадь была старая, умная и только тихо оттолкнула меня. Ударь она как следует, мне бы не писать этой книги. Но тогда я задохнулся от боли и от обиды. Отлежавшись в траве, наплевавшись вдоволь розовой слюной, я пошел домой, дав себе слово никогда не подходить к этому неблагодарному «зверю». Но слово это я скоро нарушил.
Зиму мы жили в Ленинграде, а весной опять двинулись на Дон. Было трудное послевоенное время: вокзалы набиты людьми, попасть на поезд – подвиг. И вот после толкотни, истерик в толпе, давки и духоты в вагонах мы выходили на тихой станции. И дед Хрисанф, тот, что сажал меня на коня, отдавал нам честь, приложив левую руку к козырьку казачьей фуражки. Правой руки у него не было – оторвало в гражданскую, поэтому казалось, что дед все время ходит боком.
Скрипела телега. Под впечатлением того, что мы приехали из Ленинграда, дедушка запевал: «Как в столице Петербурге, в Зимнем каменном дворце. там при каждом при покое караул донцы несуть..” Я очень люблю эту песню. Дед ее замечательно пел и еще свистел в конце каждого куплета, а мама, сняв платок, подпевала ему низким голосом, каким никогда не пела в городе. Она делалась сразу красивее, и даже седина ей шла. Так изморозь не портит степную траву. «…И-и-их, да там при каждом при покое стоять казаки на часах…» – выводил дед умопомрачительной сложности мелодию. А дальше рассказывалось, как «царица Катерина выходила погулять», как она увидела «молодого кавалера при дворцовых при дверях». И был он такой бравый и красивый и так стоял – не шелохнувшись, – что царица остановилась и спросила: «Из какого, казак, войска? Из станицы из какой?» Но казак устав помнил твердо. «Ничего ей не ответил. потому как службу знал, ничего ей не ответил, даже глазом не сморгнул». И тогда царица, тоже, вероятно, вспомнив устав караульной службы, «положила к его ногам медаль»…Дед пел, а мне казалось, что это он про себя, что он—молодой, статный конвоец в красном чекмене, в белой мохнатой папахе —стоит в роскошной дворцовой зале…
Вокруг нас медленно поворачивалась весенняя степь. Сочная, до синевы с белым налетом. трава исполосована ярко-алыми маковыми реками. Они, как сказочные дороги, убегали за горизонт, а там уже показывался багрово-оранжевый край солнца.
И вдруг в это весеннее великолепие из-за холма вылетели два коня. Один – снежно-белый. второй – гнедой. На них не было никакой сбруи, они шли широким галопом, алые маки взлетали красным облаком из-под копыт и плавно кружились на фоне ослепительного синего неба. И меня охватило такое ощущение свободы и счастья, что я тоже запел во всю силу голосовых связок. И уже тогда я почувствовал, что никогда не забыть мне ни этих коней, ни этой степи, ни всей нашей прекрасной земли. .. А кони все скакали, скакали, словно уплывали в мои сны. ..
Прости меня!
Настоящего голода, какой переживала моя мама на Ленинградском фронте, а бабушка в блокаду, я не помню, но голодные времена застал. После войны в Ленинграде мы перемогались, получая хлеб по карточкам, и всё мечтали: вот приедем на Дон…
Возвращаясь после многочасовых стояний в очередях за мукой, которую только начали продавать, после давки, духоты, истерических слухов: «Кончилось! Больше давать не будут!», мы приносили домой три пакета – бабушкин, мамин и мой, и вот тут начинались воспоминания о каких-то сказочных временах, о невиданных урожаях и пышных казачьих калачах. Мне эти рассказы казались фантастическими, как легенда, про золотые яблоки! Разве могут быть яблоки из золота? Но я мечтал. Мечтал и надеялся!
И, наконец, мы поехали туда – в голубые степи, в края ковылей и маков, прозрачных рассветов, пшеничных караваев и всех плодов земных! А когда добрались до нашего хутора – тут-то нас голод и настиг!
И всё оказалось неправдой! Степь была не голубой, а пожухлой, удушающее-пыльной. На её иссечённой трещинами голой земле, как спицы, неподвижно стояли пустые колосья, и над всем этим горело тусклое от жары солнце в белесом мареве засухи.
Коровы с выпирающими мослами, лошади, глядящие по-человечьи измученно и покорно… Мужчины, в основном инвалиды, вернувшиеся с войны, с ввалившимися глазницами, обтянутыми потрескавшейся кожей скулами и лихорадочным блеском в глазах. До сих пор я помню их ссутуленные плечи и огоньки бесконечных самокруток, угольками вспыхивающие в чёрных кулаках. Женщины, плоскогрудые, с опущенными руками, с тонкими, горько поджатыми губами и тёмно-коричневыми лицами под низко надвинутыми платками. Ребятишки, молчаливые, пузатые, тихо выискивающие по канавам и у поваленных плетней какие-то съедобные корешки, щавель, постоянно жующие какую-то траву.
Нас спасали два мешка сухарей, накопленные в Ленинграде. Ежедневно утром и вечером оттуда извлекались два сухаря, и бабушка внимательно следила, как я их ем: «Чтобы по-людски, за столом, не торопясь, чистыми руками, обязательно прихлёбывая из миски отвар свекольной ботвы. Не в сладость, а в сытость»
Боже мой, а что же они с мамой ели? Что вообще ели взрослые, если детей кормили лепёшками из лебеды?
И вот однажды, когда я искал с соседским мальчишкой какие-то «каланчики» и ел их на огороде, его сестрёнка, бледная как бумага даже при степном солнце, с белыми косицами, в выгоревшем до белизны платье, явилась среди пустых грядок и позвала меня:
– К вам дяденька на бричке приехал!
И точно. В нашем дворе стояла таратайка, и лошадь дёргала кожей на животе, отгоняя мух. И уже здесь я почувствовал идущий от тележки запах. Я взлетел на крыльцо и наткнулся на целый пласт этого аромата. Он стоял как раз на уровне моего носа. Из сеней запах потащил меня в комнату к бабушкиному комоду – там, во втором ящике, под старенькой простыней, я увидел четыре огромных, душистых, масляно блестевших корочкой, с высокими пористыми боками белых каравая. От их запаха у меня кружилась голова, но впиться в хлеб, разламывать его, кусать – я не посмел. – С великой натугой я закрыл комод.
– Ничо! – доносился из соседней комнаты мужской голос. – По крайности, войны нет – сдюжим!.. А в июле сколь-нибудь соберём! Местами хлеб есть…
– Егорушка, – ахала бабушка. – Да что ж ты к нам, у тебя своих пятеро!
– А у меня ещё есть! Это нам артельный на трудодни зерно выдал, дай бог ему здоровья: и где взял? А я так думаю… – сказал он, поворачиваясь ко мне. – У моих-то отец есть! Вот он, с руками и ногами, а ему кто, сироте, даст?
Это была самая больная струна в моём сердце, и он потянул за неё – этот незнакомый голубоглазый и весь какой-то вылинявший на солнце Егор.
– Всё же вы гости! Из Ленинграда! В родные как-никак места возвернулись, и тут голодовать… Негоже так-то! Это и дедушке твоему от меня благодарность! – Он протянул ко мне руку, и я сжался, как от удара: «Сиротку жалеет! Добренький!» – Бывало, придёт твой дедушка в класс, – гудел Егор, – высмотрит, кто совсем пропадает, да и сунет ему тишком сухарика от своего пайка. Мне сколь разов перепадало. Святой был человек, я с его грамоты пошёл…
Я возненавидел Егора! Меня затрясло от его белозубой улыбки и жалостных глаз. И как я, пятилетний недомерок, сообразил, чем больнее ударить его?!
– А что это у нас в доме так навозом тянет? – «Вот так тебе! – подумал я. – Пришёл, расселся тут. Жалеет. Разговаривает!»
Запах от Егора шёл густой, в нём мешались конский и овечий пот, махорка и духота овечьего закута.
Егор заморгал белыми ресницами, нахлобучил бесформенную папаху и суетливо заторопился.
– И то! И то… – забормотал он. – Спим-то посреди отары… Принюхавши… Вы уж извините… Надо бы сперва в баню… Но я хлебца вам тёплого, из печи чтобы, хотел…
Когда я ел божественно пахнувший ломоть, грыз хрустящую корку, тонул в белопенном мякише, чувствуя щеками его живое тепло, – я не понимал, какой поступок совершил!
И только потом, когда томление сытости стало склеивать мне веки, я удивился, почему это после ухода Егора ни мама, ни бабушка не сказали мне ни слова. Мама сидела, забившись в угол старенького диванчика, а бабушка гремела посудой.
– Это же надо – взрослому человеку… – наконец проронила она, убирая в буфет тарелку с куском, который я не смог одолеть весь, – Стыд – какой!
– Как стыдно! Как стыдно! – Мама поднялась и стала ходить по комнате, ломая пальцы. – Он в степи, под градом и холодом, под молниями и суховеями, круглый год один, среди овец…
– У него своих детишек голодных пятеро, а он тебе первому… Я – плохая бабушка! Я не умею тебя воспитать! – Это была самая страшная фраза.
Через час такой пытки я уже рыдал, понимая весь ужас совершённого мною.
– Что же мне делать? – закричал я, захлёбываясь слезами.
– Сам набедил – сам и поправляй!
– Да как же! Как же я у него прощения попрошу, если он уехал?
– А что ты думал, когда его обижал? Ты же нас всех, нас всех – и дедушку, и папу, и нас с мамой – на всю жизнь опозорил…
– Он недалеко живёт!—обронила мама.—За оврагом, у кладбища.
– Так ведь уже темно! – кричал я, леденея от мысли, что придётся переходить овраг, где и днём-то страшно. – Меня бугай затопчет!
– Бугай давно в сарае спит.
– Меня волки съедят!
– Пусть! – отрезала бабушка. – Пусть лучше моего внука съедят волки, чем будет внук – свинья неблагодарная!
– Он ведь хлеб! Он ведь хлеб тебе привёз, – прошептала мама.
На улице было действительно совсем темно. Всё, что было привычным и незаметным днём, выросло и затаило угрозу: и плетни вдруг поднялись, как зубчатые стены, и белёные стены хат при луне вдруг засветились мертвенно и хищно.
Спотыкаясь и поскуливая, вышел я к оврагу, где темень лежала огромным чернильным пятном. Я пытался зажмуриться, но глаза от страха не закрывались, а норовили выскочить из орбит. Рыдая, опустился я на дорогу, где под остывшим слоем пыли ещё таилось дневное тепло. Домой повернуть было невозможно: «Ты нас всех опозорил!».
– И пусть! – шептал я. – Пусть меня сейчас волк съест, и не будет меня у них!
И я представил, как все по мне плачут. Но картина не получалась, потому что я знал:
вина-то моя не прощённая! И виноват я по уши! «У него своих детишек пятеро голодные сидят, а он тебе хлеб привёз!»
Из темноты вдруг высунулась огромная собачья голова, ткнулась холодным мокрым носом в мой голый, втянутый от страха живот, потом пофырчала мне в ухо и скрылась.
Как во сне поднялся я, перешёл чёрный овраг и, стараясь не смотреть в сторону кладбища, вышел к Егорову куреню. Окна не светились… И тогда я зарыдал в голос, потому что всё было напрасно: Егор спит, а завтра он уедет и никогда не простит меня!
– Кто здесь? – На огороде вдруг осветилась открытая дверь бани.
– Дядя Егор! – закричал я, стараясь удержать нервную икоту. – Это я! – И, совсем сомлев от страха, от стыда, почему-то совершенно замерзая, хотя ночь была жаркой, ткнулся во влажную холщовую рубаху овчара и, заикаясь, просипел: – Дядя Егор! Прости меня!
За всю мою жизнь не испытывал я большего раскаяния, чем в тот момент.
– Божечка мой! – причитал Егор. – Да закоченел весь! Милушка ты моя!
Потом он мыл меня, потом мы шли домой, всё той же бесконечной ночью. И только много лет спустя, мама рассказала мне, как они с бабушкой шли за мною по пятам, обливаясь слезами. Мама несколько раз порывалась подбежать ко мне, больно маленький я был и очень горько плакал, но бабушка её останавливала: «Терпи! Никак нельзя! Сейчас пожалеешь – потом не исправишь…»
Были у нас потом и праздники, и изобильные столы, и весёлые рыбалки с дядей Егором. Были длинные ночные разговоры под чёрным и бездонным небосводом, но навсегда осталось у меня чувство вины перед тем, кто дал мне хлеб…
Перед Егором – Георгием – Земледельцем – так это имя переводится с греческого.
Вот ведь какая символика получается…