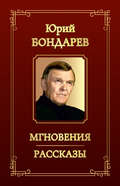Юрий Бондарев
Непротивление
– Вы о ком так беспощадно? – поинтересовался невероятно благопристойно Яблочков и повторил: – Весьма интересно – о ком?
– О том, кто подстрелил вашего пациента! – подал густой голос Борис Сергеевич, указывая на Александра, и вскочил из-за стола, неудержимо заходил по комнате. – А вы глаголите о теории Дарвина! От обезьяны мы, от самой паршивой обезьяны! И не утешайте себя глупыми теориями лживой науки! От этого не поумнеешь! Я современник своих современников и достаточно знаю нынешнюю особь человеческую! Даже по театру! Вот-так-с!..
Яблочков в непонимающей озадаченности пригладил ладонью лысину, обрамленную аккуратным колечком волос, заговорил тем же благопристойным тоном:
– Виноват, Борис Сергеевич, никто другому не может заказать быть глупцом. Испытываю неловкость перед вами. Вы благоразумны и критичны с головы до ног. А я по-эскулапски доверчив к науке с ног до головы. Добавлю: интуиция – это способности врача, даже если он предостаточный осел. Интуитивно чувствую: вы страдаете не больным сердцем, а расстройством нервной системы. Вам кто-нибудь и когда-нибудь говорил о вашем несправедливом красноречии?
– Непременно, всемилостивейший государь! Это как назвать по-вашему, по-военному – удар с фланга? Удар с тыла? Ниже поясницы?
– Мне кажется – нет.
– Прекрасная кажимость! Вы, доктор, и дочь моя сегодня преподнесли мне чудесный подарочек! – вскричал Борис Сергеевич в фальшивом восхищении. – Впрочем, вы наказали меня по заслугам! Как, впрочем, и следует в нашей боевой нравственности! Шекспир, Шекспир и еще раз Шекспир!
– И, может быть, Филонов? – поддержал Яблочков, нацеливаясь очками на картину, освещенную солнцем над письменным столом. – Яркостью он украшает, конечно, кабинет. Но не мешает он вашим нервам криком красок?
– «Мешает»? Да вы что? Филонов – гений! Неповторимый, непризнанный при жизни, забытый всеми подвижник! Сейчас в живописи – везде гениальные ничтожества! Вы только что очень невнятно говорили об интуиции. У Филонова – аналитическая интуиция! Не врачебная, но анали-ти-ческая. Не сомневаюсь – вы не любите его!
– Постараюсь полюбить, Борис Сергеевич.
– Чем он вам не нравится?
– Я не сказал: не нравится. Способный художник для раскрашивания обоев и тряпок. Ни подлежащего, . ни сказуемого. Сплошные прилагательные, неизвестно к чему прилагаемые. Хаос цвета, ни идеи, ни мысли, ни красоты.
– Ах, вам нужна красота! Вы копаетесь в ранах, в гное, в крови, а вам нужна красота! – Бориса Сергеевича охватил непреодолимый и, мнилось, деланный смех. – Красота спасет мир, и вот вам – война, все летит к черту, и миллионы убитых, уродство, беда. Нет, молитвы красоте уже не поют! Ни у кого сейчас нет безопасного убежища. Все время накатываются угрожающие валы. И никто не знает, когда придет девятый. Последний. Гибельный…
Борис Сергеевич умолк, повалился в кресло у письменного стола, снова глубоко запустил обе руки в гривоподобные волосы и так минуту сидел, от всех отрешенный, несчастный, по его крупному породистому лицу проходили тени внутренней муки. Яблочков, румяный более обычного, подождав в раздумье, снял очки и начал усердно протирать их носовым платком, с близоруким сощуром взглядывая на Бориса Сергеевича.
– По моим коротким наблюдениям, с вами что-то случилось. Люди, похожие на вас, даже при всем счастливом везении в жизни, постоянно чувствуют превратности своего положения. И ожидают непредвиденную катастрофу, – сказал он. – Мне это понятно. Но тем не менее вы ничего не ждете от жизни?
Самолюбиво-властный рот Бориса Сергеевича повело зябко. :
– Покоя.
– Покоя? В наше время?
– Да, покоя. В нем свое движение. Боже мой, какая подлая жажда казаться выше, чем ты есть… – с омерзением промычал он в нос, не то оскорбляя Яблочкова, не то говоря о самом себе.
– Закончим на этом. Честь имею! Меня ждут больные.
Яблочков внезапно подтянулся, одергивая белый китель на низкорослой фигуре, щелкнул каблуками, оборотился к Александру, который в течение всего этого разговора не произнес ни звука, с поверяющей придирчивостью оглядел повязку на его руке, пощупал, помял плечо.
– Здесь отдает?
– Немного, – трудно разжал пересохшие губы Александр.
– Все остается в силе. Госпиталь, – сказал настойчиво Яблочков. – Надо обязательно, Саша.
– Нет, Михаил Михайлович, не могу, – еле внятно выговорил Александр. – Я потом вам объясню. Маме ничего не говорите. Отсюда я уйду в другое место. Ребята вам скажут куда.
– Мда. Так. Туманно, – пробормотал неодобрительно Яблочков и тут же добавил: – Ну что ж, главное – не настраивай себя на дурные мысли. Держаться надо, лейтенант полковой разведки! Не первый раз. Верно?
Он слегка притронулся ладонью к плечу Александра, должно быть, утешая этим, затем крякнул и, низенький, несколько подобрав оттопыренное брюшко, кивком попрощался с Борисом Сергеевичем, все в той же отрешенной позе несчастного человека сидевшим за столом:
– Честь имею.
И, подхватив саквояж, двинулся к двери, на ходу кланяясь Нинель, – она стояла у стены, закинув голову назад, особенно бледная от черноты коротких волос, упавших на щеку, и не ответила ни словом, ни жестом. Яблочков упредил:
– Провожать не надо, милая девушка. Я помню, как выйти.
Со страдальческим лицом Борис Сергеевич заерзал бровями, замычал в нос и подал вдогонку Яблочкову повелительный баритон:
– Доктор, прошу вас все-таки позаботиться, чтобы молодого человека взяли в госпиталь сегодня же!
Остановленный властным окриком, Яблочков задержался перед дверью, произнес с сожалением:
– Да, лестницы чужие круты.
И вышел; звук его каблуков по паркету отдался в соседней комнате.
– Я уйду. Не беспокойтесь, Борис Сергеевич, – сказал Александр насколько можно сдержаннее. – Я все понял.
– Папа, что ты натворил! – выговорила Нинель со слезами в голосе и выбежала следом за Яблочковым.
– А, черт бы меня взял совсем! – вскричал Борис Сергеевич и с грохотом кресла отодвинулся от стола. – С ума можно сойти! Полоумие! Дикость!
И размашистыми шагами устремился к двери, распахивая полы своего широкого расстегнутого пиджака.
Этот не во всем понятный, хаотический, похожий на перебранку разговор между Борисом Сергеевичем и Яблочковым поразил Александра не тем, что вернувшийся с гастролей отец Нинель не желал видеть в своем кабинете «больничную палату», вдруг занятую незнакомым «молодым человеком», да еще раненным в драке, но тем, что Борис Сергеевич, позволяя себе безоглядно не стесняться, в каком-то исступлений ринулся на Яблочкова, как бы играя и упиваясь неистребимо-цепкой подозрительностью, свинцовой самонадеянностью, небрежением, и он без колебаний принял решение: «Сегодня же ночью уйду, Надо сообщить об этом Эльдару»…
Уже кабинет перестал заполняться голосами, опустел, и утреннее благолепие августа сверкало в тишине, комнаты. Шторы были раздвинуты, окна открыты, солнечные потоки ломились через весь кабинет. И от летнего солнца, свежего запаха утра в комнате Александр почувствовал облегчение и произнес вслух с хмурой веселостью:
– Честь имею.
Потом он бездумно лежал на диване, расслабленный, ощущая чистый бинт на руке, за которым притупленно ныла боль, чудилось, побежденная, неопасная после прихода Яблочкова. Из этого состояния бездумья его вывели шаги, голоса в другой комнате, они сплетались и отталкивались – голоса Нинель и Бориса Сергеевича.
– Папа, почему ты не хочешь ничего понять? Почему ты отпустил маму на Каланчевку? Доктор был прав, когда сказал, что у тебя что-то с нервами.
– Истерзался… Душа моя истерзана, Нели, – не сразу ответил Борис Сергеевич не артистически отработанным, а вялым, убитым голосом. – Я смертельно устал. Гастроли прошли из рук вон. Собирали половину зала. Аплодисменты раздробленные, жиденькие. Кашляют. Сморкаются. Смеются там, где плакать надо. Играл я бездарно, ужасающе плохо. Мой барин Гаев вел себя, как пьяный извозчик. Получался не «Вишневый сад», а «Вишневый ад»! Неужели я изыгрался, выдохся, постарел и судьба пренебрегает мною? Ты слушаешь меня или думаешь о чем-то?
– Я слушаю тебя. Дальше что?
– Вчера после спектакля за ужином в гостинице поссорился с матерью, надерзил, нагрубил ей. И она оскорбила меня, сказала, что я был не Гаевым, а индюком на сцене, вообще что не намерена больше терпеть мой адский характер. Всю дорогу в поезде не разговаривала, измучила меня молчанием. С вокзала не поехала домой, а отправилась на Каланчевку, к сестре. Какая-то мука египетская! Каланчевка – ее остров! Стоит чуть вспылить, и она – к сестре! Нет, твоя мать жестоко поступает со мной!
– А ты с ней?
– Я люблю ее – вот моя жестокость! Кто-то из обиженных режиссеров сказал, что всех артистов до единого он считает развратниками, проповедующими мораль. Чудовищная клевета! Все мы подвержены одной болезни: казаться выше, чем мы есть! Все думают, как в молодости: о, я не хуже, чем Щепкин или Москвин! Тешу себя тем, что не порок мной владеет, а слабость, какая-то хворь души… Я страдаю, Нели! Я страдаю, но не могу жить в ладу с самим собой…
– Ну зачем же, папа, самоуничижение? Виват. Действительно – жиденькие рукоплескания. Какую противную роль ты сегодня сыграл. Тебе не было совестно перед доктором?
– Нинель, это слишком. Ты безжалостно преступаешь границы. Нет, ты не любишь своего отца.
В его голосе звучала мука до предела уставшего в страданиях человека.
– Прости меня за то, что я вспоминаю… Ведь была права мама, когда вы ссорились и она говорила в обиде, что ты не народный артист, а народный эгоист республики. Жуткие, конечно, слова! Но по настоящему тебя знает ведь только мама.
– Знать, познать! Что значит сие – знание о знании, что ли? Пустопорожняя болтовня! Прискорбно, но я сам себя не знаю, как не знает себя никто!
– Тогда запомни, пожалуйста. Если ты его выпроводишь, то я уйду вместе с ним. Я буду жить у Максима. Я не смогу здесь…
– Нели, родная моя дочь, за что? Вот она, казнь египетская! За нашу с матерью доброту, любовь к тебе ты хочешь предать меня и маму? За то, что мы создали тебе нормальные условия в эти страшные военные годы? Ты не голодала, была одета, жила в этой квартире. Ты в театральном училище…
– Я не сумею быть актрисой. У меня нет таланта. Я не могу его занять у тебя или у мамы.
– Что за дикость!
– Да, папа, нормальные условия. Я слышала, как ты однажды сказал маме, что только материальными благами в наше ужасное время можно сохранить привязанность детей. Это так?
– Боже, спаси и сохрани от лукавого! Нели, ты в самом деле не любишь ни меня, ни мать! И бессердечно предаешь нас!
– Папа, предаешь меня ты. Я не хочу быть бесчестной к человеку, которому нужно помочь.
– Неужто ты любишь его? Неужто ты… Неужто этот незнакомый мне парень имеет с тобой что-то общее?
– Сейчас это не имеет значения.
– Та-ак, дочь моя, та-ак…
И тишина разорвалась, посыпалась, заплясала в столбах солнца серебристо-металлическими пылинками.
– Вывод ясен и ясен: ты его любишь! – речитативом утверждал в другой комнате сгущенный баритон Бориса Сергеевича и вдруг сорвался, взвился, крича: – А он? Он тебя любит? Ложь! Какая может быть между вами любовь? Это изрядная выгода для него! Расчет! Губа не дура! Любовь! Когда ты его могла полюбить? Где встретить? Как? «Она его за муки полюбила». Почему я ничего не знал, не видел его у нас ни разу? Ты же моя дочь, дочь народного артиста, артиста, а не пьяницы водопроводчика из ЖЭКа! Ромео и Джульетта, божественная идиллия! Ты доведешь меня до инфаркта! Ты в гроб меня загонишь! Я ухожу на Каланчевку, к матери! Делайте что угодно, хоть госпиталь открывайте, хоть кафешантан, хоть дом свиданий, хоть квартиру поджигайте! Я не хочу ничего слышать! Царствуйте! Я ухожу!..
– Где оскорбленному есть чувству уголок, – договорила Нинель с непрочной иронией, и голос ее осекся, упал. – Уходи, папа. Упади на колени перед мамой, попроси прощения. Она простит. Уходи, пожалуйста, иначе мы поссоримся окончательно.
– Экая ты у меня дура, дочь! Экая!..
Прогремели по паркету твердые шаги в другой комнате, отдаленно ударила, гулко отдаваясь на лестничной площадке, дверь – и все смолкло.
В течение нескольких минут, покуда она не входила, Александр со всей определенностью оценил жестокую смелость своего положения: укрываясь по воле Кирюшкина в незнакомом доме, он внезапно разрушил что-то в чужой семье. Этот Борис Сергеевич, еще не так далеко зашедший в годах, был человеком избалованного, недоброго ума, привыкшего не укрощать беззастенчивость собственных суждений. Думая об этом, он на ощупь вытянул папиросу из пачки на столике, но закурить не успел. Вошла бесшумно Нинель, словно только что аккуратно причесанная, но лицо по-прежнему было бледно, под глазами пепельные тени, она сказала:
– Мне показалось, ты спишь, а ты лежишь и думаешь о чем-то.
Александр положил незакуренную папиросу в пепельницу.
– Я слышал часть твоего разговора с отцом.
– Не знаю, что ты слышал, – проговорила она, не изменяя тона голоса. – Больше всего мне отвратительна мужская трусость. Сначала он спрашивал меня, кто ты, откуда, что за драка, почему в тебя стреляли, высказал предположение, что тут не исключена темная история. Он как огня боится милиции и всяких этих учреждений: судов, прокуратур. Не знаю почему.
– Пожалуй, это не трусость, – сказал Александр более непринужденно, чем ему хотелось. – Увидеть в своем кабинете незнакомого раненого парня – подумать можно о многом.
Она стояла у дивана, покусывая губы. Он позвал ее, надеясь ободрить:
– Посиди в этом кресле. Я буду просто смотреть на тебя, если разрешишь…
Она наклонилась, со вздохом обняла его, прижимаясь щекой к его щеке, так что он почувствовал мягко-щекотное прикосновение влажной моргающей ресницы. Она разомкнула руки на его шее, и только после молчания ей удалось улыбнуться ему, жалко хлюпнув носом.
– Нинель, я тебя не узнаю, – сказал Александр. – Совсем не нужны слезы.
– Да это так, одна слезинка… но все прошло. Я хотела спросить тебя. О чем ты думаешь, Саша?
– Хочу остаться самим собой, – пошутил он не в меру легковесно, чтобы снизить напряжение неслучайного вопроса. – Знаешь, в любой стране, во все времена недостатка в донкихотах не было.
Она не приняла его фальшивого легкомыслия.
– Донкихоты умерли. А ты знаешь себя?
– Полностью нет. Но иногда чувствую.
Она опять неуверенно улыбнулась.
– А ты не хочешь стать не тем, кто ты есть?
– Этого я не смогу.
– Но ты же убил человека, Саша.
Александр посмотрел на нее. Она столкнулась глазами с его глазами, и губы ее чуть шевельнулись:
– Прости, если напомнила об этой жути.
– О, царица, сотканная из лунного света, сказал бы Эльдар, – проговорил он, поражаясь своему ерническому тону, но не находя в эту минуту ответа, который был бы правдой. – Послушай, Нинель, – заговорил он, уже тщательно расставляя слова, в которых был мучающий его смысл. – Я очень жалею… Жалею, что случайно достал… уложил эту сволочь… которая перестреляла бы всех нас, если бы…
– Достал? Уложил? Что за странные термины?
– Дело не в терминах. Так говорили в разведке.
– Что «если бы»?
– Если бы у меня не было с собой «тэтэ». Так называется пистолет. Я привез его с фронта. Знаешь, Нинель, пуля ведь совершенно равнодушна к тому, кого убивает. А я видел, как эта обезумевшая мразь стреляет на поражение… Он ранил сначала Эльдара.
– И он стрелял в тебя?
– Да.
– И ты выстрелил в него?
– Убивать его я не хотел. Я не целился. А нечаянных возможностей в жизни – за каждым углом. Кто первый нажмет на спусковой крючок.
– Ты говоришь о нечаянных возможностях?
– Да.
– Это как… как судьба?
– Да. И то, и другое. Ответь мне на один вопрос, Нинель. Что сделала бы ты на моем месте, если это можно представить?
– Нет, Саша, я не могу представить, – сказала она. – Но все равно… даже кусачую собаку… я не смогла бы убить.
– Конечно, – согласился он с внезапной усталостью и лег на спину, приложив руку к бинту, плотным корсетом обкладывающему огненное сверление в предплечье.
– Болит? – чутко спросила она, а он, охваченный будто дурманно-сладкой отравой, со стиснутым горлом подумал, что неприкрытые обманчиво порочной завесой ресниц глаза ее наделены радостным даром – загораться и мягкой нежностью, и готовностью покорной помощи.
– Это еще не боль, – сказал Александр и убрал руку с бинта. – Странно… Ты спросила: болит? Так спрашивала мама у отца, когда он умирал в госпитале.
– Саша, милый, – выдохнула она. – Все бы обошлось…
Глава пятая
Стоял теплый и тихий послезакатный час, все мягко золотилось, угасая в вечереющей Москве, над дальними крышами одиноко царила в чистом небе зеленоватая луна. На улицах было светло. Еще не зажигались фонари.
С утра, солнечного и душного, окна были распахнуты настежь, и сейчас в комнате посвежело, везде бродил вечерний свет. Александр лежал один, в полудреме, лицом чувствовал прохладу, слышал, как стихали московские улицы, в этом затихающем шуме звучнее крякали сигналы автомобилей, изредка с опадающим шелестом проходили троллейбусы по расплавленному за день асфальту, слабо доносился электрический треск проводов.
Он любил простодушную городскую жару, палительные летние дни в замоскворецких переулках, когда июльский зной в полуденное время лежит на мостовых тупичков, нежно баюкает, клонит в лень, когда тут пребывает государство тишины и солнцепека, неразрушимый покой в школьных парках, запах сырой земли в тени под сараями на задних дворах, где на приполках в сонной истоме воркуют голуби.
Он любил и ранние утра в своем Монетчиковом переулке, открытые окна в еще росистую сырость тополей; там, в плотной зелени, от взбудораженной возни воробьев трепетала листва, чириканье врывалось в комнату сумасшедшим хором, звенело над спящим двором.
Но ведь был когда-то и маленький немецкий городок со сказочными черепичными крышами, всюду обильно цвели яблоневые сады, дремали весь день, обогретые майским солнцем, и пресно-сладко пахло горячей травой. А он лежал в трофейном шезлонге, читая томик Чехова в дореволюционном издании, найденный в домашней библиотеке разбомбленного на границе Пруссии фольварка, и то смеялся от души над «Пестрыми рассказами» (он запомнил название этой книги), то, отложив книгу, подолгу смотрел в высокое небо, там медленно плыли белыми зенитными дымками облака, а лепестки яблонь планировали ему на грудь, касались шеи, открытой расстегнутым воротником гимнастерки. Он помнил в этом брошенном немецком доме веранду с дрожащей на полу солнечной сетью, заброшенной сюда сквозь ветви сада, упомнил майские закаты, потом сплошь позеленевшее небо светилось до ночи, а вечера были призрачны, чутки, пахучи, верхушки деревьев темнели на светлой незатухающей полосе на западе. И, сладостный в лесной дали, рождался и пропадал голос кукушки завороженным отсчетом неизбывной надежды на возможную близкую радость, и тогда ему думалось, что ради этого ожидания стоило и воевать, и жить.
В этот вечер, глядя на угасающий московский закат, на меркнущие отсветы на мебели чужого кабинета, он вспоминал этот уютный германский городок, май, цветущие яблони, стеклянную веранду, томик Чехова, любимого писателя отца, закаты над садом, голос кукушки, околдовывающий по вечерам обещанием счастливой жизни возвращения в милое, ни с чем не сравнимое Замоскворечье, с его провинциальными переулочками, январскими сугробами у заборов, инеем на трамвайных проводах в новогодние морозы, шуршащими и шумящими во дворах листопадами и незабвенным домиком в глубине двора, со всем школьным, прошлым, ликующим в долгожданном мире.
То было в одна тысяча девятьсот сорок пятом. Потом был фанфарно-победоносный, бескровный марш в Маньчжурии, куда перебросили его дивизию.
«Как счастливо кончилась война в том немецком городке», – думал Александр.
И, обволакиваемый тишиной вечера, приглушенными звуками улицы, Александр устало забылся, но сейчас же был разбужен движением, смехом, голосами в соседней комнате.
Он приподнялся, включил торшер, и в этот миг в кабинет уверенным хозяином вошел Кирюшкин, еще чему-то смеясь, белокурые кудрявые волосы были опрятно зачесаны на косой пробор, глаза щурились со знакомой дерзостью. Комсоставский ремень не без щегольской броскости охватывал педантично заправленную по талии гимнастерку, отчего увеличивался его высокий рост, хромовые сапожки поскрипывали по строевому; в руке он помахивал бутылкой вина.
– Боевой салют, Александр! Принимай гостей! Как настроение в полковой разведке? – сказал он с приветливой удалью, немного наигранной. – Глянь-ка на него, Миша, наш лейтенант выглядит ве-ли-ко-лепно! Образ-цово!
Следом за Кирюшкиным, косолапо переваливаясь на несокрушимых ногах, вероятно, из-за размера обутых не в праздничный хром, а в простые кирзачи, глыбой вдвинулся «боксер» Миша Твердохлебов, на его обширном лице отсутствовало всякое выражение приветливости, только взгляд, обычно непропускающе угрюмый по причине контузии и плохого слуха, испытывающе впился в Александра и, точно прислушиваясь, размягченно и обезоруженно засветился, выдавая свои постоянно зажатые чувства.
– Привет, кореш, – пробасил он и кинул какой-то сверток на кресло, после чего одернул новую гимнастерку, распираемую гигантскими плечами, искоса глянул на Нинель, стоявшую в раскрытых дверях. – Сверточек вы возьмите, дорогуша. Там новый китель для Сашка, поскольку старый обчекрыженный и носить нельзя. И поговорить бы нам надо, дорогуша…
– Во-первых, я не дорогуша, милый гость. Во-вторых, не волнуйтесь, я уйду, – улыбнулась Нинель и, взяв сверток, закрыла за собой дверь в другую комнату.
«Непонятно», – подумал Александр, удивленный праздничным видом Кирюшкина и Твердохлебова, и, чтобы умерить волнение, нашел нужным сказать с безобидной бойкостью:
– Не то дым, не то туман! Головокружительно, кавалергарды лейб-гвардейского полка! К сожалению, нет оркестра, чтобы грянуть встречный марш! Спасибо за визит.
– Что ж, принимай ряженых визитеров, пришли к тебе как в гости, – отозвался Кирюшкин и ловко бросил бутылку Твердохлебову, поймавшему ее огромными клещами рук. – Раскупорь-ка, Мишуня, кагор полагается в госпиталях для поправки. Жив, Сашок?
– Несмотря на все принятые меры, – пошутил Александр. – Пейте без моего участия кагор и поправляйтесь. А я для приличия посижу с вами. Стаканы и рюмки вот там, в роскошном шкафчике возле письменного стола.
Он шутил, заранее закрывая предполагаемые вопросы о самочувствии, о ранении – говорить об этом значило возвращаться туда, в недавнее, о чем вспоминать не хотелось, как о неудавшейся разведке. Но забыть недавнее было невозможно.
Когда Александр, ощущая зыбкую слабость в ногах, легкое кружение в голове, сел на край дивана, а Твердохлебов ударом мощной лапы вышиб пробку из бутылки, Кирюшкин расставил стаканы, заговорил первым:
– Неглупые англичане уверены: лучшая новость – отсутствие новостей. Но все-таки новости бывают и спасательным кругом. О тебе все знаем от Яблочкова. Правильный мужик. Но его план об отправке тебя в госпиталь абсолютно неприемлем. Находиться тебе нужно здесь. Надежно и безопасно. Только здесь. Яблочков будет приходить через день. Главная информация для тебя: Эльдар был у твоей матери, постарался объяснить твой отъезд. Понимаю – это для тебя главное. Эльдар, краснобай и златоуст, знаток премудрости мира, вспомнил всю Библию и все цитаты из Корана. Мать вроде бы поверила.
– Точно, Эльдар хвилософ, голова, – прогудел Твердохлебов, неудобно ворочаясь в тесном для него кресле, отчего оно трещало под его тяжестью. – Хвилософская, можно сказать, голова. Лошадиная.
Александр вытер испарину со лба, спросил, уточняя:
– Мать ничего не сказала Эльдару? Хоть что-нибудь она ему сказала?
Кирюшкин помедлил, обдумывая этот, по-видимому, непростой вопрос, затем проговорил размеренно:
– Уходить, Сашок, от прямого ответа, в сущности, тоже вранье… Мать выслушала Эльдара, конечно, заплакала, потом сказала вот что: «Я так боюсь за него. Не дай Бог, с ним что-нибудь случится»… Вот все, что она сказала. Это точно, до запятой.
– Понятно, – выговорил Александр.
– Мне тоже, – кивнул значительно Кирюшкин. – Даже сверх того. Ну, ты что – кагором лечиться будешь или у тебя по-прежнему полусухой закон?
– Закон я нарушил. Выпил здесь водки. Знобило. Кагор не буду, даже если он приносит наисовершеннейшее здоровье. Пейте во здравие русского оружия, – ответил он не вполне искренней шуткой, и тут же его уколола мысль о том, что необъяснимо зачем он произнес эту хвалу оружию, похоже было, напоминал о безотказности фронтового «тэтэ», оказавшего услугу и Кирюшкину, и Твердохлебову, и Эльдару в том дьявольском лунном саду. – Нет, Аркадий, – заговорил он другим тоном, презирая себя за неудачную шутку. – Нет, здесь оставаться мне нельзя. Приехал отец Нинель и потребовал немедленно освободить кабинет. Я уйду к Эльдару. Он сказал, что в семье не возражают. Да, вот еще что. Тут объяснение по поводу меня произошло между отцом Нинель и Яблочковым – как будто черт их столкнул приехать в одно время. Народный артист был в ярости. Стоило его увидеть – фигура любопытная. Весь властелиноподобный.
– Дубина из дубин. Слава, деньги, женщины, – вяло покривился Кирюшкин. – Если заглянуть в комнату, куда он вошел, там обнаружится полная пустота. Не актер, а накладные усы.
– Ты его когда-нибудь видел? Набросился, аки тигр, не зная…
– Видел. И знаю. В какой-то картине. Играет лихо красавца аристократа. А в общем – алмаз нечистой воды. Даже добряк Яблочков не выдержал и рассказал, как Лебедев тут кипел и брызгал ржавым самоваром. Этому бы артипупу свою душу постирать надо. В срочную химчистку отдать – тогда поймет, что разжирел на народных харчах и бабьих аплодисментах. Попортить бы ему попочку прикосновением грубой обуви где-нибудь в темном переулке – не мешало бы отрезвить знаменитость! Терпеть патентованных проституточек и шкурников не могу! А за войну шкур в фильдеперсовых носках развелось в тылу предостаточно! Всех бы связал одной веревочкой – это безлиственные леса, мертвые! Видел их на войне?
– Ты о чем?
– О предателях.
– А ты только скажи, Аркаша, можно для порядку ляпнуть и по репе, ежели надо, – вплел трубное гудение Твердохлебов в ожесточившуюся речь Кирюшкина. – Поумнеет разом тыловая финтифлюшка. Отрастил морду. В кино видел: ну, репу разнесло! Ширше экрана. Фронтовиков не уважает, а артист хороший. Очень хороший.
Александр сказал отрезвляющим голосом:
– Перестаньте глупить! Не все решается так просто!
На лице Кирюшкина пребывала непроницаемая насмешка:
– Вразуми, Сашок, кем решается? Во имя чего? Ради каких истин? Хреновина! Каждый читает свою Библию. Два человека – две Библии. Треба знати, що брехати, абы гроши тилько мати. Девиз одних. Непротивление и трусливый сволочизм других. Между ними болтается всякая мелюзга, в том числе и великая добродетель. Болтаются, как цветок в проруби. Не могу жить в умелом бездействии. Ненавижу усидчивое безделье исправных бурдаков! Да и ты тоже!..
– К какой категории ты относишь себя, Аркадий?
– Я вечный солдат, Сашок. Знаешь, были в девятнадцатом веке вечные студенты. А я вечный солдат. Поэтому – снаряды рвутся на бруствере. И тех, кто улыбается ушами, а при каждом свисте ныряет задницей в окоп, – презираю и брезгаю, как клопов! Это моя Библия. Как вижу, и твоя. Но разумность и расчет храбрых ребят не отрицаю. А предателей, шкуродеров, лесиков всяких расстреливал бы по приказу двести двадцать семь! По сталинскому приказу. И сколопендре Лесику мы еще припомним Сталинград! И твои дырочки в руке. Прощения тут нет! Унмёглих! Невозможно! Припомним! – подчеркнул он со злой решимостью. – Нас всех до этого не пересажают! Главное – не проколоться. Не быть ушехлопами. Как наш христианин Роман. Танкист сыграл в растяпу! Это ты знаешь?
«Проколоться? Приказ двести двадцать семь?.. – нахмурился Александр. – Что за наваждение? Он говорит так, как если бы вместе со мной видел сон, где он приговорил Лесика к расстрелу, и я все видел и слышал подробно, как наяву. Что он хотел сказать?»
– Как это Роман сыграл в растяпу? – спросил Александр недоверчиво. – Роман с Эльдаром был у меня утром. И растяпой не показался.
– То было утром, Сашок.
Нет, даже на пожаре Александр не видел Кирюшкина в таком состоянии тугой собранности, будто раз и навсегда осознал что-то и пришел к единственному выводу. В его облике исчезла беззаботная снисходительность, зеленые глаза, всегда весело дерзкие, обретавшие змеиную неподвижность в моменты гнева, стали льдистыми, выражая брезгливое неприятие. Он не притрагивался к стакану с кагором. Он решительно и ритмично постукивал пальцами по подлокотникам кресла. Твердохлебов, без вкуса выхлебывая из своего стакана слабенькое винцо, то и дело косился на эти твердые волевые пальцы.
– Что с ним? – поторопил Александр. – Что ты имеешь в виду, Аркадий?
– Роман растяпа и разгильдяй, дьявол бы его взял! – произнес Кирюшкин и сбросил руки с подлокотников кресла. – После того как он развез нас, ему надо было до зеркального блеска промыть пол в машине, чтобы не оставлять никаких следов. Чтобы ни один смертный носа не подточил. На полу ведь была кровь, голубиный помет. Я упустил, не напомнил ему, что блеск навести надо, а он, миленький, сам не допер, не повел ушами и преспокойно поставил машину в гараж. Машина-то была не его, как ты знаешь, а чужая, взятая якобы для перевозки мебели. А утром шоферюга, водитель машины, видать, сквалыга и зануда, обнаружил в кузове странные пятна на брезенте, на полу голубиный помет, кинулся, стервец, к завгару с жалобой: мне, мол, продукты возить, а в машине Билибин устроил безобразие. Завгар осмотрел кузов, поковырял засохшую кровь и, видать, как ищейка, что-то заподозрил. Но к директору, умница, не пошел, знал, что тот будет защищать инвалида Романа, а сообщил, как стало понятно, в известные тебе наблюдательные органы. Ясно как день: служил, подлюга, честно. А уже после обеда Романа пригласил в комнату завгара некто в гражданском из уголовного розыска и с глазу на глаз стал задавать вопросы: зачем брал машину, куда ездил, а если перевозил мебель, то по какому адресу, не подвозил ли кого по дороге, что за пятна в кузове. И прочая, и прочая. Роман понял, что пропал, никакого адреса назвать не сможет, потому что проверят моментально. Сначала молчал, зажатый первыми вопросами, потом сообразил сделать неглупый шаг… – Кирюшкин с насмешливой злостью втянул воздух расширенными ноздрями. – Тут ему хватило сообразительности, танкисту бородатому. Раньше бы соображать надо было! В общем, Роман изобразил приступ контузии – стал заикаться, мычать, дергать башкой, глаза закатывать. Ну, этого мы насмотрелись в госпиталях, изобразить можно. Да Роман и в самом деле контуженый. Малый из уголовного розыска оказался ушлым, сперва глянул с недоверием – хватит, мол, хватит, но изуродованное лицо Романа все-таки в сомнения ввело. И кончилось пока вот чем. Приезжала в гараж из милиции оперативная группа, колупались в машине, скоблили, смотрели, брали на экспертизу. Роману запретили выезд из города, он предупрежден, что вызовут еще побеседовать. Побеседовать, понял, что это значит, Сашок? Особенно когда сделают в лаборатории экспертизу. Техники-криминалисты тугоподвижностью в башках не отличаются. Ребята ловкие и быстрые, даром хлеб не едят.