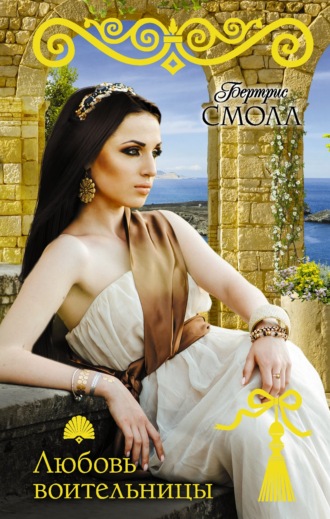
Бертрис Смолл
Любовь воительницы
Когда они добрались до дома, Тамар находилась в полубессознательном состоянии. И только теперь Зенобия решилась посмотреть на истерзанное тело матери. Ужаснувшись увиденному, девочка вскрикнула. Ирис была в неестественной позе распростерта на кровати, ее светло-голубая далматика и белоснежная нижняя туника оказались разорванными, обнаженные груди были все в синяках и в крови. На ногах же виднелись огромные багровые пятна, а ее прекрасное милое лицо… О, оно все было ужасно обезображено, так что с трудом узнавалось.
– Мама!.. – в отчаянии закричала Зенобия. – Мама, мама!..
Она со слезами на глазах смотрела на тело убитой матери. Девочка не в силах была постичь произошедшее и все еще не могла поверить, что мать и впрямь мертва.
– Уберите отсюда ребенка! – приказал Забаай. – Девочка не должна на это смотреть.
– Нет-нет! – закричала Зенобия, отказываясь слушаться отца. – Я должна была это увидеть. И теперь уж ни за что не забуду! Всегда буду помнить, что сделали римляне!
Акбар не стал спорить с младшей сестренкой – просто подхватил ее на руки и вынес из комнаты. Ее горестные рыдания разрывали ему сердце, и в какой-то момент он с тяжелым вздохом опустился на ступени лестницы, что вела в нижний уровень дома, и стал покачивать сестру, словно убаюкивая.
Ирис была всего на несколько лет старше его, когда отец много лет назад привез ее из Египта. Какое-то время юный Акбар воображал, что влюблен в нее. Он подозревал, что Ирис знала об этом, но она никогда не вводила его в смущение и не пыталась с ним заигрывать – всегда относилась к нему с уважением. Из горла Акбара внезапно вырвался стон, и тут же послышался тихий голос Зенобии:
– Почему они убили ее, Акбар, почему?…
– Убили, потому что они римские свиньи! – гневно ответил молодой человек. – Тех, кто родился не в Риме, они называют варварами, но настоящие варвары – это они. Говорят, что Рим основали двое братьев-сирот. Их бросили в холмах умирать, но волчица спасла их и выкормила. Я в это верю! Они и по сей день дикие звери!
– А что они сделали с моей матерью? – Зенобия снова всхлипнула.
Акбар медлил с ответом. Стоило ли отвечать? Ведь Зенобия еще ребенок. Она вполне могла бы быть его собственной дочерью – у него был сын ее возраста. Да и что ей известно о мужчинах и женщинах?… Однако по прошлому опыту Акбар прекрасно знал, что от Зенобии просто так не отделаешься.
– Цветочек, ты знаешь, как происходит зачатие ребенка?
– Да, – тихо ответила девочка. – Мама рассказывала мне об этом. А еще она говорила, что однажды я стану женщиной. Когда мужчина занимается любовью с женщиной, ребенок – естественный плод их союза. И это хорошо – так говорила мама.
– Правильно, – согласился Акбар. В подробности он вдаваться не стал, однако проговорил: – Римляне заставили Ирис заниматься с ними любовью. Когда женщину заставляют, это называется изнасилованием. Римляне изнасиловали твою маму, обесчестили ее, обесчестили нашего отца, нашу семью и всех бедави. А когда закончили, перерезали ей горло, чтобы не осталось свидетелей. Они решили, что моя мать тоже мертва, поэтому не стали добивать.
Зенобия некоторое время молчала, затем спросила:
– Значит, Тамар тоже изнасиловали?
– Да, – со вздохом ответил Акбар. – Мою мать тоже изнасиловали.
– И поэтому она меня спрятала? – допытывалась Зенобия. – Не хотела, чтобы и меня изнасиловали?
– Если бы изнасиловали тебя, сестра моя, бесчестье было бы особенно ужасным. Ведь ты девица, никогда не знавшая мужчину. Часть твоей ценности для будущего жениха – девственность. Видишь ли, мужчина, который женится на девушке, не хочет идти по дороге, по которой уже прошли другие, – объяснил Акбар.
Зенобия молча кивнула. Теперь-то она понимала, почему мать плакала и умоляла римлян пощадить ее. Она пыталась спасти свою добродетель и честь мужа. Какие же ужасные скоты эти римляне! Зенобия желала отмщения.
Внезапно из отцовской спальни донесся вой. Прибыли остальные члены племени, и женщины, вошедшие в комнату, рыдали от скорби и стыда. Забаай бен-Селим вышел из комнаты и сказал старшему сыну:
– Отведи Зенобию в ее комнату. Я должен расспросить ее.
Акбар тотчас же встал и отнес сестру в ее комнату в женской половине дома. Усадив девочку на кровать, он похлопал ее по руке и едва заметно улыбнулся. Лицо же Забаая было мрачным и грозным. Пристально глядя на дочь, он проговорил:
– Я выслушал рассказ Тамар, а теперь хочу услышать твой. Как это произошло?
Тихо всхлипнув, девочка рассказала отцу обо всем, что знала, и она обвиняла в случившемся себя – ведь именно из-за нее обе женщины задержались в доме. Отец ничего на это не сказал. Если Забаай и гневался на свою юную дочь, то гнев его таял перед лицом их общего горя. Римляне за свои злодеяния заплатят! О да, они заплатят! Дюжина его сыновей уже рассыпалась по городу с приказом привести к нему в дом римского губернатора и молодого правителя Пальмиры принца Одената. И только после того, как эти двое увидят, что сотворили негодяи с его женами, он унесет тело Ирис из спальни и похоронит с почетом, которого она заслуживала.
Забаай ласково обнял Зенобию и проговорил:
– Ты ни в чем не виновата, дитя мое. Пока отдохни. А когда надо будет, я пошлю за тобой Баб. Сожалею, но тебе придется еще раз рассказать о случившемся, на этот раз – губернатору.
Забаай вышел из комнаты, чувствуя, как гнев снова прорывается сквозь боль и скорбь. Он ведь всю свою жизнь был гражданином Пальмиры! Кроме того, он еще и римский гражданин – как и все пальмирцы. Просто немыслимо, что солдатам империи позволили выйти из-под контроля в мирном торговом городе! Ему вдруг захотелось остаться одному, чтобы предаться скорби, но он знал, что время для этого еще не настало. Сначала следовало высказать все римлянам и потребовать справедливого отмщения.
Вернувшись в гардеробную при спальне, Забаай смыл с лица пыль пустыни и сменил одежду. Рабы унесли таз с розовой водой, затем надушили и расчесали господину бороду. Он по-прежнему выглядел прекрасно – мужчина среднего роста с черной бородой, чуть-чуть подернутой сединой. И лишь темные глаза, потускневшие от боли, выдавали его чувства.
В комнату вошел старший сын.
– Они здесь, отец, – сообщил он.
Забаай кивнул и вышел из спальни, чтобы поздороваться с гостями.
– Мир тебе, господин мой принц, и тебе тоже, Антоний Порций. Добро пожаловать в мой дом, хотя теперь это дом скорби.
– Мир и тебе, кузен… – начал принц, но договорить не успел: его с раздражением перебил римский губернатор.
– Что за срочность? – проворчал он, прикладывая пальцы к вискам – его мучила головная боль. – Меня буквально стащили с ложа твои сыновья, Забаай бен-Селим. И они заставили пойти с ними безо всяких объяснений! Напоминаю тебе, вождь бедави, что я – имперский губернатор Пальмиры! И ко мне должно относиться с уважением!
– Именно из-за твоей должности, Антоний Порций, я и вызвал тебя сюда.
– Ты?… Ты вызвал меня?! – в ярости завизжал Антоний, и его двойной подбородок задрожал.
– Да, я! – прогрохотал Забаай в ответ. – Я, Забаай бен-Селим, правитель бедави, вызвал тебя! И тебе, господин мой губернатор, придется выслушать меня очень внимательно. Этим утром я со своими людьми покинул Пальмиру, направляясь в наше ежегодное зимнее странствие по пустыне. Как тебе хорошо известно, мы поступаем так каждый год, чтобы во время сезона дождей в пустыне выпасать наши стада. Но двум моим женам пришлось ненадолго задержаться в доме, потому что моя единственная дочь Зенобия не любит эти зимние кочевания. И девочка решила, что если она спрячется, то нам придется оставить ее в Пальмире. Разумеется, женщины ее нашли, и собирались уходить, но услышали чужие шаги на лестнице. Моя старшая жена предусмотрительно спрятала девочку под кроватью. Хвала всем богам за то, что она это сделала!
Так вот, Антоний Порций: римские солдаты вломились в мой дом! Под предводительством своего командира они напали на моих жен, изнасиловали их, а моей несчастной Ирис перерезали горло. Негодяи оставили Тамар, решив, что она уже мертва. И все это время моя бедная маленькая дочь сидела, скорчившись, под кроватью и тряслась от ужаса!
Все эти люди – римские наемники, Антоний Порций! Иностранные наемники! Тебе будет несложно отыскать их. Я требую, чтобы их покарали! И я не удовольствуюсь меньшим, чем их смерть, имперский губернатор!
Ошеломленный рассказом кузена, принц Оденат в растерянности пробормотал:
– Твоя прелестная Ирис мертва? Забаай, что я могу сказать?… Как смогу утешить тебя после такой утраты? – Принц начал рвать на себе одежды, выражая тем самым свое сочувствие. – А что с ребенком, с твоей дочерью Зенобией? Ее не тронули?
– Не тронули, хвала богам! Солдаты не догадались, что моя невинная дочурка тоже находилась в комнате. Найди они мое драгоценное дитя, не сомневаюсь, что и на нее бы жестоко напали! Каких людей ты допускаешь в легион, Антоний Порций? Пальмира не только что завоеванный город, где римляне могут насиловать и грабить сколько им заблагорассудится. Пальмира – торговое государство, жители которого гордятся своим римским гражданством!
Антоний Порций, мужчина среднего возраста, также был потрясен рассказом Забаая бен-Селима. Человек справедливый, он любил Пальмиру, в которой провел почти всю свою взрослую жизнь. Но еще он был римским губернатором, и ему требовалось убедиться в том, что бедави говорил правду.
– Забаай бен-Селим, откуда я знаю, что твои слова не выдумки? – пробурчал он. – Где эти женщины, на которых, по твоим словам, напали? Смогут ли они узнать своих обидчиков?
– Идем со мной! – Забаай первый вошел в спальню, где все еще лежало истерзанное тело Ирис в разодранных одеждах. Тамар же по-прежнему сидела на полу, привалившись спиной к кровати и глядя прямо перед собой отсутствующим взглядом. Причем в жаркой закрытой комнате отчетливо пахло кровью, а над трупом вились жужжавшие мухи.
Римский губернатор с нескрываемым ужасом смотрел на Ирис. Он несколько раз встречался с ней и запомнил как красивую и необычайно любезную женщину. А теперь… К горлу его подкатил ком, он с трудом проговорил:
– Да… вижу. Доказательства неопровержимы. Рим не воюет с Пальмирой и ее мирными гражданами. Мы – хранители мира. Поэтому люди, виновные в этом ужасном преступлении, будут немедленно найдены, предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание.
– Сегодня же, – сквозь зубы процедил Забаай. – До захода солнца этих преступников должны покарать. Душа моей ненаглядной Ирис взывает к справедливости, Антоний Порций!
– До захода солнца? Будь же благоразумен, Забаай бен-Селим! – взмолился губернатор.
– Я вполне благоразумен! – прогрохотал вождь бедави. – Я ведь не послал своих людей в город, чтобы перерезали глотки всем римским солдатам, которых встретят! Вот что такое благоразумие, господин мой!
Внезапно взгляд Тамар сделался осмысленным, и она тихо проговорила:
– Я смогу узнать этого центуриона и его людей, господин губернатор. Я никогда не забуду его дьявольских глаз, напоминающих синее стекло. В них не отражались вообще никакие чувства. Никакие, одна пустота! С ним пришли восемь человек, и лица их будут до конца жизни преследовать меня в снах. Я никогда их не забуду!
Антоний Порций в смущении отвернулся. Он частенько держался высокомерно, но при этом был человеком незлым и порядочным. А сейчас от свидетельств, представших перед ним, его слегка подташнивало.
– Госпожа моя Тамар… – мягко произнес он, снова поворачиваясь к женщине, сидевшей на полу. – Вы сказали, что эти люди – иностранные наемники. А откуда вы это знаете?
– Все они были очень высокие, – ответила Тамар. – С желтыми волосами, ярко-синими глазами и белой, как мрамор, кожей – в тех местах, где она не загорела под нашим солнцем. А разговаривали они… с каким-то гортанным акцентом – как будто не очень хорошо знают латинский язык. И приехали они верхом, господин губернатор. Одеты же были как легионеры. Поверьте, я не ошибаюсь. И то, что мне довелось перенести, не лишило меня рассудка. Я их помню! И буду помнить всегда!
Антоний кивнул и снова спросил:
– А вы совершенно уверены, что они поняли, кто вы такие?
– Мы с Ирис объяснили им это очень подробно, объяснили несколько раз. Но они уже с самого начала были настроены на злодейство, мой господин губернатор. Центурион заявил, что Ирис лжет и что она… – Тамар в испуге взглянула на мужа.
– Ну, что же еще он сказал? – с грозным видом осведомился Забаай бен-Селим.
– Сказал, что она пальмирская шлюха, – прошептала Тамар.
Забаай бен-Селим в ярости взвыл, а Антоний Порций содрогнулся и в смущении пробормотал:
– Я должен спросить вас об этом, госпожа моя Тамар, так что… Скажите, кто именно убил госпожу Ирис? Вы сумеете это вспомнить?
Тамар – ее снова затрясло – тотчас ответила:
– Центурион взял Ирис дважды. И это он убил ее после того, как изнасиловал во второй раз. А я притворилась, что их насилие убило меня, поэтому они оставили меня и не стали добивать.
– Что мог увидеть ребенок? – спросил губернатор.
– Хвала богам, она ничего не видела! – воскликнула Тамар. – Однако слышала все. К счастью, покрывала на кровати скрывали ее от негодяев. Но я никогда не забуду выражения лица девочки. Ее глаза задавали тысячу вопросов, на которые я не могла ответить. Как это отразится на ней, Антоний Порций? Она ведь никогда не видела от людей ничего, кроме добра…
Тут губернатор повернулся к Забааю бен-Селиму и спросил:
– Можно ли подготовить госпожу Тамар к поездке? Я прикажу всему гарнизону собраться у городских стен. С таким свидетелем будет несложно отыскать виновных. У нас имеется только один легион наемников из Галлии. Второй же – из Африки, и люди в нем черны как эбеновое дерево.
– Мне нужен центурион, – негромко произнес Забаай. – С его людьми делайте все, что хотите, но мне нужен именно центурион.
– Да-да, конечно… – поспешно закивал Антоний Порций и тут же добавил: – Только при условии, что ты подвергнешь его наказанию и казнишь перед всем гарнизоном. Я хочу преподать им всем суровый урок, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Нам лучше избавиться от такого отребья!
– Согласен, – отозвался Забаай бен-Селим.
– Я вернусь в город с губернатором, мой добрый кузен, – сказал молодой принц. – Хватит ли вам двух часов, чтобы подготовить госпожу Тамар к поездке в поисках негодяев?
Но Забаай бен-Селим не успел ответить, так как Тамар тут же решительно заявила:
– Да, я буду готова, господин мой принц! И если проживу еще хоть секунду после того, как укажу на тех зверей, мне и этого будет довольно!
Принц Оденат обнял своего двоюродного брата, затем вместе с римским губернатором вышел из спальни. В верхнем коридоре они увидели Зенобию, выходившую из своей комнаты. Баб, служанка ее матери, шла следом за ней. Оденат остановился и поздоровался с девочкой:
– Здравствуй, моя маленькая кузина. Ты меня помнишь?
Зенобия тоже остановилась, и ее красота поразила молодого принца. Он знал, что ей едва исполнилось одиннадцать, но она уже обещала стать необыкновенно красивой женщиной! Она подросла с тех пор, как он видел ее два года назад, но тело ее еще оставалось детским. А ее длинные волосы, распущенные и не связанные лентой, были черны как ясное ночное небо.
Оденат протянул руку и погладил девочку по волосам – как мог бы погладить свою любимую салюки[2], – затем взял ее за подбородок и приподнял милое личико. Волосы у нее были очень мягкие и бледно-золотистая кожа – тоже. Глаза же казались просто невероятными по красоте – миндалевидной формы, с густыми длинными ресницами, они были темно-серые, как грозовая туча, но в их глубине мерцали золотистые искры. Кроме того, у нее был изящный прямой носик и настолько прелестный ротик, что принц с трудом сдержался – ужасно хотелось наклониться и поцеловать Зенобию. Но он тотчас напомнил себе, что эта девочка все еще ребенок. Однако же она была очень соблазнительна – как настоящая нимфа.
– Да, я помню тебя, господин мой принц, – негромко ответила Зенобия.
– Мне так жаль, милая… Такое несчастье… – в растерянности произнес молодой принц.
Внезапно серебристо-серые глаза полыхнули, и девочка гневно воскликнула:
– Почему ты терпишь в Пальмире римских свиней?
Оденат невольно вздохнул и проговорил:
– Римляне наши друзья, и всегда ими были, мой цветочек. А то, что произошло, просто прискорбная случайность, – добавил он, памятуя о том, что рядом стоял имперский губернатор.
– Друзья не насилуют и не убивают ни в чем не повинных женщин! – презрительно фыркнув, заявила Зенобия. – И ты теперь стал одним из римлян, господин мой принц. А я ненавижу их! Ненавижу их и ненавижу тебя – за то, что ты позволяешь им убивать нас!
Оденат увидел, как чудесные глаза девочки наполнились слезами, но прежде, чем успел сказать еще хоть слово, она резко развернулась и убежала. Служанка, что-то проворчав себе под нос, поспешила следом за ней.
– Бедная малышка… – с печалью в голосе произнес принц. – Она единственный ребенок у своей матери, и они были очень близки, Антоний Порций. Сразу видно, как ужасно подействовало на нее это жуткое преступление.
Римский губернатор развел руками и пробормотал:
– Да, конечно… – При этом он подумал, что у Рима появилась скверная привычка создавать себе врагов.
Вернувшись в город, губернатор Антоний Порций тотчас же призвал к себе двенадцать офицеров, прикрепленных к двум легионам, находившимся под его командованием. Он подробно объяснил, что произошло, потом спросил:
– Поддержат ли нас в этом деле командиры легионов наемников?
– Я ручаюсь за моих людей, – сказал трибун африканского легиона. – Они терпеть не могут галлов.
Остальные молча кивнули, причем трибун другого легиона при этом пробормотал:
– Не вижу причин, по которым мои галлы сочли бы твое наказание несправедливым, Антоний Порций.
– В таком случае соберите весь гарнизон, – приказал губернатор.
Два римских легиона, то есть двенадцать тысяч солдат-пехотинцев плюс двести сорок кавалеристов и два полных подразделения наемников, собрались за главными городскими воротами Пальмиры. Такой сбор не мог не вызвать любопытства. Едва город облетела весть о передвижениях солдат, горожане высыпали за ворота, дабы посмотреть, что происходит.
На высоком помосте, под навесом, укрывавшим от жаркого солнца, сидел римский губернатор Антоний Порций – блистательный в своем белом одеянии с пурпурной оторочкой и с венком из поблескивавшего лавра на лысеющей голове – и явно чего-то ждал вместе с правителем Пальмиры, принцем Оденатом Септимием. Молодой человек двадцати двух лет, был предмет мечтаний многих пальмирских женщин – высокий, мускулистый, побронзовевший от солнца. У него были черные как полночь вьющиеся волосы, большие бархатисто-карие глаза, красивые чувственные губы и высокие скулы. И ему очень шла к лицу короткая белая туника, расшитая золотом.
Человек умный и образованный, принц занял в отношениях с римлянами позицию выжидания. Ему еще не хватало сил, чтобы свергнуть захватчиков, но кое-какие планы у него уже имелись. Гневные обвинения Зенобии – в том, что он стал одним из римлян, – весьма порадовали Одената, ведь это означало, что его хитрость удалась и римляне ему доверяли.
Подняв руки, Оденат поправил на голове корону Пальмиры – очень изящную, из чистого золота, сделанную в форме венка из листьев пальмирских пальм. Однако и жарко же сегодня… Он невольно вздохнул и смахнул со щеки каплю пота.
Тут губернаторские трубачи затрубили в свои трубы, и шумная толпа притихла в предвкушении какого-нибудь зрелища. Минуту спустя Антоний Порций встал, подошел к краю помоста и с торжественным видом обвел взглядом притихшую толпу. Когда же он заговорил, его чуть гнусавый голос зазвучал на удивление громко:
– Сегодня была запятнана честь и слава Рима. Запятнана не теми, кто родился в нем, а теми, кому Рим так великодушно даровал свое гражданство! Но Рим такого не потерпит! Рим не допустит, чтобы над теми, кого мы поклялись защищать, надругались! Рим покарает тех, кто нарушил его законы – и законы Пальмиры!
Антоний помолчал несколько мгновений, чтобы слушатели прониклись сказанным, затем продолжил:
– Сегодня утром жену Забаая бен-Селима, великого вождя бедави, жестоко изнасиловали и зарезали прямо у нее в доме! На вторую жену этого достойного человека тоже напали, а затем бросили умирать!
Собравшиеся вокруг помоста жители Пальмиры единодушно ахнули, а потом послышался их грозный ропот.
Антоний вскинул вверх руки, успокаивая разгневанную Пальмиру, и громко прокричал:
– Но это еще не все! Выжившая женщина преодолела свою стыдливость и пришла сюда, чтобы опознать тех, кто напал на них!
Не успели его слова смолкнуть, как толпа расступилась, пропуская верблюдов Забаая бен-Селима поближе к помосту. Зрелище было одновременно впечатляющим и пугающим.
Возглавлял группу вождь бедави, сидевший на своем черном верблюде. Следом за ним ехали все его сорок сыновей – начиная со старшего, Акбара бен Забаая, до самого младшего, шестилетнего мальчика, горделиво и бесстрашно восседавшего на собственном верблюде. За вождем бедави и его сыновьями следовали остальные мужчины племени, а уже за ними, скорбно завывая, шли женщины в траурных одеждах.
Наконец верблюды остановились у подножия помоста и опустились на колени на теплый песок, чтобы всадники могли спешиться. Ко всеобщему удивлению, один из сыновей Забаая бен-Селима оказался его единственной дочерью, горячо любимой Зенобией. Стоя между своим отцом и Акбаром бен-Забааем, она с ледяным выражением глаз взирала на римского губернатора и принца Одената.
– Мы пришли требовать от Рима справедливости, Антоний Порций! – выкрикнул Забаай бен-Селим, и голос его отчетливо прозвучал в полной тишине.
– Рим слышит твое требование и ответит тебе по справедливости, Забаай бен-Селим! – произнес губернатор. – Луций Октавий!
– Да, господин… – Трибун, командовавший одним из легионов, выступил вперед.
– Зови сюда своих воинов! – приказал Антоний.
– Да, господин! – послышался короткий ответ. Трибун повернулся и выкрикнул команду: – Галльская ала, вперед, быстро!
Сто двадцать кавалеристов из галльских провинций медленно двинулись вперед и выстроились в десять шеренг по двенадцать человек в каждой. Их кони переступали с ноги на ногу, словно чувствовали беспокойство всадников. Тут Забаай бен-Селим отошел туда, где сейчас молча стояли женщины племени, и вывел вперед свою старшую жену Тамар. Затем они вместе пошли вдоль рядов римских кавалеристов, и вскоре послышался громкий голос Тамар, указывавшей пальцем на виновных.
– Этот! И этот! И эти двое!..
А легионеры тем временем стаскивали обвиненных с коней и волокли к губернатору. В самом конце одной из кавалерийских шеренг Тамар остановилась, и Забаай почувствовал, как она содрогнулась. Подняв взгляд, он увидел перед собой ледяные синие глаза – таких он еще никогда не встречал – и тонкие губы, растянувшиеся в насмешливой улыбке.
Тамар же громко сказала:
– Это он! Именно он изнасиловал и убил Ирис!
Встретив вызывающий взгляд галла, Забаай вдруг представил, какой стыд и ужас испытывала его милая любимая жена в последние минуты своей жизни. В груди его взметнулась волна бешенства, и он с диким яростным воплем сдернул центуриона с лошади. Еще мгновение – и его нож прижался к горлу мерзавца, прочертив на нем тонкую красную линию, но тотчас же раздался настойчивый голос Тамар:
– Нет, мой муж! Он должен страдать так же, как страдала Ирис! Умоляю тебя, не даруй ему благословение быстрой смерти! Он этого не заслуживает.
Сквозь красную пелену гнева Забаай ощутил на своей руке ладонь жены и услышав ее мольбу, опустил оружие. Его черные глаза внезапно наполнились слезами, и он, отвернувшись, украдкой утер слезы рукавом, скрывая свою слабость.
– Это все, Тамар? – спросил он хриплым голосом.
– Да, господин мой, – негромко ответила она.
Ей сейчас очень хотелось обнять мужа и хоть как-то утешить. Ведь он потерял самое для него дорогое, потерял свою милую Ирис. И Тамар знала, что Забаай уже никогда не будет прежним. Именно это печалило ее более всего – ведь она очень его любила.
Затем они вместе подошли к помосту, и Забаай негромко произнес:
– Моя жена говорит, что это все виновные, Антоний Порций.
Римский губернатор поднялся со своего резного кресла, подошел к краю помоста, и над толпой прогремел его суровый голос:
– Этих людей обвиняет их жертва – та, которую они бросили умирать. Может ли кто-нибудь из них отрицать свое участие в этом преступлении?
Губернатор посмотрел на восьмерых виновных. Все они стояли, опустив головы, не в силах взглянуть в лицо Тамар.
А Антоний Порций снова заговорил:
– Мой приговор окончателен. Эти звери будут распяты, а их центурион передается племени бедави для пыток и казни. Римский порядок восторжествовал!
Из рядов солдат послышались крики одобрения, но куда громче ликовали пальмирцы. Вскоре несколько легионеров вынесли вперед деревянные кресты, приготовленные заранее, потом с преступников сорвали одежду и, голыми, их привязали к крестам. Кресты подняли вверх, и другие солдаты, забравшись на лестницы, стали вколачивать их в песок.
Жара в это время дня стояла невыносимая, но если бы галлам удалось дожить до следующего полудня, их мучения сделались бы еще сильнее. Впрочем, и так было ясно: под лучами палящего солнца сирийской пустыни их языки скоро распухнут и, вывалившись изо рта, почернеют, а полоски сыромятной кожи, которыми их руки и ноги будут привязаны к крестам, высохнут, стянутся и врежутся в плоть, перекрывая доступ крови и причиняя немыслимую боль. И тогда эти люди обвиснут на крестах под тяжестью собственного веса и начнут умирать – медленно и мучительно.
А в ад их будут сопровождать вопли центуриона Винкта Секста, потому что ему не позволят умереть, пока не скончаются все его люди. И прямо сейчас, перед их испуганными взорами, его уже начали раздевать, готовя к пыткам.
Началось все довольно просто. В землю вколотили столб, к которому и привязали негодяя – спиной к толпе. Забаай бен-Селим, взяв тонкий кнут из конского волоса, нанес первые пять ударов, несильных, но очень резких, врезающихся в кожу и причиняющих мучительную боль. Тамар, несмотря на слабость, тоже нанесла преступнику пять ударов. Затем каждый из сыновей Забаая бен-Селима ударил римлянина по одному разу. Последние пять ударов нанесла Зенобия, обращавшаяся с кнутом на удивление ловко для ребенка – именно так подумали в толпе. В общей сложности кнут опустился на спину Винкта Секста пятьдесят пять раз, но галл оказался из выносливых и даже ни разу не вскрикнул, хотя все это время оставался в сознании.
Забаай бен-Селим мрачно улыбнулся. Он знал, что еще будет время для криков, так что в конце концов галл станет молить о милосердии – как пришлось молить милой Ирис. Пройдет много, очень много часов, пока галл не испустит дух, и он тысячу раз пожелает смерти, прежде чем смерть наконец-то придет к нему.
Когда порка закончилась, центуриона отвязали и поволокли по горячему песку к тому месту, где установили огромный обломок мрамора, рядом с которым, над небольшим костром с пляшущими языками пламени, бурлил открытый котел. И теперь, стоя на коленях, Винкт Секст в ужасе закричал, когда его руки мгновенно отсекли от тела:
– Только не руки! Я солдат! Руки мне нужны!
Но палачи лишь ухмылялись ему в ответ, и он, объятый ужасом, смотрел, как растекалась красными струйками по золотистому песку его кровь. А затем его подтащили к бурлящему котлу и опустили обрубки рук в кипящую смолу, чтобы он не умер от потери крови. И тут раздался его первый пронзительный крик боли, и толпа вздохнула с облегчением – наконец-то центурион испытал боль, которой заслуживал!
Когда же старший сын Забаая поднял с песка отрубленные кисти рук, вождь бедави снова улыбнулся и проговорил:
– Больше эти руки никому не причинят боли, галл. Мы увезем их в пустыню и скормим шакалам.
Винкт Секст в ужасе содрогнулся. Самое страшное для воина в его северном племени – это лечь в землю искалеченным. Без рук мужчина обречен на скитания в загробном мире, и нигде ему не будет покоя.
Его снова проволокли по песку и бросили на спину, а затем две женщины с улицы проституток пробились сквозь толпу и представились Забааю. Одна из них сказала:
– Мы поможем тебе, вождь бедави, и ничего не попросим взамен. После того как этот человек приехал в Пальмиру, от него пострадали несколько наших сестер, но до сих пор мы не могли ни от кого добиться правосудия.
Говорившая, очень искусно накрашенная, была высокой брюнеткой в зрелом возрасте, а с ней вместе пришла красивая молодая девушка – светлоголовая и голубоглазая из северной Греции. Не прикидываясь скромницей, девушка скинула с себя бледно-розовые шелковые одежды и предстала перед толпой обнаженной. Ее юное тело представляло собой образец совершенства – великолепные белые холмы грудей, тонкая талия и пышные бедра. С нарочитой неторопливостью девушка подошла к Винкту Сексту и стала у его головы. Чуть помедлив, грациозно опустилась на колени, потом наклонилась и коснулась его лица сначала одной грудью, затем другой. Тот застонал от безысходности, а Забаай, издеваясь над ним, проговорил низким голосом:
– До чего восхитительные фрукты, а, галл?
Винкт Секст снова застонал и дернулся, пытаясь сжать соблазнительную плоть. Казалось, он забыл, что недавно лишился кистей рук. Когда же вспомнил об этом, с его губ сорвались проклятия.
Тем временем младший сын Забаая бен-Селима, шестилетний Гассан, завладевший отрубленными кистями галла, дико выплясывал вокруг него, потрясая своими трофеями. А потом он положил их на пышные груди проститутки и пошевелил пальцами. Толпа взревела от хохота, явно одобряя выдумку мальчика. Центурион же перешел на свой родной язык и что-то завопил во весь голос – было ясно, что он осыпал проклятиями толпу, свою судьбу и все на свете.
– Он сейчас должен испытывать ужасающую боль, – сказал Антоний Порций, повернувшись к принцу Оденату. – Почему же он ее не испытывает?
– В кипящую смолу подмешали болеутоляющее снадобье, – ответил принц. – Они не хотят, чтобы он сразу умер от боли.
Губернатор с усмешкой кивнул:
– Похоже, они знают толк в пытках, эти бедави… Если мне когда-нибудь потребуются такие люди, я приглашу их.
А толпа радостно ахала при каждой новой изощренной пытке. Причем некоторые отцы посадили детей на плечи, чтобы те лучше видели происходящее. Оба римских легиона и наемники стояли неподвижно, но у многих из них побелели лица – в особенности у тех, кто оказался ближе всех к неудачливому галлу.
В качестве последней пытки Винкта Секста осторожно выкупали в подогретой воде с добавлением меда и апельсинов. Затем сыновья Забаая бен-Селима вытряхнули на галла несколько мисок с черными муравьями. Это было слишком даже для такого стойкого воина, и галл пронзительно закричал, умоляя о милосердии, о том, чтобы его немедленно убили. А тем временем крохотные насекомые добросовестно делали свое дело, и вскоре крики галла стали слабеть.







