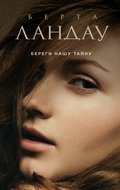Берта Ландау
Посею нежность – взойдет любовь
Только слова шли с той поры в ход.
Но что это были за слова!
Их бы забыть. Но они-то как раз и отличались редкостной липкостью.
Ляля уже согласна была на регулярные пьянки Артема. (Хотя, если взглянуть правде в глаза – кто спрашивал ее согласия?)
– Пей, – говорила она. – Пей, но только, умоляю, дома. И сразу после этого ложись спать. Не буянь. Почему обязательно все крушить, всех оскорблять, пугать, скандалить? Выпей и ляг спать. Если иначе не можешь, не обещай бросить пить. Просто старайся отравлять нашу жизнь по минимуму.
Естественно, в трезвом состоянии добрый любящий муж обещал.
Увы… После заветных трех дней семейной идиллии наступала пора некоей напряженности. Это чувствовали все. По чуть-чуть. Вот уже улыбка сползала с лица отца семейства. Вот уже отказывался он помочь с домашними заданиями кому-то из детей. Вот уже требовал оставить его в покое, не мешать отдыхать.
И значило все это одно: скоро грянет буря. В какой точно день – это они угадать не умели. И потому случалось все каждый раз совершенно неожиданно. Ну, почти неожиданно. Некоторые знаки имелись.
У Ляли, например, начинало ныть сердце. Ее вполне здоровое и надежное сердце почему-то тревожно ныло именно в те вечера, когда Артем напивался. И ничем эту странную боль устранить не получалось. Ни каплями, ни самовнушением, ни играми с детьми, порой веселыми и самозабвенными. Сердце ее, словно дикий зверь, чувствовало приближение бури. И она непременно происходила.
Почему-то мужу необходимо было высказаться в пьяном состоянии, обличить Лялю в жестокости, в ненависти к нему, в том, что она замуж за него не по любви вышла, а по расчету.
Хороший расчет! Хорошая нелюбовь! По расчету поселить Тему в своей квартире. По расчету работать днем и ночью, зарабатывая больше супруга. По расчету родить четверых прекрасных детей, которыми не нарадуешься, до чего хороши, здоровы, красивы и добры.
Но что пьяному докажешь? Что тут поделаешь?
Ляля, как и ее мама, повторяла про себя: «Несчастный человек. Он так страдает. Я должна ему помочь. Он же без меня пропадет».
И все брала с мужа обещания, что он больше не будет, все заставляла поклясться. И главное: все верила и верила клятвам – вот что удивительно.
Ни Ляля, ни дети не догадывались в те времена о том, что страдают болезнью, навязанной им собственным мужем и отцом. Если алкогольная зависимость признана немочью, то и зависимость жизни целой семьи от алкогольных циклов одного из ее членов – это тоже симптом. Признак нездоровья.
И название есть у этого недуга: созависимость.
Недуг этот способен всерьез подточить силы и надежды на будущее тех, кто им страдает. Ведь все члены одной семьи пребывают в едином энергетическом поле. Состояние одного обязательно и непременно влияет на состояние всех.
Это и есть созависимость.
Впрочем, как ни называй, ничего хорошего.
И все-таки, как бы там ни было, папу они любили.
Ну, ощущался временами сильный дискомфорт. Ну, кричал, спать мешал… Привыкли кое-как. А любить – любили. И радовались, когда он приходил с работы. Дом сразу оживал.
Пока не настал день Икс.
Вернее, как обычно, вечер.
Этот решающий вечер Рыся запомнила посекундно. И с него, с того вечера, пошел другой отсчет – время ее нелюбви к собственному отцу. Неуважения, отчуждения, презрения.
У других – Птичи, Ора и Дая – она не спрашивала. Молчала об этом. Но про себя знала точно: у нее началось именно тогда.
Случилось вот что.
Как раз в семье после четырехлетнего перерыва ожидалось пополнение. Рыся и Птича ходили во второй класс. Их вместе отдали в школу, хотя по возрасту Птича еще считалась маленькой, но, повторяя все за старшей сестрой, она к пяти годам бегло читала, бойко считала, так что вполне годилась в первоклассницы. И так было гораздо удобнее. Утром сестры отводили братьев в детсад и шли себе в школу. Сидели, правда, за разными партами. Так решила учительница. Выглядели они почти как близняшки, Птича только ростом была чуть пониже. А так – почти одно лицо.
Родители решились на пятого ребенка, хотя в семье имелся полный комплект: два М и две Ж. Вроде больше некуда.
Но они к тому времени стали ощущать тесноту. Все же, как ни крути, а две комнаты площадью тридцать шесть метров – это маловато для шести человек. Но на очередь для получения большей квартиры их не поставили. Сказали: по правилам на человека положено пять метров. А у вас целых шесть! Много! Не положено.
Правила в те времена отличались суровостью. Никого не интересовало, что многодетная семья никак не может полноценно жить в двух комнатах.
– О чем вы думали, когда рожали? – спрашивали Лялю, когда она пыталась говорить о человеческих правах в учреждениях, где решали жилищные вопросы.
Ну, все как обычно: в газетах призывали улучшать демографическую ситуацию. На деле – все плевать хотели.
И вот тогда созрело у родителей решение: родить еще одного маленького. Тогда получится, что у них будет по 5 метров площади на человека. Но если точно считать, то выходило-то все равно больше, потому что если 36 разделить на 7, получалось 5,14…
Они наивно не учли, что квадратные сантиметры, да что там сантиметры – миллиметры, тоже придирчиво считались советской властью.
И вот эти сантиметры, само собой разумеется, объявили излишками жилой площади. Так что ничего у них не вышло, кроме замечательного маленького мальчика, родившегося чуть раньше срока, но оравшего не хуже Ора. Только более тонко, пискляво. За что и получил семейное имя Пик. А так-то назвали его Николаем.
В то время, о котором пойдет речь, Пик еще находился у мамы в животе. Хоть в этом ему повезло.
Отец, как водится, выпил. Но странность именно этого происшествия заключалась во внеурочности выпивки. После предыдущей прошло всего два дня. Семья потихоньку отходила и умиротворенно наслаждалась отдыхом. Но тут, как потом выяснилось, вмешался случай.
Артему незадолго до этого домой позвонил институтский приятель, ставший военным врачом. Служил он пока в небольшой медсанчасти, зато в самой Москве, планы лелеял грандиозные, мечтал о ведущем военном госпитале. Договорились встретиться семьями. Обменялись рабочими телефонами. И через пару дней раздался звонок в хирургическое отделение. Приятель заступил на дежурство по части, скучал, звал друга повидаться, не дожидаясь семейных застолий. Просто сесть и пообщаться по-мужски. Воинская часть находилась в двух остановках метро. Почему не съездить? Ну, на час позже домой вернется, справятся без него, ничего. Артем и поехал.
Естественно, приятели выпили по чуть-чуть разведенного спирта из богатых запасов медсанчасти. Вид однокурсника, некогда вполне гражданского разгильдяя, поражал воображение: в полном военном обмундировании, с портупеей (как и полагалось на дежурстве по части), он выглядел героем военных времен. Особенно выразительной казалась темно-коричневая кобура на поясе.
Перехватив взгляд Артема, бравый вояка похвастался:
– Смотри-ка, что выдают, когда на вахту заступаешь.
Он расстегнул кобуру и ловко достал пистолет.
Вид настоящего оружия завораживал. От небольшой черной железяки шла огромная злая сила, внушающая страх.
– Слушай, будь другом, – проникновенно попросил выпивший Артем, – дай мне эту штуку на полчаса.
– Да ты что? Не положено, – испугался дежурный офицер.
– Мне только домой съездить, жене показать. Изменяет она мне, – грустно посетовал отец большого дружного семейства.
– Уверен? – строго потребовал ответа друг.
– Бабы. Сам понимаешь. Им верить нельзя. Пусть бы увидела и поняла, что я с ними со всеми сделаю, как этого ее чмыря найду.
– Далеко ехать? – лихо поинтересовался нетрезвый собеседник.
– Минут десять, если машину быстро словлю.
– Вдвоем съездим. Возьмем «уазик» и смотаемся. Ты ей пистольник покажешь, а я за дверью постою. Мне так спокойней. А показать надо. Чтоб знала. Ишь ты – чего удумала.
Дежурный офицер в сопровождении хирурга известной московской больницы не очень твердой поступью направились к уже ожидающей их у ворот части машине.
– На полчаса отлучаюсь. Смотрите мне. Всех пускать, никого не выпускать, – скомандовал капитан медслужбы.
Они отправились.
Доехали – быстрее не бывает. Даже не за десять, а за семь минут.
– Я ж говорил – близко! – весомо отметил Артем.
Он вошел в собственный подъезд, как партизан Великой Отечественной.
У самой двери соратник вручил Артему боевое заряженное оружие.
– Ты там поосторожнее, – предупредил. – Штука стреляет наповал. Просто покажи, и все.
– Я покажу! – пообещал глава семьи. – Я им всем сейчас покажу. Они увидят. Да и ты заходи, чего там. Что за дверью-то стоять.
– Ты мой гость. Я тебя уважаю. – Эти слова уже слышали все домашние: и мама с Пиком в животе, и Рыся, и Птича, и Ор, и Дайка. Они выбежали в прихожую, услышав, что папа дверь открывает, не ожидая, что вернется он пьяным. Напротив – по семейным циклам, все должно было быть интересно и весело именно сегодня.
Интересно было. Весело – не очень.
Рыся запомнила все по секундам.
Они до прихода отца веселились. Мама ставила любимые пластинки, которых у нее было множество: привозили друзья со всех концов света, зная ее вкусы. Как раз завели Рысину любимую: «Abbey Road». Рысе нравилось рассматривать конверт, на котором по дорожной зебре шли битлы – один красивее другого. Сначала Джон Леннон весь в белом, потом Ринго Старр, за ним красавец Пол Маккартни в строгом черном костюме, но босиком, потом Джордж Харрисон.
Рыся мечтала об этой улице, о Лондоне, о битлах (одного из них уже не было в живых, о чем им только что рассказала мама – странное совпадение, Рыся потом это отметила)[3].
Мама как раз удивлялась, что вот Джон идет первым – как будто в вечность. Первым и ушел.
Мама всегда говорила с ними, детьми, как с друзьями, как с равными. Уверена была, что они ее понимают. Они и понимали. Слушали, горевали о Джоне. Речь шла о странном завершении его земного пути. Последняя его фотография запечатлела как раз тот момент, когда Леннон дает автограф своему будущему убийце. На фото двое: Джон и его смерть. Джон – худой, мрачный, усталый. Смерть, принявшая облик человека мужского рода, добродушно улыбается вполне симпатичной улыбкой. Позднее убийца скажет, что совершенно не понимает, почему он тогда совершил такое. Взял автограф и ждал возвращения своего кумира, чтобы погасить в том искру жизни.
И правда – зачем?
В тот момент, когда папа отпирал дверь, заиграла «Here Comes The Sun». Такая миленькая радостная песенка!
– Про солнышко, – сказала мама и погладила Рысю и Птичу по макушкам.
И тут уж все побежали встречать отца.
Первое, что увидела Рыся, выскочив в прихожую, было дуло пистолета.
– Ляля! Здравствуй! – послышался очень торжественный и зловещий голос папы.
Говорил он размеренно и весомо, как всегда, когда был пьян.
– Здравствуй, Ляля! Я привел к тебе гостей!
И правда: за его спиной маячил какой-то военный.
Все это, впрочем, было совершенно не важно.
Главное было: дуло. Из него пристально и серьезно смотрела смерть.
Все как-то соединилось в одно: Джон Леннон, обложка Abbey Road, улыбающийся убийца справа от своей жертвы на газетной фотографии, чудесная песенка, беззаботно звучащая со стороны комнаты родителей, и все они, завороженно молчащие перед реальной угрозой.
Это – секунда номер один. Или даже доля ее.
Мама опомнилась первой. Она мгновенно распахнула правой рукой дверь кладовки, а левой подтолкнула Птичу, оказавшуюся совсем рядом с ней:
– А ну-ка, быстро все туда!
Рысе показалось, что она и шагу не сможет ступить. Ноги ощущались совсем будто ватные, как в страшном сне, когда порываешься бежать, а вязнешь в чем-то липком. Но – секунда, и они все уже были в убежище. Свет там включался изнутри, но почему-то страшно было его включать. Тьма казалась дополнительной защитой.
– Стреляй, – послышался спокойный голос мамы. – Стреляй, не промахнешься.
Тут, наверное, военный гость увидел ее живот, в котором подрастал братец Пик.
– Да ты мудак конченый! – услышали дети в темной кладовке чужой мужской голос.
Последовал звук удара и бормотания отца:
– Пусти, ты ее не знаешь… Да подожди ты, дай я объясню… Она сейчас сама скажет, с кем гуляет…
– Отойди от греха… А то я тебя, мудозвона, сам пристрелю, – говорил с усилием дядька в форме.
Видимо, отнимал у отца оружие, так догадались дети.
Потом протянулось несколько секунд полной тишины.
– Пусть он уйдет с вами, – попросила мама.
– Да куда ж я его дену? А впрочем… Пошли, давай.
Послышалась возня с дверью.
– Извините, – произнес гость последнее прощальное слово.
Замки звучно защелкнулись.
Ляля и дети наконец-то остались одни.
Песня все еще продолжала звучать…
– Тара-рара-пам, тарара-пам, тарара-рара. Тара-рара-пам, тарара-пам, тарара-ра…
Дети тихонько выползли в коридор.
Мама сидела на полу, прислонясь к стене, откинув голову.
Она не плакала. Ей нельзя было. Дети и так были напуганы.
Она просто сидела с закрытыми глазами, собираясь с силами.
Вот и все.
Они даже не обсуждали это событие.
А о чем говорить?
Птича слышала поздно вечером, как мама говорила с бабушкой, той, отцовской матерью. Как она просила:
– Заберите, пожалуйста, своего сына. В следующий раз он убьет нас всех. Я уже и не против. Но детей жалко.
Бабка, видимо, уговаривала, убеждала.
– Я в последний раз своим родителям не расскажу. В самый последний раз. Но больше я не смогу молчать. Поймите меня.
Ничего никто не поймет, это Рыся очень четко осознавала. Спасаться надо самим. И все тут. Она именно в тот вечер твердо решила, что никогда не выйдет замуж и никогда не родит ребенка. Это – нельзя. Ей бы этих вырастить. А самой – ни-ни! И думать не смей!
Ей было восемь лет. Она чувствовала себя совершенно старой.
Мама перед сном закрыла дверь на задвижку. Впервые за всю ее жизнь с мужем. Она еле ходила, ее шатало от навалившейся усталости.
У Птичи почему-то поднялась температура. На ровном месте, без кашля и насморка. И ничего не болело, просто горела, 39,6.
– Невроз, – сказала мама.
Она уложила Птичу к себе в кровать, улеглась рядом.
Рыся тревожилась.
– Иди спать, Рысенька, завтра в школу, – попросила мама.
– Ты его потом пустишь? – спросила о главном старшая дочь.
– Не знаю. Не уверена. Если только зашьется. На слово больше не поверю, – слабым голосом рассуждала, как с самой собой, мама Ляля.
– Может, уж и не пускать?
– Посмотрим.
Рыся поняла: пустит, куда денется. Ее право.
– Тогда отдай нам кладовку. Мы там будем жить. Когда он напьется, мы все будем там закрываться. Разбирайся с ним сама. Эти еще маленькие. Им расти надо. Нечего им на такое смотреть.
Мать лежала в кровати бледная, почти как подушка под ее головой. Птича рядом тяжело дышала, всхлипывая во сне. Рысе жалко их было неимоверно. И в животе ведь у матери подрастал сейчас еще кто-то! Как ей вытянуть всех их! Она впервые растерялась.
– Рысенька, сделаем, как ты скажешь. Все сделаем. Иди спать сейчас.
Она-то ушла. Только всю ночь лежала с открытыми глазами, потому что стоило их закрыть, как отчетливо возникало перед внутренним зрением проклятое железное дуло.
Утром Рыся отвела парней в садик. Потащилась в школу. Одна, без Птичи. Та лежала и горела себе. Сжигала тягостные воспоминания.
Рыся попросила учительницу не вызывать ее сегодня к доске, сказала, что плохо чувствует себя из-за болезни сестры. Поскольку учились они обе только на отлично, просьба ее была уважена полностью. Рыся сидела как оглушенная, не слушая, что происходит в классе.
Денька, верный друг, понял, что дело серьезное. Даже подсказывать не просил как обычно.
Из школы они, как повелось, возвращались вместе, всегда втроем, а теперь вот вдвоем. Денька жил в их же доме, только они во втором, а он в десятом подъезде. Удобно. Он и играть к ним приходил, когда отец многочисленного семейства был не пьяный. Любил Денька играть с отцом Рыси. Про своего не распространялся, хотя он у него имелся. Мальчик из полной семьи, вполне благополучный ребенок – так про него мама какой-то подруге говорила, Рыся слышала.
Двое благополучных детей шли домой, смертельно усталые, хотя еще не прошло и полдня их долгих детских суток.
– У меня отец вчера домой с пестиком пришел. С настоящим, – проговорила вдруг совершенно неожиданно для самой себя Рыся. – Хотел нас всех убить. Так сказал.
– Пьяный? – уточнил Денька.
И все им стало понятно. Без лишних слов.
Про их собственные благополучные семьи.
– Твой пьет? – на всякий случай поинтересовалась Рыся.
– Ужасно. Каждый день почти. А твой?
– Не каждый день. Сам знаешь. Но когда пьет, лучше его не видеть.
– Бабушка тоже про нашего говорит, что лучше бы мне не видеть. А то вырасту, стану как он.
– А ты? Станешь? Будешь пить? – оживилась Рыся.
Этот вопрос ее очень беспокоил. Она говорила себе, что не переживет, если Ор и Дайка, став взрослыми, будут вести себя как их папаша. В этом случае все ее старания сейчас лишены смысла.
– А ты? – внимательно глядя на нее, ответил вопросом на вопрос друг.
– Я? Конечно нет! Чего меня спрашивать: девочки не пьют, – самоуверенно хмыкнула Рыся. – Ты про себя лучше скажи: ты – будешь?
– Девочки не пьют? – крикнул ожесточенно Денька и наподдал со всей силы ногой пустой пластиковый пакет, валявшийся посреди дороги. – Девочки не пьют…
Рыся с ужасом увидела, как по щекам его поползли слезы. Крупные, одна за другой. А Денька не плакал никогда.
Они сидели в своем дворе у песочницы. И не то чтоб говорили нескончаемо. Нет. Рыська ужасно устала от бессонной ночи. Денька – от годами сдерживаемых слез, которые накопились и пролились только что сами собой. Он не плакал. Слезы лились по их собственной воле. Как вода из протекающего крана на кухне.
У Деньки дома все выглядело ужасно. Все само собой разваливалось, плесневело. Потому что в их доме не было ни хозяина, ни хозяйки. А он еще не вошел в силу. Ему еще лет восемь нужно, чтоб молодым сильным парнем стать и взять все в свои руки.
Денис хорошо помнил время, когда родители жили как все. Ну, почти как все. Отец работал инженером на заводе. Мать – на том же заводе бухгалтером.
Все у них тогда было. Семья, сын. Потом батя стал поддавать, все чаще и чаще. Не буянил. Просто напивался и много пропивал. А мать все его уговаривала пить дома, культурно. Чтоб друзья не обирали как липку. Он все понимал, соглашался, но… Не получалось у него, чтоб дома. Ему хотелось с друзьями, в компании расслабляться. Ну правда! Ну не одному же пить! Это уж конец света полный. На фига такая жизнь, как говорится.
И тогда мать решила действовать по-умному. Как настоящая жена-подруга. Она сказала:
– Тебе нужен друг, чтоб выпивать? Да? Вот: я твой друг! Давай пить вместе.
Она была уверена, что будет выпивать одну рюмочку за компанию с мужем, а потом сидеть с ним, вести долгие задушевные разговоры за бутылочкой. Потом он устанет и ляжет спать. И она вместе с ним. Цена вопроса – 3 рубля за вечер. Ну, если пить даже каждый день, все равно получается 90 рублей в месяц. Половина от мужниной зарплаты будет оставаться железно. Точный расчет. Прямая выгода.
Муж удивленно согласился. И правда: никаких проблем. Все под контролем. Сынишка ходил в заводской детсад-пятидневку. Удобно. В понедельник отвозишь пацана, а забираешь в пятницу вечером. Он там обучен, накормлен-напоен, присмотрен. Даже английским там с ними занимаются, на пианино учат. Что еще надо?
А они с матерью культурно и полюбовно отдыхают себе вечерами. Пьют и закусывают. И наговориться не могут. Хорошо!
Даже умудрялись по выходным почти не пить, чтобы парнишку сводить в зоопарк или в планетарий. Наряжались и шли – не хуже других, а во многом и лучше. Дружная семья, без скандалов, вранья, утаивания заначек.
Все путем.
Идиллия длилась около года.
Потом качество посиделок не ухудшилось. Нет! Ни в коем случае. Изменились потребности в количестве. Одной бутылки на вечер стало почему-то катастрофически не хватать.
Что такое? Недоливали, что ли, на винзаводе? Или что?
Они уж выцеживали бутылку до последней капли – ну, не хва-та-ло!
Дело в том, что жена, начав пить вместе с мужем, хорошо втянулась. И пила не рюмочку за вечер, как первоначально задумывалось, а вполне на мужском уровне.
Не хотела отставать. И совершенно не осознавала, что у нее начались проблемы, причем очень серьезные.
Она теперь нуждалась в алкоголе. Торопила мужа домой, жадно тянулась к стопочке. По утрам испытывала жуткое похмелье.
Все это ребенок особо не замечал, находясь на своей пятидневке. Тем более что часто на выходные его забирали деды-бабки то с той, то с другой стороны.
Хорошее было время! Счастливое! Он всех любил и уверен был в правильности их жизни.
Потом началась школа. Тут уж никуда не деться: пришлось мальчика отдавать в ту, что рядом с домом. Такое у них везение крупное: школа считалась одной из лучших в столице, с двумя иностранными языками. Ездить никуда не надо. Иди себе пешком, даже дорогу не переходи. Соседний дом – вот тебе и школа.
В пятидневке привили хорошее: вещи ребенок складывал перед сном аккуратно, портфель в школу собирал с вечера, вставал, умывался, чистил зубы, делал зарядку, одевался во все чистое: рубашка, трусики, носочки, брючки.
Поди еще такого поищи – чудо, а не ребенок. Единственно, что сам не мог (пока) – завтрак приготовить. Этому их в детском саду не учили. Промашка такая. А родители никогда не завтракали. Им еле сил хватало встать, кое-как собраться и на работу.
С завтраком Денька приспособился сам, когда понял, как дела дома обстоят. Покупал загодя пакет молока или кефира, булку – вот и завтрак. Обедал в школе. Вечером тоже молоко с булкой.
Все бы ничего. Но вечерами дома оставаться он не хотел. Уж слишком родители теряли человеческий облик. Страшно смотреть. В редкие минуты их трезвости сын уговаривал маму не пить. Она все понимала, обещала, но поделать с собой ничего не могла. Отцу тоже не нравилась пьющая жена. Он так и говорил каждый вечер, подливая ей водочки:
– Пьющая мать – горе семьи! – И смеялся заливисто.
Ребенок понял: надо принимать меры.
Во время одной вечерней родительской пьянки он позвонил бабкам-дедкам. Те примчались, ужаснулись, пристыдили своих взрослых, мало что понимающих детей, прибрались в доме и свалили спать в свои гнезда. Не поняли ничего! Тогда Денька стал звонить каждый вечер. И каждый вечер приезжал кто-то из старших, негодовал, стыдил, кормил внучка ужином… Но поделать уже ровным счетом ничего было нельзя.
Родители пили!
Наконец повезло. Небо сжалилось над первоклассником.
Отца хватил инфаркт. В тридцать семь лет! Но дело не в этом. Везуха заключалась еще и в том, что прихватило его на рабочем месте, во время трезвости. Потому к состоянию его отнеслись с должным вниманием и сочувствием.
Схватился он за сердце, скрючился. Коллеги, естественно, мгновенно вызвали врача из их заводского профилактория, та все сообразила, вызвонила «Скорую». Примчались мгновенно. Госпитализировали.
Вы́ходили. Вернули с того света, так объяснили ситуацию. Мать, которая, естественно, присутствовала и при начале сердечного приступа (ей, в бухгалтерию, позвонили сразу после вызова доктора), и в машине «Скорой помощи», и в больнице, наконец-то все поняла и про себя, и про мужа. Поняла, что дошли они до точки. И если не прекратить пить, ребенок их останется сиротой.
Пить отцу запретили. Строго-настрого. И пить, и курить. И чудо: он перестал. Напугался, видно, по-настоящему. Ему надо было потихоньку приходить в себя, жить здоровой жизнью, поправляться, выходить на работу. Так он и пытался жить теперь.
Только мать привыкла к выпивке окончательно, насовсем. Она бросить не могла. Рыдала, каялась, но уже не могла никак.
Отец велел ей лечиться. Иначе он уйдет. У него словно глаза на всю их жизнь открылись. Он теперь видел весь ужас их существования: пили, как свиньи, при малом сынишке. И во всем прозревший муж винил собственную жену: она, она устраивала эти ежедневные посиделки. Она!
Всего не расскажешь. Да и зачем?
На сегодняшний день ситуация обстояла так: первые в жизни школьные летние каникулы, перед вторым классом, Денька все три смены находился в заводском пионерлагере. Хорошо провел лето, в кругу бывших своих детсадовских друзей, где его уважали за многочисленные таланты, а также за силу и справедливость.
Отец приезжал к нему в родительские дни, привозил книжки, гостинцы. Трезвый. Мать не была ни разу. Лечилась.
Отец окреп, похудел, поседел. На сердце не жаловался. Мать вроде все осознала, старалась-лечилась.
Денька успокоился. Счастливое лето медленно катилось к концу. Он уже заскучал по школе. Гербарий собрал. Даже не один, целых три. Себе и Рысе с Птичей. Он любил с ними дружить. Домой к ним приходить, играть с парнями-братьями, которые его слушались как старшего. Им гербарии пока не требовались, в детском саду не спрашивают. А в школе – в самый раз.
И действительно: все дома шло по-новому. Мать похорошела, помолодела.
Зажили, как полагается людям. Отец совсем поправился, ему разрешили на работу выйти.
Две четверти Денька доверчиво наслаждался невиданным покоем. Утром на завтрак мать варила ему кашу. И еще давала бутерброд с докторской колбасой. Знала, что сын больше всего уважает докторскую, шла сама заранее, покупала и готовила внушительные бутерброды. Он это ценил! Ему ж расти надо, мужиком становиться. Еда нужна, чтоб настоящую силу давала. На булке с молоком далеко не уедешь, хотя и это не худший вариант. И вообще – ему хотелось материнской заботы. А то все один да один. Даже весь первый класс сам себе рубашку гладил к школе. А тут мама – и стирала, и гладила. Как настоящая полноценная любящая мать.
Дениска крепко помнил, что такое плохо, поэтому ценил заботу и радовался каждый день, не забывал.
А на Новый год взяли да сорвались. Оба. И отец, которому ни капли нельзя, иначе смерть, и мать, о которой вообще – что говорить.
И все пошло по-прежнему.
И вот уже весна.
И конца этому нет.
А теперь Денька понимает, что и не будет.
Так что он-то знает: женщины пьют. Еще куда страшнее мужиков. Гораздо. И за то, что у них, у Рыськи с ребятами, мать не пьет, надо каждую минуту судьбу благодарить. Это и есть их главное счастье.
– Поняла? – спросил Дениска Рысю.
Она даже представить себе не могла, как это, когда мама пьяная. Рысю аж передернуло. Она взяла Деньку за руку, как братика, чтоб не так страшно было.
– Давай пообещаем на всю жизнь, что никогда не будем пить. Даже пробовать не станем, – предложила младшеклассница школы с углубленным изучением двух иностранных языков.
– Давай, – согласился ее друг. – И всем твоим велим, чтоб не пили.
– Да они сами не хотят. Они же видят, как это страшно бывает.
– Сейчас не хотят, потом захотят. Пример с отца вашего возьмут и захотят, – резонно заметил Денька. – Пусть каждый день помнят, что пить никогда нельзя.
Они пообещали это тогда, в песочнице. Поклялись самой страшной и верной клятвой: не пить всю оставшуюся жизнь. И еще: что они теперь брат и сестра. И он, Денька, брат всем остальным ее братьям и сестре.
– Ты приходи к нам жить, – предложила Рыся. – У нас на завтрак всегда каша и омлет. И еще какао. Мама готовит. А вечером иногда отец… Готовил… Если не пьяный. Но сейчас не знаю. Я не хочу, чтоб он возвращался. Мне его жалко. И я его люблю. Только мне не хочется с ним жить. Никогда не знаешь, чего от него ждать, устала я.
Так они побратались. Стали назваными братом и сестрой. Как в старых сказках.
Они пошли тогда домой вместе. Так часто случалось и раньше, когда Рыся точно знала, что отец не подведет и вернется домой трезвый.
Птича все спала, правда, температуру сбили. Мама тоже отоспалась, хотя под глазами ее проступали темные полукружья. Но в целом от нее шел покой и умиротворение.
– Мам, я Деньке все рассказала. Про папашу. У него тоже проблемы. Пусть он у нас ночует, а?
– Пусть, – согласилась мама, которая зауважала Дениса с первого взгляда, еще на школьной линейке первого сентября, когда привела своих девочек в новую жизнь, учиться.
Денька вел себя тогда как настоящий джентльмен: пропустил барышень вперед и портфели у обеих взял, чтоб лучше смотрелись со своими огромными букетами и в белых оборчатых фартучках.
Ляля тогда глядела и любовалась: вот это истинный кавалер. А Денька с Рысей еще и за одной партой оказались. Повезло несказанно.
– Пусть, конечно, ночует. Только надо у родителей разрешение спросить.
– Им все равно, – сказал Денька и втянул в себя воздух.
Рыся понимала, что он сдерживает бег слез. Не хочет перед их мамой выглядеть слабаком и нюней.
Мама все поняла. Не стала развивать тему родительского равнодушия, ахать и осуждать.
– Ну, я просто позвоню, предупрежу, оставлю наш номер телефона. Я так обязана сделать, Денис, понимаешь? Таковы правила.
Правила Денька любил. Ценил и уважал. По правилам легко жить. Силы зря не тратятся.
– Хорошо. Спасибо, – согласился он. – Я не насовсем. Но иногда хоть. Передохнуть.
– Мы тебе всегда рады, – заверила мама.
Она любила гостей, у ее родителей был всегда хлебосольный дом, в котором хватало угощений для зашедших на огонек друзей.
Мама тут же позвонила родителям Дениса и сообщила, где их ребенок. Те еще только с работы вернулись и пока что все соображали. Записали телефон. Сказали спасибо. Пригласили тоже заходить на огонек.
Проснулась Птича. Они вместе сделали уроки. Потом Рыся села на свой диванчик почитать и уснула. Уже до самого утра.
Отец неделю не заявлялся. Правда, звонил все время. Чуть ли не каждый час. Иногда говорил с детьми, иногда с Лялей. У всех просил прощения. Каялся.
Ляля ему уже не верила. Что-то в ней надломилось. Она понимала, что пить он не бросит, что будет пользоваться ее добротой и отходчивостью, пока она не уйдет на тот свет.
Тот свет, кстати, все чаще казался ей отличным вариантом. Она невероятно уставала во время этой беременности. Думая о родах, не представляла себе, откуда возьмутся у нее силы, чтобы помочь младенцу появиться на свет.
Муж все звонил и звонил.
Тогда Ляля поставила условие: он должен сделать что-то, чтобы семья поверила, что обещание бросить пить – не очередной пустой треп.
– Хочешь, я зашьюсь? – решительно предложил Артем.
Он и раньше, бывало, в определенном покаянном настрое предлагал вшить ампулу, или, как ее называли, торпеду. Действие ее заключалось в том, что если человек со вшитой торпедой выпивал, он мог сразу отдать концы. Тут или надо было перед выпивкой извлечь торпеду, или уж совсем не пить. Ну, или, конечно, пить и подыхать, как собака.
Ляля всегда отказывалась от такого страшного, на ее взгляд, варианта: уж очень опасным для жизни он ей представлялся. Вдруг муж забудет, выпьет?.. Тогда она будет себя винить в его гибели. Нет, лучше не надо.