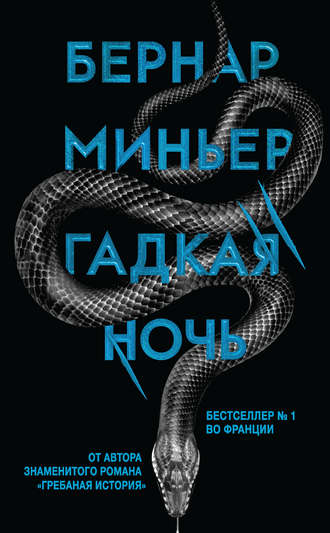
Бернар Миньер
Гадкая ночь
5. Где-то по соседству со смертью
– ОР и ОРГ, – произнес женский голос рядом с ним. – Повторяю: огнестрельное ранение и проникающая травма грудной клетки. Опаснейшее проникающее ранение в сердце. Входное отверстие в прекардиальной области. Выходное отверстие на спине. Время восстановления цвета кожных покровов более трех секунд [31] – предагональное состояние. Тахикардия – выше ста двадцати ударов в минуту. Отсутствует реакция на боль. Зрачки не реагируют на свет. Цианоз губ, конечности холодные. Положение крайне нестабильное. Рекомендуется немедленное хирургическое вмешательство.
Голос доносился до Серваса словно через несколько слоев ваты. Женщина спокойна, но очень сосредоточена и обращается не к пациенту, а к кому-то другому.
– У нас еще один раненый, – добавляет голос. – Получил ожоги третьей степени, удар током. Стабилизирован. Нам нужен аппарат искусственной вентиляции легких. Давайте шевелитесь. Здесь всё дерьмово.
– Где другой полицейский? – спросил человек с блеющим голосом. – Я хочу знать калибр этого ублюдочного оружия и тип боеприпасов!
Молнии вычерчивают косые линии на небе. Он смотрит через ресницы и угадывает справа другие пульсации – ритмичные, окрашенные в разные цвета. Он слышит шумы: далекие голоса – их много, отзвуки сирен, стук и скрип поезда, идущего по рельсам.
Было верхом идиотизма гнаться за этим мерзавцем без оружия.
Он погружается в задумчивость и видит отца. Тот стоит рядом с носилками. «Какого черта ты тут делаешь? – думает он. – Ты покончил с собой, когда мне было двадцать. Я нашел тебя. Ты последовал выбору древних греков – Сократа, Сенеки [32]. Свел счеты с жизнью в кабинете, где проверял работы учеников. Под Малера. В тот день я вернулся после занятий… Как ты здесь оказался?»
Чистое безумие.
Папа? Папа? Куда он делся? Ушел…
Вокруг него суетятся. Ему мешает маска, лицо как будто придавила толстая лапа, но именно через маску в легкие проникает жизнь. Вступает другой – знакомый – голос, до ужаса перепуганный.
– Он жив? Он жив? Он будет жить?
Венсан, это Венсан. Почему Венсан паникует? Я хорошо себя чувствую. Я на удивление хорошо себя чувствую. Он хочет сказать: «Всё хорошо. Очень хорошо…» – но не может произнести ни слова, нет сил шевельнуться.
– Приоритет номер один – поддержать объем циркулирующей крови! – гаркает новый голос совсем рядом с ним. – Долой трубки! Дайте мне перфузионный насос!
В этом голосе звучит тревога. Все хорошо. Уверяю вас, я хорошо себя чувствую. Я никогда не чувствовал себя лучше. И вдруг странное ощущение: он парит над собственным телом. Лежит на воздухе, подвешен в пустоте. Они делают свое дело – методично, точно, дисциплинированно. Другой он лежит внизу. Господи, ты жутко выглядишь! Как покойник! Боли нет. Им владеет небывалый внутренний покой. Он любит этих людей. Всех.
Он и это хотел бы сказать. Объясниться в любви. Вы важны для меня – все, даже незнакомцы. Почему у него никогда не получалось признаваться в любви тем, кого он действительно любит? А теперь слишком поздно. Слишком поздно. Хорошо бы Марго была здесь. И Александра. И Шарлен. И Марианна… В него как будто воткнули пику, как в быка на корриде. Марианна… Где она? [33] Что с ней сталось? Она жива или умерла? Неужели он умрет, так и не узнав ответа на главный вопрос?
– Начинаем! – скомандовал голос. – На счет «три»: раз… два…
* * *
В реанимобиле он начинает уходить, и над ним склоняется фельдшер с крашеными волосами. Его изрытое морщинами лицо составляет странный контраст с блондинистыми прядями. Сервас смотрит на него сверху, будто влипнув спиной в потолок. Другое я лежит на каталке с иглой в вене, с кислородной маской на лице, а медработник продолжает докладывать диспетчеру. Сколько ему лет? Перестань думать об имидже! – командует он себе. – Есть вещи поважнее жизни. Например, признаться в любви любимым людям. Где Марианна? – снова и снова спрашивает он себя.
Она жива или умерла? Ничего, скоро узнаю…
Иногда – вот как сейчас – он полностью отключается. Нет никаких сомнений – начинается его Большое Путешествие. Я хорошо себя чувствую. Я очень хорошо себя чувствую. Расслабьтесь, парни, я готов. Дверцы машины распахиваются.
Больница.
* * *
Третий оперблок!
Гемостаз! [34]
Нужно обеспечить гемостаз!
* * *
Щелчки. Голос. Мелькание неоновых огней под ресницами. Коридоры… Он слышит скрип колесиков по полу… Хлопают двери… Запах этанола… Глаза у него полуприкрыты. Считается, что он не видит: кома второй степени – так сказал кто-то в какой-то момент. Считается, что он не может слышать. Возможно, он грезит? Кто знает? Но разве можно нафантазировать слова вроде гемостаза – слова, которых никогда прежде не слышал, но смысл их понимаешь очень точно? Нужно будет выяснить. Потом.
Профессиональная деформация. Он улыбается – разумеется, мысленно.
Он переходит из состояния перемежающейся ясности сознания и полнейшей затуманенности мозгов. Вдруг догадывается, что над ним склонилось много людей в голубых шапочках и халатах. Взгляды… Все они сконцентрированы на нем, как лучи линзы.
– Мне нужен детальный отчет о повреждениях. И что там с эритроцитами, тромбоцитами, плазмой?
Его поднимают, осторожно перекладывают. Он снова застревает в тумане.
– Приготовьте инструменты для левосторонней боковой торакотомии [35].
Он выныривает последний раз. Лучик света перемещается от одного глаза к другому.
– Зрачки не реагируют. На боль реакции тоже нет.
– Где анестезиолог?
На лицо лапой гризли снова плюхается маска. Чей-то голос звучит громче остальных.
– Начали!
Внезапно появляется длинный туннель наверх. Как в той чертовой картине Иеронима Босха – не помню название [36]. Он входит в туннель. Что за дела? Он… летит. Летит к свету. Черт, куда меня несет? Чем он ближе, тем свет… сильнее СВЕРКАЕТ. Никогда такого не видел.
* * *
Что я такое?
Он лежит на операционном столе, но и перемещается в ярко освещенном изумительном пейзаже. Как это возможно? От красоты перехватывает дыхание (ха-ха! хорошая шутка, старина! – он думает о кислородной маске). Он видит вдалеке голубые горы, безоблачное небо, холмы. И СВЕТ. Много света. Сверкает, переливается, струится. Великолепный, осязаемый. Он знает, где находится, – по соседству со смертью, может, даже по ту сторону, – но не чувствует страха.
Все прекрасно, светло, волшебно. Притягательно.
Он находится на господствующей высоте над холмами. Отливающие серебром реки повторяют причуды рельефа. Метрах в пятистах внизу прямо к нему от горизонта течет река. Он идет по дороге, и чем ниже спускается, тем необычней выглядит река. Она невообразимо прекрасна! Это самая чудесная река на свете! Он приближается, его сознание расширяется, и истина проявляется во всем своем величии и простоте: река состоит из людей, идущих плечом к плечу. Это река человечества – прошлого, настоящего и будущего…
Сотни, тысячи, миллионы, миллиарды человеческих существ…
Последние сто метров он преодолевает бегом и, присоединившись к огромной толпе, чувствует такую любовь, которую невозможно описать словами. Он рыдает, осознавая, что ни разу не был так счастлив. Не был в мире с собой и окружающими. Никогда жизнь не была слаще и пленительней. Никогда другие не любили его сильнее. Эта любовь пропитывает все его существо.
(Жизнь? – Голос звучит диссонансом. – Разве ты не видишь, что и этот свет, и эта любовь есть смерть?)
Он спрашивает себя, откуда взялся этот неожиданный нестройный аккорд – такой же мощный, как тот, что звучит в конце адажио 10-й симфонии Малера.
На границе поля его зрения находится человек. Женщина. В течение бесконечно долгой секунды он не может вспомнить, как ее зовут. Как зовут эту красавицу с удрученным лицом. Ей года двадцать два – двадцать три. Потом туман рассеивается, и сознание проясняется. Марго. Это его дочь. Когда она прилетела? Марго должна быть в Квебеке.
Марго плачет. Сидит у его кровати с лицом, мокрым от слез. Он может чувствовать мысли дочери, знает, как она несчастна, и ему вдруг становится стыдно.
Он осознает, что находится в палате.
Реанимация, – думает он. Отделение интенсивной терапии.
Открывается дверь, входят врач в белом халате и медсестра. Доктор с серьезным лицом поворачивается к Марго, и Сервасом на секунду овладевает паника. Сейчас этот человек скажет: «Ваш отец умер…»
Нет, нет, я не умер! Не слушай его!
– Кома, – сообщает хирург.
Марго задает вопросы.
Он не видит ее и не всё слышит, но различает знакомые сигналы в голосе дочери. Доктор намеренно использует тарабарскую медицинскую лексику, и Марго нервничает. Говорит: «Объясните по-человечески!» Эскулап отвечает со смесью профессионального сочувствия, высокомерия и снисходительности, которые так хорошо известны Сервасу по совместной работе с разными медиками. А Марго, его дорогая девочка, заводится, злится.
Давай, – думает он. – Сбей с него спесь!
В конце концов хирург меняет тон, изъясняется понятными словами.
Эй вы, я здесь! – хочет крикнуть он. – Эй, посмотрите сюда! Вы обо мне беседуете! Увы, трубка в горле не дает вымолвить ни слова.
* * *
– Ты меня слышишь?
Он не помнит, куда удалялся и сколько времени отсутствовал. У него есть смутное чувство, что он снова обрел свет и человеческую реку, но полной уверенности нет. В любом случае это больничная палата. Вот потолок с коричневым пятном в форме Африки.
– Ты меня слышишь?
Да, да, слышу.
– ПАПА, ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?
Ему хочется взять ее за руку, подать знак, любой – взмахнуть ресницами, шевельнуть пальцем, издать звук, – лишь бы она поняла; но безжизненное, подобное саркофагу тело держит его в плену.
Он не способен вспомнить, куда исчез мгновение назад. Это его волнует. Свет, люди, пейзаж… Они реальны? Казались дьявольски, потрясающе, грубо реальными.
Марго что-то говорит – ему говорит, и он заставляет себя слушать.
Какая же ты красивая, детка, – думает он, глядя на склонившееся к нему лицо девушки.
* * *
У него появляются свои ориентиры. В реанимации есть другие палаты и пациенты: иногда они зовут сестричек или давят на грушу вызова, и по всему отделению разносится пронзительный звонок.
Он слышит, как торопятся мимо открытой двери санитарки, как тоскливо бормочут что-то посетители. Звуки прорываются сквозь туман. В моменты прояснения приходит осознание важного обстоятельства: он находится в центре паутины из трубок, бандажей, проводов, электродов, насосов, а справа шумно дышит машина. Очень скоро он окрестит ее машиной-паучихой, орудием современной магии, пленившей его колдовством, наведенной порчей. Худшее наказание – силиконовая трубка в горле. Он беспомощен, обездвижен, безоружен, похож на мертвеца.
Может, он и вправду… мертв?
Когда наступает вечер и из палаты все уходят, мертвецы занимают место живых…
* * *
По ночам в отделении царит тишина. И вдруг… Они тут. Отец спрашивает:
– Помнишь дядю Ференца?
Ференц был мамин брат. Поэт.
Папа утверждал, что брат с сестрой так сильно любят французский язык, потому что родились в Венгрии.
Ты умрешь, – просто и нежно сообщает отец. – Присоединишься к нам. Все не так ужасно, сам увидишь. Тебе будет хорошо.
Сервас смотрит на них. Ночью, в видениях, он легко вертит головой. Они в палате повсюду: стоят вдоль стен, у двери, окна, сидят на стульях и на краешке кровати. Он знает каждого, в том числе красивую пышногрудую брюнетку тетю Сезарину. В пятнадцать лет он был в нее влюблен.
Пойдем, – зовет она.
Здесь Матиас, его кузен, умерший в двенадцать лет от лейкемии. Преподавательница французского мадам Гарсон – в четвертом классе она зачитывала вслух его сочинения. Эрик Ломбар, миллиардер, погибший под лавиной, любитель лошадей. Астронавт Мила, вскрывшая вены в ванне (в ту ночь рядом с ней точно кто-то стоял, но Мартен отказался копать в этом направлении [37]). И Малер собственной персоной – великий Малер, гений с усталым лицом, в пенсне и странной шляпе, он говорит с ним о проклятии цифры «9»: Бетховен, Брукнер, Шуберт… все умерли, сочинив девятую симфонию… вот я и перешел от 8-й сразу к 10-й… Хотел обхитрить Бога – глупый гордец! – но не вышло…
Они появляются, и его обволакивает любовь. Он ни за что не поверил бы, что такая любовь – не выдумка. Это начинает казаться ему подозрительным. Он знает, что им нужно, но не готов уйти. Его час не пробил. Он пытается объяснить, но они не желают слушать. От них исходят нежность и вселенская доброта. Да, там, откуда они являются, трава зеленее, небо божественно синее, а свет такой яркий, что не описать словами, но он останется с Марго.
* * *
Одним прекрасным утром заявляется Самира в странноватом прикиде. Она наклоняется совсем близко, и он различает череп на груди и голову в капюшоне. Полсекунды уходит на узнавание ее жуткого лица. Уродство Самиры трудно определить словами, оно заключается в мелких деталях: нос слишком короткий, глаза навыкате, рот уж очень большой для женщины, общая асимметрия черт… Самира Чэн – лучший, наряду с Венсаном, член группы Серваса.
– Боже, патрон, видели бы вы сейчас свою башку…
Он хочет улыбнуться, и губы мысленно растягиваются. Типичная Самира… Упорно зовет его патрон, хотя он миллион раз просил: «Не выставляй меня на посмешище!» Самира обходит кровать и исчезает из поля его зрения, отдергивает штору, и Мартен рассеянно отмечает, что у нее по-прежнему лучшая задница в бригаде.
Таков парадокс Самиры. Идеальное тело и неповторимо уродливое лицо. Он что, сексист? Не исключено. Между прочим, она и сама любит комментировать анатомические подробности мужчин, с которыми встречается.
– …хороши сестрички?.. небось воображаете их голыми под халатиками, а, патрон? …приду завтра… патрон… заметано.
* * *
Проходят дни. И ночи. Он нестабилен. Настроение меняется. Утром, в реанимации, покой и умиротворенность, ночами беспокойство. Он не знает, сколько прошло дней и ночей, потому что времени здесь не существует и отмерять его можно только по приходам медсестер.
Он ясно осознает их всевластие. Они всемогущи, в данный момент – важнее самого господа. Эти женщины компетентны, преданны своему делу, педантичны, перегружены работой и дают ему это почувствовать – жестами, тоном, произносимыми словами. Во всем, что говорят медсестры, заключен один-единственный смысл: «Ты тяжело болен и полностью зависим от нас».
Другое утро, другой посетитель. Два размытых пятна лиц у кровати. Марго и… Александра. Надо же, его бывшая жена соизволила появиться. У нее красные глаза. Она печалится? После развода у них возникли разногласия, но они их быстро уладили – помогли общие воспоминания о прежних счастливых временах, о детстве Марго. С тех пор Александра сильно раздобрела, и он – со скрытым злорадством – говорит себе, что мужчины стареют красивее женщин. (Ха-ха-ха! Особенно он хорош сейчас, со всей этой машинерией на нем, под ним, из него, рядом и в ногах!)
* * *
– …говорят, что ты ничего не слышишь, – задумчиво произносит сидящий на стуле Венсан.
Они в палате одни, дверь, как всегда, открыта.
Лейтенант встает, подходит к кровати, надевает на патрона наушники.
И… О боже! Эта музыка! Эта тема – лучшая из всего сочиненного в мире! Волнение, пролитая кровь, слова любви! Малер… Его любимый Малер… Почему раньше никто не догадался? Сервасу кажется, что по его лицу текут слезы, но в глазах склонившегося над ним заместителя – тот жадно караулит малейшее проявление эмоций – одно лишь разочарование. Лейтенант забирает наушники, снова садится.
А Мартену хочется крикнуть: Еще! Еще! Я плакал! – но кричит только его внутренний голос.
Еще одна ночь. Снова пришел отец. Устроился на стуле. Читает вслух книгу. Как в детстве. Сервас узнаёт отрывок:
Сквайр Трелони, доктор Ливси и другие джентльмены попросили меня написать все, что я знаю об острове Сокровищ. Им хочется, чтобы я рассказал всю историю, с самого начала до конца, не скрывая никаких подробностей, кроме географического положения острова. Указывать, где лежит этот остров, в настоящее время еще невозможно, так как и теперь там хранятся сокровища, которые мы не вывезли. И вот в нынешнем, 17… году я берусь за перо и мысленно возвращаюсь к тому времени, когда у моего отца был трактир «Адмирал Бенбоу» и в этом трактире поселился старый загорелый моряк с сабельным шрамом на щеке [38].
Что скажешь, сынок? Не похоже на твое обычное чтиво?
Отец наверняка намекает на многочисленные научно-фантастические романы, которые он так любит, или на рабочие документы. На память вдруг приходит другой – пугающий – текст, прочитанный лет в двенадцать-тринадцать:
«Ужас и омерзение достигли во мне и в Герберте Уэсте невыносимой силы. Еще и сегодня вечером я вздрагиваю, вспоминая, как услышал из-под бинтов голос Уэста. Произнесенная им фраза была воистину пугающа:
– Черт побери, он не был совершенно достаточно свеж» [39].
Почему это воспоминание всплыло на поверхность именно сейчас? Да потому, что этим вечером, как и во все другие вечера, он покрывается мурашками, чуя Ее присутствие во всех темных углах и закоулках: она дала о себе знать в том мрачном доме близ железной дороги, на улице Паради; последовала за ним, как проклятие из фильма ужасов.
Черт побери, – должно быть, говорит она себе, – он еще не совсем готов…
6. Пробуждение
ОН ОТКРЫЛ ГЛАЗА.
Моргнул.
Ресницы шевельнулись… На сей раз – наяву. Его веки и вправду дрогнули. Дежурная медсестра стояла спиной к кровати и читала назначения. Белый халат обтягивал широкие плечи и могучие бедра.
– Сейчас возьму у вас кровь на анализ, – сообщила женщина, не ожидая ответа.
– Ммммм…
Она обернулась. Посмотрела на пациента. Он моргнул. Она нахмурилась. Он моргнул еще раз.
– Вот черт!.. Вы меня слышите?
– Ммммм…
– Черт-черт-черт…
Медсестра так стремительно покинула палату, что нейлоновые чулки звучно скрипнули, а уже через пару секунд она вернулась с интерном. Незнакомое лицо. Очки в стальной оправе. Мягкая щетина на подбородке. Подошел. Наклонился. Очень близко. Лицо крупным планом, как в кино. Запах табака и кофе.
– Вы меня слышите?
Мартен кивнул. Движение острой болью отозвалось в шейных позвонках.
– Ммммм…
– Я доктор Кавалли, – представился молодой врач, беря левую руку больного. – Если понимаете, что я говорю, сожмите мне ладонь.
Сервас сжал. Слабо. Доктор улыбнулся. Переглянулся с медсестрой.
– Позовите доктора Кашуа. Пусть немедленно идет сюда. – Достал из нагрудного кармана ручку. – Следите только глазами, головой не крутите.
Сервас выполнил команду.
– Гениально! Сейчас я выну трубку и дам вам воды. Не шевелитесь. Если поняли, подайте знак.
Сервас сжал пальцы.
* * *
Он опять проснулся. Открыл глаза. Увидел лицо Марго. Она плакала, но это были слезы счастья.
– Ох, папа… наконец-то! Ты меня слышишь?
– Конечно.
Он взял дочь за руку. Ее ладонь была горячая и сухая, его – холодная и влажная.
– Господи, папа, как же я рада!
– Я тоже, я… – Он попробовал откашляться, и ему показалось, что в горло напихали стекловаты. – Я… очень… рад, что ты здесь…
Ему удалось произнести эту фразу почти на едином дыхании. Он потянулся к стакану.
Марго поднесла воду к запекшимся губам отца, сдерживаясь, чтобы не заплакать. Сервас посмотрел на дочь.
– Ты… давно ты здесь?
– В этой палате или в Тулузе? Несколько дней…
– А как же твоя работа в Квебеке? – спросил Сервас.
За несколько последних лет Марго пробовала себя тут и там и наконец осела в одном небольшом издательстве. Ей поручили зарубежный сектор. Сервас дважды навещал дочь в Канаде, и каждый раз с трудом переносил полет.
– Взяла отпуск за свой счет. Не волнуйся. Все улажено. Гениально, что ты очнулся, папа…
Гениально. То же слово использовал интерн. Моя жизнь гениальна. Это гениальный фильм. Все гениально, повсюду и всегда.
– Я тебя люблю, детка. Это ты у меня гений.
Почему он так сказал? Марго изумилась. Покраснела.
– Я тоже тебя люблю… Помнишь наш разговор в больнице, куда ты попал после лавины?
– Нет.
– Я сказала: «Никогда больше так со мной не поступай».
И Сервас вспомнил. Зима 2008/2009-го. Погоня в горах на снегокатах и лавина. Марго у его изголовья.
Он улыбкой попросил у дочери прощения.
* * *
– Черт, патрон, ну и напугали же вы нас!
Он завтракал – ужасный кофе, тосты, клубничный конфитюр плюс лекарства – и читал газету, сидя в подушках, когда примчалась Самира, а следом за ней Венсан. Пришлось бросить на середине статью о том, что Тулуза каждый год принимает 19 000 новых жителей и через десять лет обгонит Лион, что в городе учатся 95 789 студентов, работают 12 000 исследователей и что он связан рейсами из своего аэропорта с 43 европейскими городами, а в Париж самолеты вылетают 30 раз в день. Но – ложка дегтя в бочке меда – между 2005-м и 2011-м численность тулузской и национальной полиции постоянно уменьшалась по сугубо бюджетным причинам, и эта драматичная ситуация так и не выровнялась. В 2014-м пришлось даже отказаться от технического переобучения некоторого числа полицейских, служащих в уголовной полиции. События 13 ноября 2015 года в Париже радикально изменили расклад. Полиция и судебная система неожиданно стали приоритетно значимыми, процедуры упростились, а ночные обыски снова были «в законе» (Сервас никогда не мог понять, почему нельзя задерживать опасного субъекта до 6 утра, – это же не война, когда обе стороны каждую ночь объявляют перемирие и ни одна сторона его не нарушает.) Дебаты об ограничении гражданских свобод и уместности их отсрочки, конечно же, оживились, но в демократической стране так и должно быть.
Сервас раздраженно отбросил газету. Самира в черной косухе с молниями и пряжками безостановочно моталась вокруг кровати. Венсан был в тельняшке, джинсах и серой суконной куртке. Внешне оба напоминали кого угодно, только не полицейских. Эсперандье достал телефон, приготовился снимать, и Сервас грозно произнес по слогам:
– Ни-ка-ких фо-то-гра-фий!
Он бросил взгляд на лекарства на тумбочке: два болеутоляющих препарата, один противовоспалительный. «Маленькие пилюли самые опасные», – решил он.
– Даже карточку на память не разрешишь сделать?
– Ммммм…
– Когда выписываетесь, патрон? – спросила Самира.
– Хватит называть меня патроном, это просто смешно.
– Ладно.
– Насчет выписки не знаю… Зависит от анализов и обследований.
– А потом что? Предпишут отдых и восстановление?
– Ответ тот же.
– Вы нужны в бригаде, патрон.
Мартен вздохнул. Помолчал. Потом его лицо просветлело, и он сказал с железной уверенностью в голосе:
– Знаешь что, Самира? Вы прекрасно справитесь без меня.
Затем открыл газету и углубился в чтение.
– Может, и так… Но все равно… патрон… я… схожу за кока-колой… – Она выскочила за дверь, и пятнадцатисантиметровые каблуки зацокали по коридору.
– Она не выносит больницы, – объяснил Венсан извиняющимся тоном. – Как ты себя чувствуешь?
– Нормально.
– Нормально – или на самом деле нормально?
– Я готов действовать.
– То есть готов к работе?
– К чему же еще?
Эсперандье вздохнул и упрямо насупился; вечно непослушная прядь волос упала ему на лоб, придав сходство с лицеистом.
– Прекрати, Мартен, это не шутки. Еще несколько дней назад ты валялся в коме и никак не можешь быть в форме! Да ты из кровати-то не вылез! И перенес операцию на сердце…
Кто-то деликатно постучал в дверь, Сервас повернул голову, и у него перехватило дыхание: на пороге стояла Шарлен, красавица-жена его заместителя. Длинные рыжие, как осенняя листва, волосы падали на белый мех широкого воротника, молочно-белая кожа сияла, зеленые глаза сулили райское блаженство каждому мужчине.
Шарлен склонилась над Сервасом, и он возбудился, как это всегда случалось в ее присутствии.
Он знал, что она знает. Знает, как сильно он ее хочет. И не он один.
Она провела ногтем по щеке Серваса, улыбнулась и сказала:
– Я рада, Мартен.
Только и всего. Я рада. И ведь она абсолютно искренна.
* * *
В следующие дни в больнице у Серваса перебывали все члены группы, большинство сотрудников бригады уголовного розыска, отдела по борьбе с наркотиками, полицейского отряда по борьбе с бандитизмом, Главного управления и даже службы экспертно-криминалистического учета. Из чумного он стал чудом исцеленным. Получил пулю в сердце – и выжил. Все тулузские полицейские надеялись, что однажды им тоже выпадет такой вот единственный шанс, и считали посещение коллеги своего рода паломничеством, актом почти религиозного поклонения. Все хотели увидеть вернувшегося с той стороны, прикоснуться к нему, услышать свидетельство из первых уст. Каждый жаждал подцепить частичку его фарта.
Во второй половине дня появился даже директор полиции Стелен.
– Господи, Мартен, с тобой случилось истинное чудо!
– Шестьдесят процентов людей, раненных в сердце, умирают на месте, – успокоил его Сервас. – Но восемьдесят процентов из тех, кого довезли до больницы, выживают. Смертность от огнестрельной раны в четыре раза выше, чем от раны, нанесенной холодным оружием… Чаще всего пули попадают в правый желудочек, левый желудочек, предсердие… Легкое оружие менее точное, пули после попадания имеют тенденцию смещаться; пули с полостью в носике и пули с мягким носом раскрываются при попадании, разрывая ткани жертвы и расширяя пулевой канал. Воздействие крупной дроби зависит от расстояния: с трех метров поражения кучные и более тяжелые, с десяти – веерные.
Стелен изумленно выслушал краткую лекцию и улыбнулся. Мартен, как всегда, досконально изучил тему – а может, пытал докторов, пока те не сознались.
– Этот тип… Жансан… Он умер? – поинтересовался Сервас.
– Нет, – ответил дивизионный комиссар, вешая серый мундир на спинку стула. – Его лечили в ожоговом отделении, а теперь заново учат жить в специализированном центре.
– Ты серьезно? Значит, он на свободе?
– Мартен, его оправдали – и по изнасилованиям, и по убийству бегуньи…
Сервас отвернулся к окну: небо над плоскими крышами больничных корпусов хмурилось и корчило гримасы.
– Он – убийца.
Сказал, как припечатал.
– Виновного арестовали. Он сознался. Против него есть стопудовые улики. Жансан невиновен.
– Не совсем. – Мартен бросил в стакан с водой горькую таблетку обезболивающего, выпил залпом и пояснил: – Он убил кое-кого еще…
– О чем ты?
– Он убил женщину в Монтобане.
Стелен нахмурился. За годы совместной работы он научился доверять чутью майора Серваса, но хотел услышать доводы.
– С чего ты взял?
– Как вы поступили со старухой-матерью и кошачьим выводком?
– Она в больнице, хвостатых отдали на попечение защитникам животных.
– Звоните им, немедленно! Выясните, у них ли еще молодой белый одноухий котик или его кому-нибудь отдали. Проверьте, где был Жансан в момент нападения в Монтобане. И не находился ли его мобильный в той же зоне в тот же период времени.
Сервас описал Стелену их визит в дом Жансана, котенка под ларем и реакцию преступника на короткую, произнесенную тихим голосом фразу: «Он не твой…» – об этом самом малыше.
– Молодой белый котик, – повторил дивизионный комиссар, не скрывая иронии.
– Именно так.
– Мартен, ты уверен в том, что видел? Я хочу сказать… Дьявольщина! Ты ведь не хочешь, чтобы мы арестовали человека только потому, что ты видел в его доме кота?
– А почему нет?
– Ни один судья не выпишет ордер, это ты понимаешь?!
– Может, получится задержать его на трое суток?
– Да на каком основании? Адвокат мерзавца нам и так житья не дает…
– В каком смысле?
Стелен ходил по палате, как всегда делал в своем огромном кабинете, все время на что-нибудь натыкался и рычал: «Дьявольщина!» Это было его излюбленное ругательство, и он пускал его в ход даже в тех случаях, когда нормальные люди выражались покрепче.
– Жансан утверждает, что ты гнался за ним с пушкой в руке и заставил подняться на крышу поезда, заведомо зная об опасности удара током. «Легавые сделали всё, чтобы я сдох…» Вот как он трактует случившееся.
– Током эту тварь шибануло, – подтвердил Сервас, – но он оказался на редкость живучим.
Ему показалось, что швы натянулись, и он коснулся их ладонью. Во время операции ему распилили грудину, и пройдут недели, прежде чем кости срастутся. А пока ему ничего нельзя поднимать и не следует размахивать руками.
– Всё так, но адвокат талдычит о преступном умысле и начале правонарушения, заключающегося в действиях, имеющих непосредственное отношение к совершению преступления.
– Какого именно преступления?
– Покушения на убийство…
– Что-что?
– Ты якобы пытался убить его электричеством! Шел дождь, ты не мог не видеть таблички с предупреждением на воротах, но все-таки преследовал Жансана и загнал на вагон, угрожая пистолетом… – Стелен всплеснул руками. – Да знаю я, знаю, что это полный бред, ведь у тебя и оружия не было. Но крючкотвор хорошо натаскал сволочугу, и тот нагло врет, не боясь греха, а мы сейчас должны быть очень аккуратны и не подливать масла в огонь.
– Жансан – убийца.
– Есть доказательства – кроме кота?







