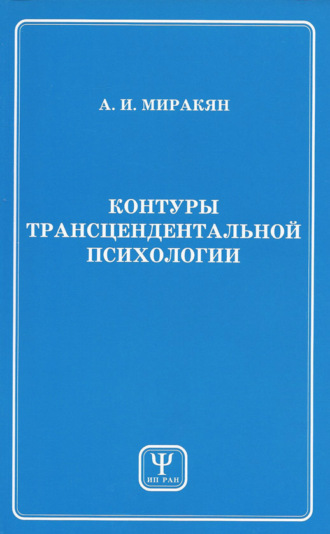
Аршак Миракян
Контуры трансцендентальной психологии. Книга 1
Обладая таким качеством мышления, человечество приступило к изучению психических явлений, находящихся внутри субъекта, принимая их как явления, находящиеся вне его, но, конечно, на основе принятых исследователем постулатов, т. е. через субъекта – через себя. Именно это и привело к той картине изучения психического отражения, которую мы имеем в философии Нового времени. Подходы разных исследователей к рассматриваемым вопросам, одним и тем же явлениям меняются в зависимости от выбранных основ, исходных постулатов. Но представление об этих явлениях как находящихся вне субъекта остается неизменным у всех, причем принятие данностей, постулированных «через себя», и составление отношения между этими данностями менялись в зависимости от уровня развития человеческого познания, средств научного анализа, эпохи и т. д. Если для античных философов таковыми данностями являлись душа и тело, ощущение и идея или понятие, то для Декарта – это ощущение, восприятие, ум, разум; для Мальбранша и Беркли – Бог и ощущение, восприятие, познание, сознание; для Локка – опыт, ощущение, познание. В зависимости от философского направления, от исходных постулатов, принимая эти данности или предлагая новые, исследователи рассматривали отношения между выбранными данностями и относительно них искали решение вопросов, возникших в истории философии. Примером такого выбора данности является декартовское понятие, относительно которого ставились вопросы, связанные с психическим отражением: об источнике образования знания, об отношении между чувственным восприятием и понятием, об их соответствии и т. д.
Декарт берет разум как данность, и, действительно, он есть данность человеку в виде результата того процесса, который также принимается как более общая данность, являющаяся в виде способности человека к идеальному – психическому отражению. Однако, при решении вопросов, касающихся содержания психического отражения, например, о том, что является источником образования понятия-знания, Декарт в качестве исходного основания при построении представления об этом подлежащем изучению явлении берет разум и относительно него составляет отношение между чувственными данными и разумом, между сознанием, знанием и разумом, умом и т. д. В результате, разум выступает в двух основных ролях: как опора, начало анализа, и как мерило, с которым сравниваются остальные данности, входящие в логически составленные отношения.
Но так как данность разума явлена человеку как продукт психического отражения, разум не может быть опорным началом при поиске истоков собственного образования. В противном случае имеет место тот замкнутый круг, когда при познании психического отражения исследователи опорным началом выбирали душу, ощущение, восприятие, понятие, ум, разум, сознание, опыт, поведение и т. д. в их наличном состоянии, в их данности человеку, и, в силу этого непременно возвращаясь снова к началу, приходили к выводу о божественности этого начала, потусторонности психического, идеального и т. д. Если в истории философии и психологии какой-то исследователь не доводил такой возврат до исходного, то следующий исследователь, принимая в качестве опорного начала другую данность, непременно доказывал возврат первого к исходному основанию.
Именно это дает основание думать, что для понимания природы психического отражения необходимо найти такую данность, которая не входила бы в само явление психического отражения, а находилась бы вне его, но и вместе с тем имела бы непосредственное отношение к явлению психического отражения, к его природе и даже являлась бы частью этой природы. В качестве такового в философии и психологии принимались: душа, Бог, абсолютная идея (идеализм); ощущающее тело, движущееся среди предметов (материализм и сенсуализм); специфическая энергия (физиологический идеализм); движение тела и его отражающих органов (экспериментальная физиология); мозг как орган психики (материалистическая физиология); опыт в локковском понимании; поведение (бихевиоризм); деятельность (сторонники общественно-социальной детерминации психики) и т. д.
Действительно, все перечисленные данности удовлетворяют указанному требованию: они находятся вне психического отражения и кроме Бога, абсолютной идеи и специфической энергии – имеют непосредственное отношение к явлению психического отражения и служат частью его природы. Все они, несмотря на различное содержание и принадлежность к разным философским методологическим направлениям в понимании явления психического отражения, имеют общую особенность, а именно: они вводятся в процесс изучения психического отражения в форме наличной данности в том законченном виде, в каком они представлены исследователю в его эпоху, т. е. уже в конкретно-исторической психической форме, не содержащей в себе следы исторического процесса развития психики, в результате которого человеку является эта данность в конечной форме, которой он пользуется для понимания природы психического отражения.
Важно отметить, что говоря об использовании исследователями готовых данностей, мы отнюдь не забываем о богатой истории изучения эволюции живых организмов, их фило- и онтогенетического развития, развития мозга и т. д., а также развития психики и психического отражения. Мы лишь подчеркиваем, что в основе изучения психического отражения лежат те непосредственные данности, которые являются перед исследователем в результате психического отражения.
Например, при изучении истории развития мозга, как физиологического органа психики, он берется в виде уже отраженной человеком данности и как физиологический орган, и как орган психики. Но история развития мозга, понимаемого через данность его человеку – это эволюция физиологического органа, потому что в данном случае мозг по форме данности предстает как нечто, находящееся вне исследователя. Исследуя мозг, историю его развития, исследователь может обнаружить лишь новые данные о связи мозга с психическим отражением, а не раскрыть природу самого психического отражения, так как изначально в основу изучения истории развития мозга им положены данности мозга и психики, а также и третья данность – наличие связи или взаимосвязи друг с другом. Поэтому исследование развития мозга обогащает понимание этой взаимосвязи, но природа самого психического отражения остается при этом в стороне, так как собственная история его развития не исследуется. Получается, что эти три опорные данности не соответствуют задаче изучения природы психического отражения.
Однако изучение мозга и психики на основании указанных данностей дает богатый материал для определения философско-гносеологического вопроса о взаимосвязи и взаимообусловленности материального мозга и идеальной психики, предоставляя тем самым все новые и новые доказательства того, что идеальное есть результат развития материи. Эти доказательства, являясь основой мировоззрения, становятся методологией, указывающей путь отыскания другой основной, отправной опорной данности, посредством которой можно понять природу психического отражения и историю его собственного развития. Психология как наука, возникнув в недрах философии и имея тот же, что и философия предмет исследования, ставила собственные проблемы на тех же логических основаниях, что и философия. Общность предмета изучения и продуктного способа мышления (посредством наличной данности) привели к слиянию философского и психологического понимания объекта изучения и сходству в постановке проблем. Различие же в основном состояло в том, что философия имела дело с общими вопросами отношения психического отражения к бытию, а психология – с частными вопросами, касающимися выявления средств и способов психического отражения. Так формировалось представление о том, что философия имеет дело с общими проблемами психического отражения, а психология, – с явлениями, происходящими в отражающем субъекте. Таким образом, в философии и психологии объекты исследования оказались разными, а предмет и методы исследования совпали. Если метод исследования психического отражения через его продукт соответствовал задачам и проблемам философии, то в психологии задаче выяснения конкретных механизмов психического отражения не соответствовал стиль мышления через наличную данность и непосредственно выбранный объект изучения – субъект, в котором происходит психическое отражение и который является носителем этих данностей.
В качестве примера возьмем для анализа такой объект исследования в философии и психологии, как явление чувственного восприятия. Философская формулировка проблемы чувственного восприятия предписывала выяснить: наличие или отсутствие связи между объектом восприятия и образом как идеальным отображением этого объекта; наличие или отсутствие изоморфизма между свойствами объектов и данными их чувственного восприятия; связь между объективным свойством и понятием как идеальным представлением об этом свойстве; изменчивость самого объекта восприятия и данных чувственного восприятия, с одной стороны, и постоянство образа или понятия – с другой, истоки постоянства понятий, образующихся на основе изменчивых данных чувственного восприятия; и, наконец, главный вопрос: объективное предопределяет образование понятия, а последнее – познание или же через понятие образуется и объективное, и познание. Нетрудно заметить, что в решении этих вопросов независимо от материалистического или идеалистического направления за исходную основу берутся уже опосредованные сознанием исследователя данности: уже отраженный объект с его свойствами; чувственное восприятие и его изменчивость, образ и его адекватность объекту; постоянство понятия; познание как производное от понятия и т. д.
В психологической формулировке проблемы чувственного восприятия главным является не решение перечисленных философских отношений, а то, как протекают конкретные процессы, осуществляющие эти уже описанные в философии отношения в субъекте, действующем в данный момент в объективном мире среди других субъектов. В соответствии с исходным методологическим представлением и таким пониманием задач психологии и изучались явления чувственного восприятия в качестве первой составляющей психического отражения. При этом изучение закономерностей процессов, происходящих в субъекте, основывалось на тех же отношениях, на тех же данностях, что используются в философии – на данностях уже отраженных продуктов психического отражения. Само понимание чувственного восприятия в качестве начального этапа психического отражения могло возникнуть только в результате изучения психического посредством отраженной субъектом данности.
В результате, изучение чувственного восприятия шло, с одной стороны, через разработку философского отношения объекта и образа, с другой стороны, – через изучение явлений, образующих это отношение в процессах, происходящих в субъекте. Такое причинно-следственное представление о чувственном восприятии неизбежно привело к вопросам о том, как и какими средствами реализуется в субъекте этот процесс превращения объекта в образ. В поиске ответов на эти вопросы психология вынуждена была обратиться за помощью к физиологии, которая, опираясь на естественнонаучные представления о материальности мира и мозга как материального органа психики, имела возможность конструктивно и на соответствующем современному состоянию науки уровне объяснить работу тех механизмов, которые могли бы реализовать указанное превращение. Однако, разрабатываемые физиологией принципы работы физиологических механизмов не позволили ей объяснить процесс образования идеального. Поэтому физиология вынуждена была либо искать новые объяснительные принципы и механизмы, либо обращаться к данным изучения эволюции и патологии отражательных систем.
Таким образом, при изучении психического отражения и философия, и психология, и физиология опирались на данность продуктов отражения. Но если при изучении собственно философских и физиологических проблем оперирование данностями психического отражения соответствовало предмету и принятым в этих науках способам исследования, то при изучении проблем психического отражения такая опора на уже отраженные данности создавала тот замкнутый круг, выйти за пределы которого различным психологическим школам и направлениям не удавалось прежде всего потому, что способ выхода из него исследователи психики искали в различных философских или в физиологических учениях. В результате – постоянные «колебания» психологии между философией и физиологией, что подтверждает вся история психологии. Интересно, что как бы ни принималось в психологии чувственное восприятие – как следствие физического воздействия объекта или как результат работы физиологических механизмов (т. е. с точки зрения материалистической философии) – его понимание всегда имело гносеологическую направленность и соответствовало характеру изучения проблем восприятия в философии, а не материалистическому способу изучения самого психического отражения. Хотя результаты психического отражения, оформленные как данность в виде идеального, являются основой при постановке гносеологических проблем, это не считается идеалистическим объяснением, так как порождение идеального принято исходя из первичности материи, ее детерминирующей роли в образовании психического. Но условиям материалистического изучения психического отражения такая ситуации, когда исходным основанием изучения является само идеальное, удовлетворить не может.
Эта же идеальная основа изучения эволюции и работы органов чувств и мозга в различных живых системах с целью познания закономерностей психического отражения являлась причиной того, что результаты выполненных в данной парадигме исследований были лишь развитием естественнонаучных основ материалистической линии философии. В этих исследованиях мозг, например, изначально берется как орган, отражающий идеальное, носитель души, ума, образов и т. д., как данность налично существующего органа в филогенезе и онтогенезе, а затем изучаются закономерности психического отражения через его идеальную сущность. Мы же считаем, что предметом изучения должны стать закономерности образования этой данности, являющейся человеку как идеальное.
Итак, основной вывод из наших рассуждений. В течение веков понятия души и мозга, как ее носителя, претерпели множество изменений. Но неизменным всегда оставалось главное: понятие души рассматривалось как данность человеку, а изучение души мыслилось посредством тех различных форм, являющихся человеку законченной результативной стороной, которые, полностью соответствуя эмпирическому стилю мышления человека, образовывали исходные опоры, положенные учеными в основу построения различных подходов к изучению психического отражения.
2. Интерпретация профессором В. В. Давыдовым статьи «Анализ теории деятельности и изучение принципов функциональной гибкости в процессах восприятия»
УД 62[5] 12.01.77
В обсуждении приняли участие:
В. В. Давыдов (В. Д.),
A. И. Миракян (А. М.),
B. В. Рубцов (В. Р.)
В. Д. – Мне очень важно просто поговорить с тобой о некоторых вещах. Ты уже видел мои пометки? Общее впечатление такое: читать очень трудно, очень тяжело.
A. М. – Написано очень сложно.
B. Д. – Да, но дело не в стилистических погрешностях или в качестве языка. Речь идет о чисто понятийных вещах. Скажу прямо: это требует серьезного разговора.
Твоя первая же идея сразу у всех выбивает почву из-под ног, у всех. И эту идею ты весьма понятно продемонстрировал. Затем логика нарушается.
Аршак, ты показываешь, что кроме Аристотеля, который вырвался из сферы психического при его объяснении, кроме Гегеля, который понял Аристотеля (я потом скажу, что он не только понимал Аристотеля, но и развивал его идеи), все остальные пытались представить себе психическое через наличность психического. Поэтому, даже говоря о том, как развивается психика, они брали за исходное наличность психического. Аршак и показывает, как по-разному понималось само психическое «от Эмпедокла до наших дней». Но дело не в этом, здесь логический ход. Этот ход Аристотеля понят Гегелем: психическое не в его наличности, а в его возможности. Как возможно психическое? Как оно становится?
Психическое, как возможность… И Аршак развивает на многих страницах очень трудного текста одну простую мысль: психическое, сознание и душа есть сам переход, сам переход! Основной пафос статьи: когда оно есть – эмпирически фиксируемое и оформляемое в понятиях – его уже нет. Есть переход – энтелехия. Аршак показывает, что было только два мыслителя, которые, – один по существу, а второй в оценке (хотя я немножко не согласен, Гегель не только в оценке) – пришли к этой идее. Ко всякому нусу (я нарочно употребляю «нус», чтобы было нейтрально) как превращению телесного в духовное, когда духовное есть – тоже нет, когда телесное есть – тоже нет! И (здесь нейтральность!) сам акт, сама акция, сама констатация и сама плоскость превращения есть особый тип действительности, которую Аристотель назвал «энтелехией». Ни это, ни это, ни то, а сам процесс перехода есть процесс превращения телесности в духовность – нус, и это есть его подлинная действительность, его деятельная действенная форма! (…Кстати это абсолютно новое решение спинозовской проблемы, с этой точки зрения формально существуют не две, а три субстанции).
Что такое «нус»? (Я нарочно употребляю нейтральный термин). Переход, перерождение, возможность рождения, возможность расчленения. Когда есть действительность, нус состоит в том, чтобы разорвать ее! Чтобы сделать несоединимым соединимое и показать, как на новом уровне оно соединяется, – действительность перехода. Гегель сказал – становление. Это мистическое представление… У меня масса возражений, но главное не в этом. Главное, Аршак показал, что мы не решим исходного вопроса «что исследовать», если не представим, что объектом исследования является само превращение.
В. Р. – Да, превращение.
В. Д. – Берете полюса – теряете понятийную устойчивость, теряете чувственную изменчивость! И отсюда (мне это понятно, у меня это более застывшее понятие, у тебя же гораздо глубже) превращение возможности в действительность, превращение материи в определенность, в оформленность вещи, становление действительности из возможности – вот что такое твоя область духа! Вот где работает психика! А остальное есть субстанциональные и понятийные характеристики.
Я попытался выразить дух, направленность работы. Что же такое суть психики? Психики, подлинно фиксирующей абсолютную изменчивость, подлинно фиксирующей абсолютную гибкость, подлинно фиксирующей постоянную возможность возможного. Почему? Она передовик фиксации возможного перехода. Это будет устойчивым. Как возможна фиксация неустойчивого? Ненатуралистическое признание возможности определения неустойчивости. А как оно возможно? Как возможно ощущение как буквальное соединение с неустойчивостью? Как возможность формы, как возможность начала формы, как форма начинает действовать, как деятельная действенность начинает существовать. Вот как он ставит вопрос! В этом суть психического!
Так я попытался обобщить свои ощущения.
A. М. – А каково Ваше отношение к этим идеям?
B. Д. – Каково мое отношение? Я бы ничего не понял, если бы не считал, что это более тонкое, более понятийно отработанное предчувствие, которое есть у меня самого. Для меня это в более рассудочных, более определенных категориях выражается так: создание основ ирреактивной теории поведения. Блестяще!
Знаешь, что я тебе посоветую? Это не опубликуешь в «Вопросах…» как теоретическую статью – никто не поймет. Это можно подать как историческое исследование. Тогда я бы взялся отредактировать, отрецензировать: как вопросы истории. Нужно срочно давать в «Вопросы психологии»! Некоторые скажут: «Нам это не понятно!», а я им скажу: «А если вы дураки? «Вопросы психологии» давно уже стали непонятным журналом, и я давно уже сам его не понимаю…»
Я потом тебе подробнее объясню, почему я это все так понял, почему везде я пишу: NB! NB! «Очень важно!», «Очень важно!»… Приедешь ко мне, я тебе расшифрую многие тексты, покажу многие вещи и у Гегеля, и у Аристотеля, которые ты не используешь… Я понимаю, что всего не используешь, для этого нужно книжку писать. Ну, конечно, сейчас статья, диссертация, а книги будешь потом писать.



