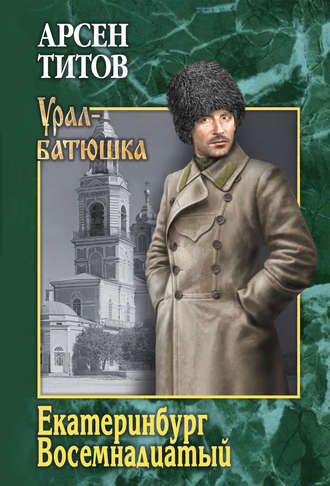
Арсен Титов
Екатеринбург Восемнадцатый (сборник)
9
Накаркал Миша мне Пашу.
Впрочем, это случилось несколькими днями позже.
А в ту ночь мы сидели в каморке у Ивана Филипповича, сидели втроем.
– Говорили люди, что он из этих, – сказал Иван Филиппович, – из этих, не то бомбистов, не то этих, не знаю, как и сказать, а я не верил!
Из каких, из эсеров, анархистов, декадентов или еще из кого, по словам Ивана Филипповича, выходил Миша, я не стал гадать. Было совершенно не до этого. Меня донимал вопрос, промахнулся Миша или намеренно выстрелил мимо. Не случись этой революции, не случись мне повидать и на себе испытать всю человеческую гниль и падаль, не случись увидеть, как все превратилось в сволочь, я бы не гадал, я бы не додумался гадать. Я был бы совершенно уверен, что Миша стрелял мимо. Теперь же я слушал взволнованный разговор Ивана Филипповича с Анной Ивановной и гадал. И еще я думал, как же мне завтра придется встретиться с ним, с моим другом Мишей.
А Господь сподобил никак его в этот день не встретить. Я явился к начальнику гарнизона, то есть в военный отдел исполкома совета. Уже на лестнице меня сжало сильным напряжением. И я, пока поднимался, молил только о том, чтобы не напомнили о себе, как уже стало мучительно привычным, рубцы. Адъютант и бывший поручик Крашенинников, зная нашу с Мишей дружбу, приветственно махнул мне рукой.
– А ваш amis cordiale, друг сердечный, просил за вас по известной вам причине! – с улыбкой сказал он.
– Простите, не понимаю вас! – остановился я.
– Да я отпускаю вас домой или к нему, куда вам будет угодно. Вы сегодня свободны от службы, так сказать, для вас сегодня неприсутственный день! – сказал он и со значением понизил голос. – Сам он решительно в разобранном состоянии. Но за вас похлопотал. Я вам сейчас увольнение подпишу!
Как решительно Миша оказался в разобранном состоянии, так же решительно я отказался от предложения Крашенинникова, хотя вздрогнула мне перспектива побыть весь день дома. Крашенинников взялся меня уговаривать. Я взялся отказываться. Нашу дуэль прервал начальник гарнизона Селянин. Он вошел с лестницы, протащив за собой клуб стужи. Я представился ему.
– В мое распоряжение? Ну, так это – начальником патруля на Арсеньевский проспект, а потом замыкать всю эту панихиду! У вас будут два солдата, тьфу, военнослужащих сто двадцать шестого запасного полка! Кстати, вы сами в каком полку служили? – сказал он.
– В войну – Девятый сибирский казачий полк, корпус генерала Баратова в Персии! – привычно солгал я насчет моей казачьей принадлежности.
– Не знаю такого! – признался Селянин и повторил мне сегодняшнюю задачу.
Крашенинников хотел ему возразить, но я замахал рукой. Он в сожалении пожал плечами. «Вот, как славно!» – сказал я себе, хотя славного было в том не весть сколько, и пошел получать оружие. В оружейной комнате заведующий, в гимнастерке без пояса и шапки мужик, по виду, мой ровесник, достал из-под стола шашку в затрапезных ножнах и некую черную с зеленоватым отливом бесформенную кожаную сумку, отдаленно смахивающую на кобуру. Я не утерпел спросить, что это.
– Что? – тоже спросил заведующий.
– Вот это что? – показал я на сумку.
– Это-то? – посмотрел на меня заведующий и, полагая, что я никогда не видел оружия, развеселился: – Это пистолет! Эх ты, дядя с племянницей!
– Разве? – перехватил я его веселость, открыл сумку и вынул оттуда подлинного монстра, то есть, конечно, пистолет, но пистолет, в котором я сразу узнал пистолет образца, кажется, тысяча девятисотого года австрийской фирмы братьев Биттнеров – некое ужасное их творение, представляющее собой нечто среднее между револьвером, садовыми ножницами и мелким динозавром, кроме этого, еще отличающееся сложной системой работы.
Я сунул пистолет обратно в сумку и подвинул ее заведующему.
– Что так, дядя? – спросил заведующий.
– Нет, товарищ! Я лучше пойду с одним тесаком! – взял я шашку.
– А ты уросливый! Уважаю! – не теряя веселости, хмыкнул заведующий и пошел отпирать оббитый жестью шкап. – Тогда вот этот! – подал он пистолет австрийской же фирмы Штайера.
Пистолет Штайера, или Repetierpistole M12, c магазином в восемь патронов, заряжающийся сверху, был красив какой-то особенной красотой обточенной плоской серой морской гальки. Я подержал его в руке, погладил, ощущая обточенность и обтекаемость форм. Чем-то он навевал картины австрийского художника Климта с его текучими плоскостями объемов. Вспоминая академический урок, я отвел затвор, опустил рычажок задержки патронов и тем открыл магазин, оказавшийся пустым. Потом, отделив ствол от рамки, я посмотрел его на просвет. Застаревший пороховой нагар поведал мне о некогда бурной жизни пистолета и вероятной гибели его владельца. Заведующий с интересом наблюдал за мной. Я молча показал ему нагар.
– Патроны? – сделал он вид, что не понял меня.
– Да нет, товарищ военнослужащий! В такие сталактиты патрон молотком не вгонишь! – сказал я.
– А кто стрелял, тот пусть и чистит! – сказал заведующий.
– А кто стрелял? – спросил я.
– При мне никто! Я и не давал его никому. Все вот этой клюшкой обходились! – показал он биттнеровского монстра в сумке и вдруг предложил: – Ты, дядя, я вижу, толк понимаешь! Ты возьми его да почисти сам! Вот польза будет!
– А отдай его мне совсем! – неожиданно и весело сказал я.
– А бери! Если так понимаешь, не жалко! А здесь все равно никто ничего не понимает! – тоже весело сказал заведующий.
Я, не понимая, ни себя, ни заведующего, глядя ему прямо в глаза и улыбаясь, медленно собрал пистолет и медленно положил его в карман, подождал, решил, что он меня не разыгрывает, застыдился своей выходки и медленно положил пистолет на стол. Заведующий проследил за моими движениями, помолчал, явно справляясь с горлом.
– А я так тыкался с ним, и так тыкался, и этак. А у тебя ловко получилось! – скрипуче сказал он.
Я кивнул, взял сумку с монстром, шашку, расписался в журнале и пошел.
– Так что, почистишь? – спросил заведующий.
– Непременно! – кивнул я.
– Ловко у тебя! – сказал он.
«Ловко!» – подумал я обо всем враз.
Я дождался солдат, то есть военнослужащих сто двадцать шестого запасного полка, и мы пошли на вокзал, на площадь перед старым, прянично-теремочным его зданием, оказавшимся клубом красной дружины ближнего участка. Новый вокзал, кажется, еще не достроенный, но уже работающий, гляделся каким-то безлико-сумрачным, будто обидевшимся.
Стало светать, и стали прибывать, так сказать, войска гарнизона, местные красногвардейские команды вперемешку с толпами демонстрантов. К началу церемонии и прибытию командующего церемонией прапорщика Браницкого площадь и весь проспект были напрочь запружены.
О сем событии через несколько дней я прочитал в газете известий советов. Газетное описание я и помещу сюда, как бывало я помещал в прежнее повествование некоторые документы, присылаемые мне в Персию моим однокашником Жоржем Хуциевым, так сказать, для истории. Тем более, что я мог наблюдать только начало церемонии, вынос гробов из вокзала, а потом, следуя в самом хвосте процессии, даже позади двух грузовых автомобилей с пулеметами в кузовах, с Вознесенской горки увидел, что весь Вознесенский проспект занят этой процессией, и, говорили, что голова ее прошла Каменный мост на Покровском. И потом, когда начался на Кафедральной площади митинг, масса демонстрантов толклась на Уктусской улице, пулеметы смотрели на нее, а мы продолжали, согласно определенной нам задаче, быть позади всех, всё еще на Покровском. Таким образом, я мало что видел. Но все-таки я позволю себе не воздерживаться от своего мнения.
Прежде всего, меня смутило то обстоятельство, что церемония была объявлена довольно поздно по отношению к концу самих оренбургских событий. Мы с сотником Томлиным прибыли в Оренбург, уже покинутый Александром Ильичом Дутовым. Революция ликовала. Ее ликование, слава богу, миновало нас. Опять помогла моя, как выразился сотник Томлин, справочка. До револьвера к виску было стыдно пользоваться ею, но иного выхода у нас не было. Так сказать, шлепнуть нас могли и по приговору революции и без ее приговора, так как кроме нее самой, то есть кроме ее вершителей, этой сволочи, спрятавшейся за революционными штыками, город был отдан на поругание. В нем правил тот, кто хотел. Вся уголовня, весь уголовный элемент повыполз и пустился в пляс, пустился грабить, убивать, насиловать. Ну, так вот, в ожидании разрешения выезда мы провели в городе несколько дней. И здесь, в Екатеринбурге, я пребывал уже десятый день. Участник боев, наш жилец Кацнельсон вернулся еще раньше меня и успел даже потребовать себе сапоги взамен тех, что остались в хате при спешном ее оставлении. А этих погибших привезли только что. При том их оказалось всего четверо. По-христиански – так лучше бы вообще не было ни одного. Но четверо погибших никак не вписывались в то напряжение, каким отличались бои за город. На основании, так сказать, изложенного, я беру смелость заметить, что похороны этих несчастных стали революционным спектаклем, а сами они, несчастные жертвы, оказались первыми попавшимися или, наоборот, последними не захороненными на месте боев.
И позволю себе еще одно характерное сообщение. Когда мы проходили мимо женской гимназии, в толпе наблюдающих процессию с крыльца гимназии я увидел нашего учителя истории и географии Василия Ивановича Будрина. Он тоже увидел меня, обрадованно выбежал ко мне, обнял, уже старенький и, по революционному времени, стершийся, растерянный в нынешнем старании быть без лица. Много говорить с ним я не мог. Мы условились, что я приду к нему на дом. Я спросил, не перешел ли он преподавать в женскую гимназию. Он поведал мне, что оказался здесь по случаю. Случай же был таким, что гимназистки приказ совета о неприсутственном дне сочли за не подлежащее исполнению.
– Вы только подумайте! – зашептал он. – Они вчера собрали общее собрание и выступили против отмены занятий, заявив, что казаки в Оренбурге сражались за Родину, а эти поехали их убивать и свое получили! Никакие увещевания педагогов на них не подействовали! Во избежание худшего, педагоги решили занятия не проводить, но на службу выйти. Вот теперь мы смотрим с крыльца, не смея покинуть гимназию. А они, – он махнул по окнам здания. – а они так никто к окнам не подходит. Вон поглядите! Они игнорируют!
Я кивнул, сам не зная, то ли я поддержал гимназисток, то ли просто принял слова моего учителя к сведению. Мне надлежало быть патрулем. Мне надлежало тащиться позадь всей процессии, позадь всего этого спектакля. А впереди меня громыхали два грузовика с пулеметами в кузове. И я думал, а ведь они, то есть власть, очень серьезно взялись за дело. При государе императоре грузовиков бы не было. И я сам тоже не догадался бы в спектакль вставить грузовики с пулеметами.
Одним словом, я иззябший и голодный вернулся домой.
А, нет, я забыл в ощущении своего того ничтожества, которое я терпел, следуя за двумя грузовиками с пулеметами, я забыл, что я собрался поместить текст газеты известий. А он, текст, был написан так. Ими это было названо светлыми похоронами. И вот он, документ.
«Светлые похороны.
От подъезда вокзала к Арсеньевскому проспекту протянулись шпалеры революционных войск с оружием: справа – местный гарнизон, слева – красногвардейцы всех районов с винтовками к ноге. (Прошу прощения за стиль документа, за мое вмешательство в текст. Но читать ложь о том, что войска революционные – это уж ладно, это уж примета времени. А отношение слов „винтовками к ноге“ только к красногвардейцам – это неточность. Все были „винтовками к ноге“.) В общий строй войск вливается отряд оренбуржцев. Видны коренастые фигуры матросов с „Гангута“. (Они, правда, были видны, хотя их была горстка.) В проходы между рядами войск строятся со знаменами демократические организации, рабочие союзы, делегации съездов партий. Всюду реют красные и многочисленные на этот раз черные знамена. Перед входом в вокзал – транспарант – „Вечная память павшим борцам!“ Та же надпись на многих знаменах. „Горе и проклятье убийцам!“, „Вы жертвою пали…“ (Еще раз вмешаюсь: гимназистки были правы – убийцами были не казаки Александра Ильича Дутова, убийцами были именно те, кого нам в Екатеринбург привезли. И далее по тексту.) „Да здравствует царство рабочего класса!“. „Единая власть советов!“ Анархисты: „Долой власть и капитал. Да здравствует анархизм!“ Милиция: „Вперед на защиту граждан!“»
Вынос гробов в 12 часов.
Одна за другой перестраиваются шеренги войск и красногвардейцев и с винтовками на плечах вступают в процессию. (Это надо было видеть, их перестроения «С винтовками на плечах». Хотя мне от крыльца вокзала и не было видно, но часть сумятицы их перестроения я все-таки видел. Печальное зрелище. Я даже подумал, а, черт, возьми, не взяться ли мне их поучить, так называемых запасных и так называемых красногвардейцев!) Два оркестра попеременно играют. (Один оркестр был возле крыльца, а другого я не видел, но слышал его). Процессию замыкают два грузовика с пулеметами (Вот это правда, оба тихо гремели впереди нас. Я полагаю, излишне объяснять их задачу в сем спектакле).
Голова колонны у «Лоранжа», а хвост на мосту через Мельковку (Я не видел того, кто бы шел с нами и писал или брал на память, что бы потом написать. Ну, да Бог с ними. Итак: хвост там, а мы еще здесь.) Далее по Покровскому, по Уктусской к площади, к братской могиле около бывшего памятника Александру Второму.
Стрелка равняется двенадцать двадцать. Похоронный марш. В дверях вокзала показывается первый красный гроб – несут на винтовках. (Пусть это враги, но я взял по команде «на краул».) По команде войска берут «на краул». (Я взял ровно через столько секунд или наших вздохов, которые положены уставом. Войска, пока услышали команду, взяли чуть позже.) Знамена склоняются. Шапки – долой… (А далее из другого номера газеты – уже о том, чего я не видел, ибо торчал на перекрестке Покровского и Уктусской, ближе к Каменному мосту и со взглядом в сторону нашего дома, где Иван Филиппович явно в сороковой раз в ожидании меня грел самовар, а Анна Ивановна обо мне думала.)
Далее вот так.
«Пьедестал памятника в черном коленкоре. Фонари по углам памятника обвиты красным ситцем. Могилы между Кафедральным собором и памятником.
В начале третьего часа голова колонны показалась на Уктусской. Впереди черное траурное знамя. За ним красные гробы и лес черных и красных знамен. Смолкают оркестры. Команда на салют. Выстрелы. Пороховой дым поднимается к небу.
И, глядя на величественно приближающуюся процессию, глубоко верилось, что нет той силы, которая победит восставший народ. И жалки, и смешны казались судорожные попытки темных контрреволюционных сил встать поперек его дороги к царству Свободы и Братства. И скорбь похорон сплеталась с чувством радости за будущее освобожденных братьев». Потом были выступления нынешней власти. Голощекин заявил: «Их гробы это величайший символ победы восставшего народа!» Некто Демьянюк пошел во лжи еще дальше. «Мы пойдем против буржуазии, не жалея жизни!» – объявил он. Еще: «Мы построим им, здесь лежащим в гробу, памятник. Но настоящий памятник воздвигнем тогда, когда дойдем до торжества социализма!» Некая дама от лица властвующей партии стала говорить об отсутствии большей любви, нежели отдать жизнь «за други своя» – вероятно, хотела приплести слова Николая Васильевича Гоголя из «Тараса Бульбы». «Мы еще будем пользоваться жизнью, – заявила она, – а они уже отдали ее за нас. Кровь их будет на нас, на наших детях, если мы изменим делу революции!» – Выступала потом некая Юровская, то ли жена, то ли дочь Мойши, или как его там, Янкеля Юровского. Она понесла бред про какие-то знамена, которые якобы не донесли эти несчастные четыре жертвы. Выступил, судя по газете, и Паша Хохряков. Его слов газета не поместила – видимо, такие были слова. А некий с фамилией Украинцев вообще заявил, что там, под Оренбургом, «трудовой народ встречал их хлебом-солью, а разряженные барышни расчищали снег перед ранеными контрреволюционерами». Куда брели сии раненые контрреволюционеры и откуда там взялись разряженные барышни, чтобы расчищать снег перед ними – сей оратор этого не сказал. В общем, несли все то, что в «трудовом народе» называется бредом сивой кобылы.
Я бы не стал связывать себя со всем этим кощунством, если бы не видел в нем какой-то нечеловеческой злобы против вымышленных ими контрреволюционеров, то есть против меня, против моих товарищей, полегших под Сарыкамышем, в Персии – да где угодно – полегших, защищая наше Отечество. Я ругал себя. Я говорил себе, черт-де дернул тебя подчиниться корпусному комитету, по сути, настоящим контрреволюционерам, взявшимся уничтожать Россию, черт-де дернул тебя не уйти к Василию Даниловичу Гамалию в его Георгиевскую сотню, не уйти к партизану Бичерахову, где меня не достал бы никакой комитет. А коли дернул, то и тащись за всей этой комедией с гробами, за всем этим революционным бредом, настолько революционным, что посчиталось победившей революцией держать позади своих сынов два грузовика с пулеметами.
Иззябшийся и голодный я шел домой. Раньше это, служба, была для меня радостью, она была для меня службой. Раньше я ее любил. А теперь я шел к себе домой и спрашивал себя: Что? За что? Что это? За что мне, подполковнику русской армии? – и я не хотел знать, что нет ее, русской армии, что нет России, а есть только Паши Хохряковы, есть только Мойши, или как их там, Яши-Янкели Юровские. От их существования, от их службы я не мог уже любить службы, я не мог уже… – а что уже, что я не мог, – было невозможно сказать.
А дома меня встретила своя контрреволюция. Дома жильцы мои Ворзоновские съезжали. Причиной тому стал выстрел Миши.
– В таком щекотном положении, когда война уже пошла по комнатам, мы быть не желаем! Вы вот тут стреляете, вы вот приказы пишите на гонимых вами же простых несчастных обывателей – а вот посмотрите, таки кого надо выселять! – дал мне газету известий Ворзоновский.
Я удержался от вопроса, приготовлен ли донос на какого-то их собрата для Миши. Я взял газету и отдал Ивану Филипповичу.
– Айда, айда с Богом! – молился он по поводу Ворзоновских и настороженно смотрел, не взяли ли они чего-либо из нашего имущества, хотя как они могли что-то взять. Они были обыкновенными, как сказал сам Ворзоновский, обывателями. Если их что и заставило смошенничать, так та же революция, обыкновенная безысходность и обыкновенный инстинкт выжить. Вероятно, это понял и Селянин, отчего заставил их только оплатить расходы и штраф, а не отдал их Паше Хохрякову.
Анна Ивановна была в каморке Ивана Филипповича. Она было кинулась развязать мне мерзлый башлык, но смутилась своего порыва. Я же вспомнил брата Сашу после Маньчжурии – так он являлся домой, а матушка и нянюшка выходили его встречать, развязать башлык, повесить шинель, выходили и ждали, когда он снимет портупею, расстегнется, а он целовал им руки и бывало плакал от стыда за бездарное, по его мнению, возвращение с войны. Я в это время обычно стоял в глубине гостиной комнаты и видел его героем. Если он меня замечал, то говорил кем-то злобным придуманную про них, воевавших в Маньчжурии, фразу. «Что, Бориска? – говорил он. – Проиграли макакам коекаки!» И я был готов того, кто эту фразу придумал, самого отправить в Маньчжурию, самого понести все тяготы войны и не пускать его домой, пока он не взвоет и не придумает что-то подлинно достойное нашей армии.
– Борис Алексеевич! – остановила свой порыв Анна Ивановна. – Вы раздевайтесь и мойте руки! Сейчас мы будем ужинать! У нас чудесный ужин! А там, – она показала в сторону комнат, – там я все приберу! Вы не думайте! Я все умею!
Я не стал ей говорить, что убирать за кем-то я ей не позволю, что убрать там Иван Филиппович позовет кого-нибудь из соседней прислуги. Я только посмотрел на нее чуть дольше, чем того следует при простом взгляде благодарности.
– Что? – обрывисто спросила она.
Я мотнул головой, мол, ничего, а по мне горячей волной прошло воспоминание вчерашнего – того, как мне было стыдно и радостно думать о ней.
За ужином Иван Филиппович показал на краюху хлеба и сказал, что она последняя, что муки снова не выдавали. Я вспомнил про Кацнельсона. У нас были на ужин картофель, селедка, чай со сгущенным молоком. У него, как я увидел, были только кипяток и сухари. Я пошел позвать его. И мы стали ужинать вчетвером, совсем тесно, так тесно, что я невольно задевал то локоть, а то вовсе колено Анны Ивановны и затаенно вспыхивал. И только приходилось предполагать, каково было при этом ей. Ужинать было немного. Но ужинали мы долго. Кацнельсон церемонно молчал. Я спросил его о сапогах, имея в мыслях дать ему что-то из нашей обуви.
– Сапоги, – сказал он, не отрываясь от кусочка селедки. – Я так думаю. Я снова буду проситься на Дутова. Вы, как военный человек, знаете, там могут убить пулей или шашкой. Но там таки сначала обуют, оденут и накормят. А что делает горпродком? Он ничего не делает. Он только ставит справочный стол на самый сквозняк!
– То есть ваше заявление осталось без удовлетворения? – удивился я.
– Его можете прочесть сами. Я вам сейчас его принесу! – сказал Кацнельсон и засадил обе руки в свои кудри, таким образом вытирая их от селедки.
Анна Ивановна запоздало кинулась к нему с салфеткой.
– Что вы, барышня! Этакий салфет следует поместить в рамочку для эстетического развития, а не обтирать об него селедку совсем никому не нужного еврея! – отстранился от салфетки Кацнельсон.
– Ты тут с нами – так это не у вас в совето! Тут шутки не шути, а соблюдай! А то вместо царства социализма напустишь по дому царство вшей, так весь ваш социализм-то того!.. Вошь-то, она!.. – одернул его Иван Филиппович и не удержался выговорить за прошлое: – Без Бориса Алексеевича-то развели тут, что с крыльца начали ходить да валить мимо дыры!
– А мы не тысячи получаем, чтоб мылов-то покупать! – огрызнулся Кацнельсон и, пока Иван Филиппович, пораженный дерзостью, искал сухими губами ответ, успел исправиться: – Мы, сударь, в нашей черте жили так, что все эти чертовские привычки еще долго понесем в социализм! Уж прощу прощения!
– А бедность – не порок! – только и сказал Иван Филиппович.
Кацнельсон ушел. Я спросил Ивана Филипповича, есть ли у нас что из обуви. Бедного старика едва не взяли корчи.
– Да что это, Борис! Может, мне еще его в нашей ванной обмывывать! – зашипел он.
Мне спорить не хотелось. Я решил, что найду обувь сам.
– И дрова, почитай, кончились! – заодно выговорил Иван Филиппович.
Как я уже сказал, прежние прибавки к жалованью на дрова, квартиру, фураж для коня новой властью были отменены. А цены на все росли так, что моя радость от полученного вперед жалованья улетучилась через несколько дней. Денег на дрова у нас не было. И Иван Филиппович это знал. Он посмотрел на меня с победой, будто говорил: «А ведь предупреждал! А вы, барин, то приживалочку приведете, то советского прощелыгу кормить возьметесь!»
– Хорошо, я подумаю! – сказал я о дровах, лукаво надеясь, что Иван Филиппович обо всем позаботится сам.
Пришел Кацнельсон и сказал, что правильно сделали, выселив Ворзоновских, что они, Ворзоновские и их подруга каторжанка Новикова, «имели платформу частного собственного интереса на наш дом». Я его слова пустил мимо. А на его заявлении в горпродком о выдаче сапог стояла, как ныне стали выражаться, резолюция какого-то из начальников с отсылом заявления к другому начальнику. «Он никуда не годится, к делу относится спустя рукава, а ему сапоги. Его надо дисциплинировать, а не сапоги ему!» – написал начальник.
– Я дам тебе во временное пользование какую-нибудь обувь, а то ходить на службу в одних голенищах действительно нельзя! – сказал я, специально, для Ивана Филипповича, указав выдачу обуви во временное пользование. Ясно, что мои маневры не имели успеха. Иван Филиппович сурово поджал губы. Кацнельсон же отчаянно замахал руками.
– Нет, никак нельзя дать мне обуви! Все сразу будут иметь подозрение меня в качестве мошенника! – вскричал он.
– Как знаете! – пожал я плечами, никак не привыкнув к новым правилам подозревать всех и во всем.
После ужина мы не удержались посмотреть на оставленные Ворзоновскими комнаты, то есть кабинет и спальню моих батюшки с матушкой. В описание их состояния пришлось бы вспомнить и поправить место из «Полтавы» Пушкина, где он говорит о Петре Первом. «Вид их был ужасен!» – только и можно было сказать о состоянии комнат.
– Я завтра же все устрою! – сказала Анна Ивановна.
Я запрещающее махнул рукой и повернулся к Ивану Филипповичу:
– Найди, Иван Филиппович, кого-нибудь из соседских!
– А чем платить? – спросил он.
– Тогда – сами! – решил я.
И мы вчетвером, в веселом азарте до позднего вечера вычистили кабинет, спальню, гостиную, вынесли мебель, вычистили комнату Маши, покамест отданную мной Анне Ивановне, и гостевую.
– Ну, вы, ваше высокоблагородие! – снова крякал на меня Иван Филиппович, видно, полагая, что офицер русской армии и столбовой дворянин обязан был быть бездельником и белоручкой. И потом он крякал мне об Анне Ивановне. – А она-то, Анна Ивановна-то! Вот и барышня! – в одобрительном удивлении крякал он, но в какой-то миг спохватился и в назидание выговорил: – Все одно, Борис, совето – до весны. Найдешь себе из семьи. А то опять служить утрясешься. А ее куда?
Остатком дров Иван Филиппович натопил ванную. Вслед за Анной Ивановной помылись и мы, а потом долго пили чай с сухарями Кацнельсона. Пили чай, брали лампу и выходили смотреть на будто новые наши комнаты. Было хорошее в нашем доме, и было хорошее во всех нас. В этом хорошем настроении мы наткнулись на газету известий, оставленную с каким-то пожеланием на что-то посмотреть Ворзоновскими, взялись ее смотреть, отыскивая, что они могли иметь в виду. Высмотрели объявление об открытии в доме номер двенадцать на Пушкинской народного детского сада для детей бедных родителей. Иван Филиппович на это, разумеется, не удержался от сентенции.
– Открывают, народ булгачат, а сами весной сбегут! – проворчал он.
Еще нашли рассуждения некоего Ларина о несправедливости прежних, еще времени сволочи Керенского, налогах. «Мы правим уже два месяца, – рассуждал Ларин, – а все еще действуют несправедливые старые налоги на сахар, чай, хлеб, платье и так далее. Отчасти поэтому в стране такая дороговизна. Например, производство сахара в прошлом, семнадцатом, году обошлось по гривеннику за фунт, и его можно было бы продавать по пятиалтынному. А мы платим семьдесят пять копеек, то есть в пять раз дороже. И существующий подоходный налог несправедлив. А вот если бы за первые сто рублей дохода брать его пять процентов. За вторые сто рублей – десять процентов, а за тысячу и свыше – сто процентов, тогда бы капиталист, получающий двадцать тысяч, заплатил бы девятнадцать тысяч четыреста рублей. И ему бы осталось шестьсот рублей, как члену правительства, который получает пятьсот рублей оклада и сто рублей квартирных. Вот где была бы социалистическая революционная справедливость».
– Это они нам хотели рекомендовать? – спросил я о Ворзоновских.
– Как же, – сказал свое Иван Филиппович. – Шиш вам капиталист что отдаст! Он фабрику спалит, товару на складу спалит, монопольки нажрется да помрет. А ничего не отдаст.
– Не отдаст. И наша платформа большевиков – все у них взять! – поддержал его Кацнельсон.
Иван Филиппович, в совместной работе было подобревший к нему, посуровел снова.
– У них-то взять. Да вы больше у других, которые Отечеству беспорочно служат, взять норовите, да с крыльца прямо того ладите! – не удержался напомнить Кацнельсону об его этических изъянах Иван Филиппович.
– Что ж. Это ошибки революции. Она не делается в перчатках! – сказал Кацнельсон.
– Может быть, вот что они имели в виду? – показала Анна Ивановна на заголовок «Ведомость № 1 реквизированных товаров и продуктов».
Мы вперились в эту ведомость. Она перечисляла фамилии горожан, у которых были обнаружены и реквизированы как спекулятивные кое-какие запасы различного товара. Всего интереса в этой ведомости было, что среди пары десятков горожан значилось пять азиатов – четыре китайца и один кореец. Из общего нашего настроения мы стали читать, что же такое прятали сии несчастные азиаты. Значилось реквизированным: «У китайца Ца-цун-фа гильз к папиросам 250 штук, смятых гильз 25 штук, папирос третьего сорта 180 штук. У китайца Ван-тун-вана рубах летних 97 штук, кальсон летних 62 штук, носков меховых 246 штук, шапок меховых 190 штук, ватных рубах 62 штук. У китайца Цой-мен-хвана, – которого в китайцы из корейцев зачислили по ошибке или незнанию, – было изъято кальсон теплых 26 штук, молочных консервов 20 банок, горчицы 3 фунта, чаю 5 фунтов, перца 1 фунт, ботинок мужских 60 пар, табаку листового сигарного 23 фунта. У корейца Та-у-ца папирос третьего сорта 325 штук».
– А фронтовику на Дутова и члену партии большевиков нет возможности выдать сапоги! – горько заметил Кацнельсон.
– А ты не ходи ни на кого, сапоги-то да и живот-то сохраннее будут! – ответствовал Иван Филиппович.
– Может быть, именно это они имели в виду? – снова спросила Анна Ивановна.
– Может быть! Да ведь только эти несчастные тем и кормились, что торговали! – сказал я.
– Да уж не капиталисты! – пожалел бедняг и Иван Филиппович.
– Все должно быть социалистическим! – сказал Кацнельсон.
– Вот ты и ходишь в социалистических сапогах, у которых одни голенища! – не преминул отметить изъяны социализма Иван Филиппович.
– Это временные ошибки! – не разменял Кацнельсон свою политическую платформу на сапоги, но как-то неловко тут же ее смял, сказав, что наступит время, и сам Иван Филиппович вдруг может остаться без сапог.
– Отберете – так наступит! – вздернулся Иван Филиппович. – А только, на мой згад, ты и в прежнем режиме без них был!
– В прежнем режиме всей бедноте жилось плохо, не только еврейской! – снова вернулся на свою платформу Кацнельсон.
– А вот я кто, по-твоему? Я трудящий человек или как? – спросил Иван Филиппович.
– Вы трудящийся, хотя и не пролетарий! – сказал Кацнельсон.
– Это как же? Пролетарий лучше всех, что ли? – спросил Иван Филиппович.
Они так затеялись спорить, а я и Анна Ивановна смолкли и ушли как бы в себя, хотя я чувствовал, что мы были полностью снаружи себя, мы чутко ловили не только случайное прикосновение, не только дыхание друг друга, но и ток крови, но и невымолвленные, а вернее, упрятываемые мысли друг к другу. Я могу взять на себя ответственность сказать, что мы оба метались в самих себе, гулко бухали сердцем, когда вдруг теряли общее наше метание или общий наш ток крови, и в потаенном, но сразу же ощущаемом обоими облегчении или даже в обоюдной благодарности замирали, когда его находили. Наверно, было и у нее что-то, что она не могла мне передать. У меня же таковым были молниеносные вспышки всего мной прожитого, к которому я готов был вернуться в любой предстоящий миг, в любую предстоящую минуту, которой, как следовало понимать, у меня не было. В этих вспышках я был там, со всеми моими, которых разделить или обозначить не мог – так коротки были вспышки, и так спаянны были они во вспышках. Их невозможно было передать ни словами, ни мыслями. Они были только моими. Их можно было только чувствовать и рисовать себе так, как выходило рисовать сообразно своей чуткости. Я говорю, там было все мое, конечно, не исключая женщин. И у Анны Ивановны, думаю, было так же. Мы были одинаковы.


