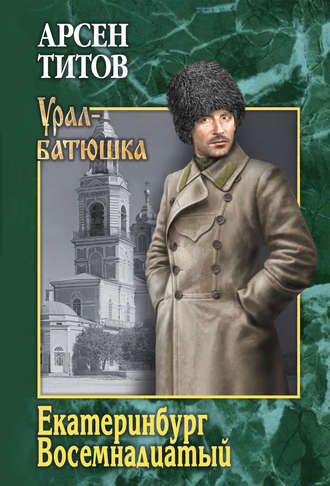
Арсен Титов
Екатеринбург Восемнадцатый (сборник)
– Да кто же, Иван Филиппович? А Маша где? А Иван Михайлович где? – снова спросил я.
– А кого советный работник! Како совето они подадут, когда сами до дыры сходить не научились, когда сами по совету да ладу одного дня не живывали! – не слушал меня Иван Филиппович.
– Да Иван же Филиппович! – пошел я мимо старика во двор.
– Живут, а хоть бы кто двор почистил! Совето они, видишь ли! – пошел за мной Иван Филиппович.
Несмотря на топтаные собаками и политые помоями, где ни попадя, сугробы, загромоздившие двор, он мне показался пустым. Я приостановился. Иван Филиппович ткнулся мне в спину.
– Во-во! Чего натворили! – сказал он.
Я увидел, что во дворе нет двух старых лип.
– Кончали! Как пошла свобода, как дров не стало, так и кончали! На Шарташской станции дров этих жечь не пережечь! Дак, где же! Оттуда ведь надо везти! А они ведь совето! Ныне осенью и кончали! Всем гамазом свалили да, почитай, Борис Алексеевич, так и бросили! Вон ветки из сугробов торчат! Разве же липа – дрова! Да сырая! Нечто она им гореть будет, дуракам! Она поумней их будет, дураков! Так и греются тем, кто сколь напердит! А я сказал: вы Божии лесины кончали, вам и издохнуть от холоду! Так меня опять хотели во власть отвести! А туда поведут, так по дороге застрелят, как вон какого-то присяжного на днях застрелили! Повели, да лень вести было – и застрелили! – снова запричитал Иван Филиппович.
И вот только сейчас, наверно, от того, что вместе с липами исчез двор моего детства, я до ломоты в костях почувствовал свое одиночество. Из всего того, чем я жил, у меня ничего не осталось. Василий Данилович Гамалий, Коля Корсун, все другие мои сослуживцы, вестовой Семенов, да даже Валерия, даже лошадь моя Локай составляли то, чем я жил и хотел бы жить до скончания века. Но оно, это все, осталось где-то позади и безвозвратно позади, осталось так бездарно мной растранжирено, что вернуться к нему я не мог. Я смотрел на изгаженный двор и не понимал, зачем я сюда вернулся, зачем все это, что было сейчас передо мной, мне нужно было смотреть. Я понял, сколько я не просто неумный человек, а сколько я вообще никто, если позволил обойтись с собой так, как вышло – если я позволил какому-то комитету с его товарищами Сухманами и Шумейко, или, как их в гневе и презрении называл черноморский казак и генерал Николай Иванович Кравченко, какому-то «ко-ко-комитэту», отчислить меня от корпуса, заставить меня лишиться всего, чем я дышал, и притащиться сюда, в подлинную пустыню, в местность с тридцатью золотарями и какими-то советскими работниками в моем дворе детства, в доме моего батюшки.
Перед отъездом из штаба корпуса я получил от Элспет письмо последнее от нее письмо. Она написала его нашими, совсем чужими для ее пальчиков, но ставшими родными для ее сердца кириллическими знаками. Сразу же за первыми словами о ее любви, она стала просить перейти меня на службу в британскую армию, заверяя, что решение принято, что мне только следует согласиться. «Борис, – уверяли меня ее пальчики, – ты не изменишь присяге, не изменишь своей стране. Ты некоторое время будешь офицером его величества короля Георга. И мы будем вместе. А когда у вас в стране снова будет порядок, мы поедем к тебе, в твою и уже мою Россию. Я буду везде и всегда с тобой. Я никогда не вздохну от усталости и сожаления. И, Борис, я…» – дальше было слово, сделавшее нас счастливыми. Она ждала от меня ребенка.
Этого письма у меня тоже не было. Пока я сидел в ташкентской тюрьме, его уничтожил сотник Томлин.
– По двум причинам, – сказал он. – По первой причине, чтобы тебя не шлепнули как британского шпиона. По второй причине, курить было охота, как из ружья!
Ничего этого теперь у меня не было. Со злым счастьем я пошел в дом, завернул к крыльцу и увидел, что в нашем небольшом саду, выходящем на улицу Вторую Набережную, не было старой раскидистой китайской яблони.
– Тоже они? – спросил я.
– Оно, совето! – выдохнул Иван Филиппович.
Он выдохнул, а воздуха не стало хватать мне. Я заступил одной ногой на ступеньку и оперся на перила. Прямо у меня перед глазами был сугробец действительно со следами того, о чем говорил Иван Филиппович, а дальше был разломанный забор в сад без китайской яблони.
– И нет ни околоточного, ни пристава! Шастают только патрули, так им не попадайся! – еще сказал Иван Филиппович.
– И нет никого! – сказал я себе.
– Никого нет! – услышал Иван Филиппович. – И что с ними, один Бог ведает. Мне поехать к ним – не с руки дом на этих оставить. А им поехать сюда – так, небось, живых-то нет! Небось, арестовали да застрелили, как этого присяжного! Я ведь по ночам плачу. Днем с этими воюю. А по ночам-то молюсь да плачу!
– За что же арестовывать? Иван Михайлович – агроном, совершенно нужный любой власти человек! – в прежней пустоте сказал я.
Описывать беспорядок и грязь в доме уже не было смысла – они равнялись тому, что было во дворе. В больших комнатах родительской спальни и батюшкиного кабинета жили две семьи, мою комнату заселял какой-то чернявый тип лет двадцати от роду. Комната Маши и гостевая комната были загромождены имуществом, какое Иван Филиппович сумел спасти. Семейные жильцы не поздоровались со мной, поджались и закрылись у себя в комнатах. Потом один вынес какую-то бумагу.
– Вот, у нас вид на жительство в этих комнатах от новых властей! – сказал он.
А тип, оказавшимся советским работником, собирался в учреждение и пил кипяток с сухарями.
– Служу в горпродкоме, а питаюсь вот так! – сказал он, помолчал и, глядя на мои солдатские сапоги, прибавил: – Я в партячейке состою. Буду снова проситься на Дутовский фронт! – еще помолчал, видимо, пождал моей реакции. Я молча оглядывал комнату во всем невероятном ее безобразии. Он снова посмотрел на мои сапоги. – Я в таком отношении к членам партии оставаться не могу, мне на организм влияет! – сказал он и, видимо, в качестве советского служащего, перед которым я был никто, прибавил: – А тебе, товарищ, как бывшему военнослужащему, надо встать на учет. Это надо сходить в управление уездного воинского начальника на Водочную улицу!
Иван Филиппович не выдержал.
– Да уж Борис Алексеевич знают, что и куда! Они Отечество защищали, пока ты тут с крыльца двор метил! – в язве сказал он.
Тип молча отвернулся.
В гостиной комнате, служащей проходной для всех остальных комнат, я спросил Ивана Филипповича принять ванну. Оказалось, еще год назад он позвал слесаря и отвинтил трубы – разумеется, чтобы ею не пользовались новые жильцы. Я спросил про городские бани.
– На Исети в проруби толку будет больше! – в злорадстве махнул он рукой, а потом показал в сторону жильцов: – Эти разбредутся, я с чердака дровишек достану и нагрею воды корыто! – и сладострастно хихикнул, будто сделал большую и долгожданную гадость.
Я пошел в комнату Маши, не раздеваясь, лег на маленький диванчик в надежде побыть одному и подумать, что мне делать дальше. Но ни о чем подумать я не успел. Я тотчас заснул. Сквозь сон я слышал, как Иван Филиппович ругался с жильцами, говорил, что вернулся хозяин, что теперь-то им будет куда с добром. Я хотел проснуться, выйти и сказать Ивану Филипповичу втихомолку, чтобы он не ругался и уж тем более не говорил, кто я. Но проснуться я не мог. Через какое-то время я опять услышал разговор Ивана Филипповича с кем-то из жильцов. Жилец просил Ивана Филипповича помочь ему через меня в каком-то в одном деле, которое он, жилец, называл незаслуженно поставленным в щекотное положение.
– Вы поговорите с вашим официром. Очень щекотное положение! – просил жилец.
Я опять хотел проснуться и предупредить гоношливого старика не болтать лишнего. И опять не мог проснуться и только отметил, что он уже наболтал. Я видел Элспет, мою невенчанную жену, видел рядом нашу будущую дочь, которая была в образе Ражиты, зарезанной четниками шестилетней девочки. Я рвался к ним, в Шотландию. Но у меня выходило быть только в Персии, только в бельских лугах или на улицах Екатеринбурга, летних, томных, мягко отражающих свет от тротуарных плит белого известняка. Екатеринбург мнился светлым и красно-белым – по цвету зданий, будто в нем никогда не было черных и серых деревянных строений. И каким-то странным образом на этот Екатеринбург наслаивался Екатеринбург нынешний, непонятно какой, в котором только то и было, что тридцать золотарей.
К полудню Иван Филиппович разбудил меня. Я помылся в корыте, нашел прежнюю свою гимназическую одежду, обулся в старые пимы Ивана Михайловича и почувствовал себя совсем потерянным, едва не раздавленным. Этому чувство придало остроты наше с Иваном Филипповичем чаепитие со сбереженными им от дореволюционных времен чаем и сахаром. Он мне рассказывал, как он тут живет, где что достает – керосин, хлеб, те же дрова. А я вспоминал Сашу, его медленное и молчаливое хождение по дому после возвращения с фронта из Маньчжурии. Саша молча ходил и на все глядел как-то странно, будто осваивал житье в доме заново. Мне ходить по дому и на все молча смотреть не выпадало. Саша вскоре же стал из дома пропадать. Я его мог видеть с другими офицерами на Покровском у номеров. Он стал возвращаться домой пьяный, развязывал башлык, целовал руки матушке и нянюшке. Ничего подобного мне тоже не выпадало. Я опять, как во сне, возвращался к себе в корпус, в Персию, опять представлял моих друзей-сослуживцев. За последним совместным ужином все смотрели на меня, зная, что я поведу часть корпусного имущества на Терек. «Не с Кубани, так с Терека начнем!» – говорили многие и просили замолвить там, у генерала Мистулова, за них словечко. Потом мы говорили с Колей Корсуном, генерального штаба капитаном, моим незабвенным другом. «А ведь после этой сволочи придется Россию строить заново! Придется все отмывать кровью!» – говорил Коля Корсун.
Иван Филиппович говорил о хлебе и керосине. А я видел только Персию. И я ругал себя последними словами за то, что позволил каким-то сволочам отчислить меня от корпуса.
4
После чая мы с Иваном Филипповичем дотемна чистили двор, разбили надолб и закрыли ворота. Я вытащил из сугроба остатки липовых веток, тупым топором с треснутым и перевязанным топорищем более их измочалил, чем изрубил, разбил остаток забора в сад, все сложил поленницей. Пока я занимался дровами, Иван Филиппович чистил туалет, сказав, что за «этими совето» он мне прибирать не позволит. А «совето», то есть жильцы мужского пола ушли из дому, пока я спал, а жильцы женского пола, угрюмые, некрасивые, не взглядывая на нас, но стараясь независимо, сначала с помойными ведрами, которые держали на ночь в комнатах, сходили к выгребной яме, а потом пошли со двора.
– Пошли своей Новиковой жаловаться! – сказал Иван Филиппович.
– Что за Марфа-посадница? – спросил я.
– А вот такая, что сама себя посадила тут, и куда до нее самой императрице! Весь околоток взяла! – сморкнул вслед женщинам Иван Филиппович.
Работа меня отвлекала от пустыни. А естественное действо Ивана Филипповича по очистке носа напомнило мне ночь перед боем на Олту – казаки-бутаковцы, строя рубеж обороны, вот так же чистили носы.
– Ну, вот так всех и взяла! – хмыкнул я.
– Взяла! – всхорохорился Иван Филиппович. – Взяла весь околоток. Ходит в их совето в дом Козелла, и баб так прибрала к рукам, что мужики теперь не суйся! Околоточного Ивана Петровича еще осенью с околотка сжила! Я ему говорю: «Как же ты, Иван Петрович, терпишь? Она же Бога срамит, кричит, де, его уже тыщи лет, как убили!» – а он только кокардой во лбу крутит, а ничего поделать не может, потому что кругом власть объявила свободу!
– Так эти-то, наши, пошли жаловаться на то, что мы за ними прибираем? Так, Иван Филиппович? – спросил я.
– А хоть и так! Теперь их власть, прощелыг и каторжанок! Побежали сказать, что мы мешаем их свободе сраму плодить! А еще скажут, что объявился ты, Борис Алексеевич, штаб-офицер, по-ихнему, и сказать нельзя кто! – еще раз прочистил нос Иван Филиппович. – А у самой-то у ней, у самой-то Новиковой сраму! Она в аптеке у Александра Константиновича поселилась. Я к нему прихожу персидского порошку взять, да мази противу того, что руки ломит. А он человек уважительный, нашу семью всю сквозь знает! Он – мне: «Иван Филиппоович, дорогуша, ты взглянь, как могут образованные бабы жить!» – Я из уважения к нему взглянул. Так даже ватные клочья с засохшей кровью прямо – по всему полу!
– Раненая, что ли, или кровь носом шла? – не понял я.
– Так ранены бабы-то каждый месяц бывают! – всхихикал Иван Филиппович. – А рана-то одна. Они ее каждый месяц затыкают! Александр Константинович говорит, всю вату извела. Берет, а не платит, да еще грозит и потом кричит: «Долой буржуйский стыд!» – дескать, из Питера такая бумага пришла, потому что в Питере стали ходить голые!
– Пообносились? – будто не понял я.
– Да что ты, Борис Алексеевич! – рассердился на мою непонятливость Иван Филиппович.
Так, с моим ерничаньем и его сердитостью мы в темноте закончили работу, снова сели пить чай. Пришли и разбрелись по комнатам жильцы. Я стал стругать из полена топорище.
– А Борис Алексеевич! А где же ты научился работе-то? Ведь штаб-офицер! Неужто у тебя денщика не было? – спросил Иван Филиппович.
– Так ведь артиллерия скочет, куда хочет! – отшутился я.
– Так ведь ты, выходит, трудящий. А они тебя объявят, неизвестно как! – сказал Иван Филиппович.
– А ты бы им больше обо мне рассказывал! – попенял я.
– Так ведь так доведут своим срамом-то, что в сердцах и выкрикнешь, что раньше-то хозяева-то все блюли! – оправдался Иван Филиппович.
– Ладно, – сказал я.
Я пошел к себе, то есть в бывшую комнату Маши. Едва я зажег лампу, в дверь постучали.
– Честь имею представиться, мещанин Ворзоновский! – то ли изогнулся, то ли повихлялся передо мной жилец лет пятидесяти. – Прошу извинения, что, – он выговорил не «што», а «что», – прошу извинения, что щекотность дела не позволяет ждать ангажемента отношения!
– Что же оно позволяет ждать? – усмехнулся я.
– Я глубоко извиняюсь за наше проживание в вашем доме. Но обстоятельства. Теперь в некотором роде все позволяет быть общим! Тем более, я вам уже скажу. Мы потеряли все. Войну начинают военные, к которым в некотором роде принадлежите вы. А теряют имущество цивильные граждане, к которым принадлежим мы. Тем более, что, – он опять сказал через «ч», – тем более, что и новая власть подтвердила наше право на ваши комнаты. Вы официр, и вы…
Дальше я слушать не стал.
– Идите спать! – сказал я.
– Знаете, однако, времена! – стал он говорить еще что-то.
Я закрыл дверь.
Я не знаю, почему я не заставил их всех вычистить двор, не обошелся с ними, как обошелся с патрулем на Мельковском мосту. Я не знаю, почему я стерпел их неприязнь. Наверно, меня остановил инстинкт самосохранения или, еще более, инстинкт сохранения дома. Я нигде раньше не говорил – да и задуматься о том не было возможности – я нигде не говорил о том, что на войне мы все испытали на себе один природный закон, если войну можно совместить с законами природы. Этот закон гласил – кроме обыкновенной удачи или судьбы быть убитым или не быть убитым, на войне действует удача или судьба быть убитым, например, от взрыва снаряда, то есть вне зависимости, трус ты или герой. Если судьба бережет от этого, тогда вступает в силу тот самый закон, который мы, все фронтовики, вынесли. На войне все, кто выживает, выживает потому, что кто-то первым вместо него погиб. Первым погиб Раджаб. Первым погиб Саша. Первыми погибли бутаковцы. Меня судьба всегда ставила вторым. До второго смерть часто не доходила. Всякий погибший оказывался первым. Часть вторых, в том числе и я, остались живы. И у нас выработался инстинкт самосохранения. Мы научились жить в грязи, во вшах, без воды, в постоянном напряжении быть убитым, уже не замечаемом, но все равно в напряжении, когда психика готова на одно мгновение опередить событие, опередить смерть. Спад в психике – шаг к гибели.
Вот, вероятно, потому только я, вопреки себе, оставил жильцов в покое. Они боялись меня. Я был выше. Это меня заставило поступить так, как я поступил.
Опять, как в последнюю мою ночь в штабе корпуса, я спал урывками, все больше-то не спал, а что-то думал, но за всю ночь ничего определенного не надумал. Определенного взять было неоткуда. Передо мной была ледяная пустыня, ни границ которой, ни времени пребывания в ней я не знал. Я не знал, как поступят со мной в управлении воинского начальника, признают ли во мне прапорщика военного времени или копнут глубже и узнают, что я подполковник. Если копнут и узнают, то, как поступят со мной в этом случае – я тоже не знал. У меня был за спиной Ташкент, чудом не ставший мне могилой. Бог пронес меня мимо событий в Оренбурге. А здесь, дома, правила какая-то каторжанка Новикова. Здесь, дома, была неизвестно какая власть. Сотник Томлин говорил мне про ордена и погоны, зашитые в загашник подштанников: «Нащупают, так шлепнут! А может, щупать не будут, сразу шлепнут!» – Вот этого приходилось ждать. И не было кого-то, кто бы подсказал.
Я не решил за ночь, какие документы мне нести в управление воинского начальника, подлинные или фальшивые. Сотник Томлин оказался не таким разгильдяем, каким показал себя в Персии. Я лежал в тифозном бреду, а он мне сделал справку прапорщика Сибирского казачьего полка. Прапорщик военного времени против подполковника с академическим образованием несомненно выигрывал. Но ничего иного в подтверждение прапорщика я предоставить не мог. И таких, как я, скрывающих себя, явно теперь было очень много. И к таким должны были относиться соответственно.
Я заснул под утро и проснулся уже засветло, проснулся и выругался – так не хотелось мне просыпаться.
Позавтракал я опять с Иваном Филипповичем, перекрестился и пошел на Водочную улицу в управление воинского начальника с твердым решением оставаться при справке прапорщика. Утро вечера действительно вышло мудренее.
По пришествии моей очереди беспогонный чин за столом, но явно унтер, прочел мою справку, спросил документ об окончании училища. Я сказал, что окончил Виленское училище, но документ утерян в условиях боевых действий.
– В условиях боевых действий, – покрутил свой жиденький ус унтер. – Так, а как же ты оказался в Сибирском казачьем полку?
Я понял, что промахнулся, что надо было сказать хотя бы об Оренбургском казачьем училище.
– А черт занес! – в сердцах сказал я и далее сказал о госпитале в городишке Гори, о назначении из госпиталя в Первый кавалерийский корпус, как то было на самом деле.
– Утерян-то как? Что мне писать? – спросил в явном недоверии унтер.
– Писать, что утерян в условиях боевых действий! Ты хоть знаешь, где эта Персия, и что там творилось? – твердо и будто не догадываясь, что унтер мне не верит, сказал я.
– А документ об отпуске от полка? Где твой полк? А то училище Виленское. Полк Сибирский. Служил где-то едва не в Индии. Как-то все этак у тебя! – спросил унтер.
– Вот в справке, – показал я запись, какую сделал сотник Томлин, об откомандировании меня в Екатеринбург и не стерпел выговорить, что странности моей боевой судьбы зависели не от меня, а от службы. – Ты сам-то фронт видел? – спросил я.
– Довелось! – сказал он, опять покрутил свой ус, которому до уса сотника Томлина было, как крысиному хвостику до ослиного хвоста, посмотрел снова в справку и вдруг сказал: – Ага! – велел подождать и пошел куда-то по коридору.
– Убраться подобру-поздорову? – спросил я себя и остановил.
Унтер вернулся быстро.
– Вот что, – сказал он. – Это, написано «откомандирован». Это, значит, не к нам. Откомандирован – это значит в военный отдел по управлению гарнизоном на Механическую. Службы не знаешь, прапорщик! Или соскочить захотел в запас?
– Унтер! – засвирепело во мне.
– А может, команду вызвать да посадить тебя на гарнизонную гауптвахту? – как-то странно приятно улыбнулся унтер. – С нашим великим удовольствием. Очень хорошо посидеть тебе там, откомандированному! Там вша пожирнее и покусачее, чем в казарме!
– Честь имею! – забирая справку, сказал я по привычке.
Унтер сощурено посмотрел на меня и молча кивнул.
Я вышел из управления. Мороз выстраивал дымы в прямые и ровные столбы.
– А ведь славно! – сказал я.
Оборот дела был неожидан. Я ни разу не обратил внимания на эту заковыку – слово «откомандирован». А сотник Томлин, как и всякий казак, бумаг не терпевший, явно был доволен уже тем, что надоумился исхлопотать мне справку, ничуть не вникая, что же этакое там написал писарь. Писарь же, выходило, написал наивозможно мне необходимое. Я теперь снова причислялся к службе. Предвидеть подобного было просто невозможно. Я хватил в легкие морозу и полетел на Механическую. Мои заступники Пресвятая Богородица, матушка и нянюшка опять испросили мне спасения.
– Они и этот разгильдяй сотник! – горячо подумал я о них.
Оказывается, должность начальника гарнизона была упразднена и заменена на коллегиальный орган – военный отдел при совете их депутатов еще в начале декабря прошлого года. Бывший начальник гарнизона полковник Марковец входил в этот военный отдел лишь с правом совещательного голоса. Совещательность заключалась в том, что его вызывали в отдел по вопросам консультации, где, что и каким образом он решал ту или иную задачу. Управлял же военным отделом прапорщик Сто восьмого запасного пехотного полка Селянин, при котором были два члена отдела.
Забегая вперед, скажу, что воинских частей в городе скопилось очень много. Серые шинели и солдатские папахи по улицам мельтешили гораздо чаще, чем обывательские одежды. Все здания общественного назначения были заняты под войска. Наша первая гимназия, обе женские гимназии, епархиальное училище, Богоявленское, Тургеневское, Малаховское училища, духовное ведомство, кинематографы, гостиницы, некоторые обывательские дома были отведены для расквартирования войск. А, например, театр Верхисетского завода был отведен для лагеря военнопленных. Число войск к моменту моего возвращения довольно успешно сокращалось. Но во всем было много путаницы, противоречивых приказов из округа, из Казани, где командование менялось, наверно, чаще, чем писарь успевал отнести написанный приказ о назначении. Побывал в этой должности и приснопамятный генерал Владимир Захарьевич Мышлаевский, некогда, в декабре четырнадцатого года взбудораживший Тифлис панической вестью о том, что турки ворвались в предместье – это в тот момент, когда брошенные им войска упорно сражались. Какое-то время командовал округом полковник Архипов, а потом, конечно, пошли прапорщики военного времени, то есть пока еще первый прапорщик – Ершов, и хорошо, что не Вичкин, Фричкин, Блюмкин. Приказов из округа было много. Были они не последовательны и, видимо, отражали полный развал управления. Все из войск жаждали скорее попасть домой. А приказы, только что объявившие определенным категориям старослужащих солдат или солдат определенных национальностей, например, тех же украинцев, об отпуске, через несколько дней объявляли о задержке или возвращении к месту службы. Следующие приказы объявляли о снятии уволенных в отпуск с довольствия. Их спешили обогнать приказы о постановке задержанных или возвращаемых на только что снятое довольствие. А пока проходили несколько дней, издавались приказы о сокращении кухонь, питательных пунктов, пекарен, бань, о передислокации частей в иное место, о слиянии в связи с сокращением личного состава одних частей с другими.
Все было в движении, но в движении не упорядоченном, а хаотическом. Тот же военный отдел через две недели с Механической был переведен на Уктусскую, на толкучий рынок, в помещение канцелярии Конского запаса, которая в свою очередь занимала помещения полицейской управы, и которая, в свою очередь, перебралась в помещение военного отдела. А, например, гарнизонные бани нашли возможным оборудовать на Хлебной площади, так что помойная вода из них ручьями текла в Исеть совсем недалеко от нас. То-то Иван Филиппович советовал мне сходить на реку помыться.
Одним словом, в отношении загаженности города я уже говорил, но каждый раз, оказываясь в каком-нибудь его уголке, я с болью и содроганием наблюдал эту загаженность. Хороший, красивый город, до которого не было сил дотянуться большинству губернских центров, превращался в некое исчадие.
А пока я пришел на Механическую улицу в дом с мощным каменным первым этажом, смахивающим на крепостной бастион. Второй этаж был деревянный, из лиственничных бревен и деревянной резьбой. Улица кипела солдатским народом еще с угла. С угла она была запружена коновязями, лошадьми, повозками, обильным и неприбранным конским навозом, прочим мусором. Туда и сюда сновали по ней и исчезали в доме прикомандированные, посыльные, вестовые. Откуда-то со двора тащили к повозкам громоздкие ящики, а навстречу им во двор тащили из других повозок другие и тоже громоздкие ящики. Часовых в этой суете заметить было трудно – и более не от того, что их поглощала суета. Они сами ничуть не походили на часовых, сидели на деревянной скамейке, курили и точили базары с постоянной вокруг них гурьбой солдат.
Я вошел во двор. Навстречу из дома выкатились двое беспогонных, обтерханных и чрезвычайно возбужденных служаки.
– Ну, вот, едри их в вошь! Где? Где они, я спрашиваю? – закричал один на другого. Я увидел на его рукаве мятую и грязную красную повязку.
– А что – с меня-то? Они уже какой день взяли за моду заступать без караульного развода! Я докладывал по команде тебе же, что не приходят, а то и вовсе не выходят в караул. Тебе же я докладывал! – закричал второй, без красной повязки.
– Когда ты мне докладывал? Врешь! Небось, Орлову докладывал, так я еще до сих пор не Орлов! – закричал первый.
– Я тоже не от кобылы родился! И ты из меня пенька на скотомогильнике не строй! Тебе подано, ты и соблюдай бумаги, а не пускай их на раскурку! Я на тебя в совет доложу! – закричал второй.
– А! – махнул первый так, что повязка у него полетела с руки.
Он ее подобрал, развернулся и покатился обратно в дом – А вы тут! – походя, но как-то с опаской пнул он винтовку одного из часовых.
– А ты не это! Ты не это! А то живо в это, в комитет! – не замедлил с ответом часовой.
– Ко-ко-комытэт! – не выдержал я отметить новый порядок.
И тут я увидел одноклассника Мишу Злоказова. Он шел в распахнутой шинели, без шапки и с бумагами в руках. На его физиономии сильная отрешенность от всего окружающего не могла пересилить всегдашнего его озабоченного выражения, будто он постоянно думал, а не выворотить ли крепкий и какой-то только характерный для Миши из кармана кукиш. Мы не виделись со дня моего отъезда в гарнизон после училищного отпуска. Я знал, что Миша в военной службе не был.
– Миша! – совершенно вне себя от радости схватил я его за рукав.
– Ты что тут делаешь? Ты почему в таком виде? – расцветая только глазами, стал он задавать, на мой взгляд, дурацкие вопросы и потащил меня в сторону.
– Да с фронта, Миша! И для прохождения дальнейшей службы! – стал отвечать я.
– Ну, это понятно, что с фронта! Я знаю! Но почему в виде какого-то малахая? Я же знаю, что ты… – хотел он, видимо, сказать обо мне то подлинное, что знал, но осекся. – Ты давно в городе? С документами все в порядке? – спросил он.
На миг я подумал о нем, что он служит в каком-то нынешнем сыскном заведении – столь мне не понравился его вопрос. «Ты кто такой, чтобы так спрашивать!» – едва не закричал я, но сдержался и в кривой, презрительной усмешке подал ему справку.
– Почему так? – спросил о справке Миша и сам себе ответил. – Ладно. Это не важно. Расскажешь потом. Ты в службу – по ней?
– Ты спрашиваешь по делу или просто так? – спросил я, зная, что Миша никогда ни в какой военной службе не состоял, и полагая его вопрос праздным.
– Я здесь, – показал он на второй этаж. – Я писарь у начальника гарнизона, то есть председательствующего в военном отделе! Пойдем! И о своем настоящем чине, Боря, пока никому ни слова!
Через час я имел на руках выписку из приказа с обычной в таких случаях формулировкой «полагать такого-то военнослужащего, то есть меня, прикомандированным»… И прикомандированным я оказался с заступлением в должность бригадного инструктора траншейных орудий и гранат к парку Четырнадцатого Сибирского стрелково-артиллерийского дивизиона, незадолго до меня прибывшего в город. Должность не соответствовала никоторому из моих чинов, ни чину прапорщика за его малостью, ни чину подполковника за его величиной. Но она мне тут же принесла авансовую выдачу в двести рублей оклада жалованья, что тоже не соответствовало – и дополнительно не соответствовало городской дороговизне на продукты. В утешение мне было сказано, что начальник парка получил на днях авансовую выдачу, немногим большую моей.
– А дровяные? – спросил я, несколько приобнаглев от такого счастья.
И вопрос мой имел смыслом то обстоятельство, что в той, нашей, еще государя-императора, армии в связи с падением стоимости рубля, то есть на так называемую дороговизну, полагались офицеру на отопление и приготовление пищи дровяные и на прокорм лошадей фуражные прибавки к жалованью, что в сумме у нас, в Персии, составляло две тысячи рублей, и соответствовали эти две тысячи примерно тремстам довоенным рублям. Их выдавали персидским серебром – по-персидски, манатами, а по-казачьи, как помнится, собаками, ибо казаки изображенного на монетах льва в насмешку приняли за собаку.
– А всякое офицерское пособие к содержанию на военную дороговизну отменено, господин хороший! – как бы с язвой ответил Миша и взглядом показал помалкивать.
Я и сам понял, что прапорщику военного времени, не состоящему ни в каких комитетах, следовало – как бы это сказать – быть поневежественней, что ли.
– Да-да! Непременно! То есть, как и положено! – замямлил я.
Миша и на это показал глазами молчать.
– Вот! – громко сказал Миша и подал мне еще один приказ. – Вот! Вам, как окончившему военное училище до первого мая семнадцатого, и согласно приказу из округа от вчерашнего дня, положен на замену один комплект обмундирования! О вас тут заботятся, понимаете, а вы тут нам что-то из области иллюзий – того! Все. Идите, товарищ военнослужащий!
Я пошел, он пошел следом, но якобы по своим делам, и в коридоре дал мне записку на имя заведующего гарнизонным магазином о разовой выдаче мне некоторых продуктов.
– Иди прямо сейчас. Говори, что от самого Крашенинникова, это наш адъютант, вот его подпись. Кое-что получишь из продуктов. К себе в парк пойдешь завтра. А сегодня, как все получишь, я жду тебя в гости. Сережка Фельштинский будет предупрежден и примчится на всех парах! – напутствовал он меня.


