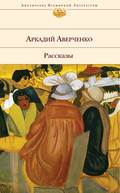Аркадий Аверченко
Московское гостеприимство
IV
Когда девица вышла из кабинета, друзья всплеснули руками и, захлебываясь от душившего их хохота, повалились на диван…
…Девица шагала по опустевшему Невскому, спрятав голову в боа и глубоко задумавшись.
Сзади подошел какой-то запоздалый прохожий, дернул ее за руку и ласково пролепетал:
– Мм… мамочка! Идем со мной.
Девица злобно обернулась:
– Ты, брат, разбирай, к кому пристаешь. Нельзя порядочной даме на улицу выйти… Сволочь паршивая!
Отец
Стоит мне только вспомнить об отце, как он представляется мне взбирающимся по лестнице, с оживленным озабоченным лицом и размашистыми движениями, сопровождаемый несколькими дюжими носильщиками, обремененными тяжелой ношей.
Это странное представление рождается в мозгу, вероятно, потому, что чаще всего мне приходилось видеть отца взбирающимся по лестнице, в сопровождении кряхтящих и ругающихся носильщиков.
Мой отец был удивительным человеком. Все в нем было какое-то оригинальное, не такое, как у других… Он знал несколько языков, но это были странные, не нужные никому другому языки: румынский, турецкий, болгарский, татарский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Имел он голос, но когда пел, ничего нельзя было разобрать – такой это был густой, низкий голос. Слышалось какое-то удивительное громыхание и рокот, до того низкий, что казался он выходящим из-под его ног. Любил отец столярные работы, но тоже они были как-то ни к чему – делал он только деревянные пароходики. Возился над каждым пароходиком около года, делал его со всеми деталями, а когда кончал, то, удовлетворенный, говорил:
– Такую штуку можно продать не меньше чем за пятнадцать рублей!
– А матерьял стоил тридцать! – подхватывала мать.
– Молчи, Варя, – говорил отец. – Ты ничего не понимаешь…
– Конечно, – горько усмехаясь, возражала мать. – Ты много понимаешь…
Главным занятием отца была торговля. Но здесь он превосходил себя по странности и ненужности – с коммерческой точки зрения – тех операций, которые в магазине происходили.
Для отца не было лучшего удовольствия, как отпустить кому-нибудь товар в долг. Покупатель, задолжавший отцу, делался его лучшим другом… Отец зазывал его в лавку, поил чаем, играл с ним в шашки и бывал обижен на мать до глубины души, если она, узнав об этом, говорила:
– Лучше бы он деньги отдал, чем в шашки играть.
– Ты ничего не понимаешь, Варя, – деликатно возражал отец. – Он очень хороший человек. Две дочери в гимназии учатся. Сам на войне был. Ты бы послушала, как он о военных порядках рассказывает.
– Да нам-то что от этого! Мало ли кто был на войне – так всем и давать в долг?
– Ты ничего не понимаешь, Варя, – печально говорил отец и шел в сарай делать пароход.
Со мной у него были хорошие отношения, но характеры мы имели различные. Я не мог понять его увлечений, скептически относился к пароходам, и, когда он подарил мне один пароход, думая привести этим в восторг, я хладнокровно, со скучающим видом потрогал какую-то деревянную штучку на носу крошечного судна и отошел.
– Ты ничего не понимаешь, Васька, – сказал, сконфузившись, отец.
Я любил книжки, а он купил мне полдюжины каких-то голубей-трубачей. Почему я должен был восхищаться тем, что у них хвосты не плоские, а трубой, до сих пор считаю невыясненным. Мне приходилось вставать рано утром, давая этим голубям корм и воду, что вовсе не увлекало меня. Через три-четыре дня я привел в исполнение адский план – открыл дверцу голубиной будки, думая, что голуби сейчас же улетят. Но проклятые птицы вертели хвостами и мирно сидели на своем месте. Впрочем, открытая дверца принесла свою пользу: в ту же ночь кошка передушила всех трубачей, принеся мне облегчение, а отцу горе и тихие слезы.
Как все в отце было оригинально, так же была оригинальна и необычная его страсть – покупать редкие вещи. Требования, которые предъявлял он к этого рода операциям, были следующие: чтобы вещь приводила своим видом всех окружающих в удивление, чтобы она была монументальна и чтобы все думали, что вещь куплена за пятьсот рублей, когда за нее заплачено только тридцать.
* * *
Однажды на лестнице дома, где мы жили, послышалось топанье многочисленных ног, крики и кряхтенье. Мы выбежали на площадку лестницы и увидели отца, которых вел за собою несколько носильщиков, обремененных большой, странного вида вещью.
– Что это такое? – с беспокойством спросила мать.
Лучезарное лицо отца сияло гордостью и скрытой радостью человека, замыслившего прехорошенький сюрприз.
– Увидите, – дрожа от нетерпения, говорил он. – Сейчас поставим его.
Когда «его» поставили и носильщики, облагодетельствованные отцом, удалились, «он» оказался колоссальной величины умывальником с мраморной лопнувшей пополам доской и красным потрескавшимся деревом.
– Ну? – торжествующе обратился отец к окружающим. – Во сколько вы оцените эту штуку?
– Да для чего она? – спросила мать.
– Ты ничего не понимаешь, Варя. Алеша, скажи-ка ты – сколько, по-твоему, стоит сей умывальник?
Алеша – льстец, гиперболист и фальшивая низкопоклонная душонка – всплеснул измазанными чернилами руками и ненатурально воскликнул:
– Какая прелесть! Сколько стоит! Четыреста двадцать пять рублей!
– Ха-ха-ха! – торжествующе захохотал отец. – А ты, Варя, сколько скажешь?
Мать скептически покачала головой.
– Да что ж… рублей пятнадцать за него еще можно дать.
– Много ты понимаешь! Можете представить – весь этот мрамор, красное дерево и все – стоит по случаю всего двадцать пять рублей. Вот сейчас мы его попробуем! Марья! Воды.
В монументальный рукомойник налили ведро воды… Нажатая ногой педаль не вызвала из крана ни одной капли жидкости, но зато, когда мы посмотрели вниз, ноги наши были окружены целым озером воды.
– Течет! – сказал отец. – Надо позвать слесаря. Марья! Сбегай.
Слесарь повозился с полчаса над умывальником, взял за это шесть рублей и, уходя, украл из передней шапку. Умывальник поселился у нас.
Когда отца не было дома, все с наслаждением умывались из маленького стенного рукомойника, но если это происходило при отце, он кричал, ругался, заставлял всех умываться из его покупки и говорил:
– Вы ничего не понимаете!
У всех было основание избегать большого умывальника. У него был ехидный отвратительный нрав и непостоянство в симпатиях. Иногда он обнаруживал собачью привязанность к сестре Лизе и давался умываться из него нормальным, обычным способом. Или дружился с Алешей, был предупредителен к нему – покорный, как ребенок, лил прозрачную струю на черные Алешины руки и не позволял себе непристойных выходок.
Со всеми же другими поступал так: стоило только нажать педаль, как из крана со свистом вылетала горизонтальная струя воды и попадала неосторожному человеку в живот или грудь; потом струя моментально опадала и, притаившись, ждала следующего нажатия педали. Человек нагибался и подставлял руки, надеясь поймать проклятую струю в том самом месте, куда она била.
Но струя не дремала.
Увидя склоненные плечи, она взлетала фонтаном вверх, обрушивалась вниз, обливала голову и затылок доверчивого человека, моментально пропадала и, нацелившись на ноги, орошала их так щедро, что человек, побежденный умывальником, с проклятием отскакивал в сторону и убегал.
Иногда же умывальник вертел струей, как змея головой, поворачивал ее, кривлялся, и тогда нужно было бегать вокруг этой монументальной дряни, чтобы поймать руками ускользающую увертливую струю. Потом уже мы придумали делать на нее форменную облаву: становились вокруг, протягивали десяток рук, и загнанная струя, как ни изворачивалась, а кому-нибудь попадала…
* * *
Однажды на лестнице раздался знакомый топот и кряхтенье… Это отец, предводительствуя армией носильщиков, вел новую покупку.
То была странная процессия.
Впереди три человека тащили громадный четырехугольник с отверстием посередине, за ними двое несли странный точеный стержень, а сзади замыкали шествие еще два человека с каким-то подобием громадного глобуса и стеклянным матовым полушарием, величиной с крышу небольшого сарайчика.
– Что это? – с тайным страхом спросила мать.
– Лампа, – весело отвечал отец.
– А я думала – тумба для афиш.
– Не правда ли, – подхватил отец, – прегромадная вещь. Я и торговался полчаса, пока мне не уступили.
Лампу установили рядом с умывальником. Она была ростом под потолок и вида самого странного, на редкость неудобного – тяжелая, некрасивая, похожая на какое-то чудовищное африканское растение.
– Ну, как думаешь, Алеша… Сколько она стоит?
– Три тысячи! – уверенно сказал Алеша.
– Ха-ха! А ты что скажешь, Варя?
Мать, севши в уголку, беззвучно плакала.
С отца весь восторг сразу слетел, и он, обескураженный, подошел к матери, нагнулся и нежно поцеловал ее в голову.
– Эх, Варя! Ты ничего не понимаешь!.. Васька! Сколько, по-твоему, должна стоить такая лампа?
– Семь тысяч, – сказал я, обойдя вокруг лампы. – По крайней мере, я дал бы за нее столько, лишь бы ее отсюда убрали.
– Много ты понимаешь! – растерялся отец.
Лампа оказалась из одного семейства с умывальником. Керосин (четырнадцать фунтов), налитый в нее, потек, отравил воздух, а когда слесарь исправил ее (тот самый, который украл шапку), то лампа втянула в себя громадный черный фитиль и ни за что не хотела выпустить его. Вытащенный какими-то щипцами, фитиль загорелся, но так начадил, что соседи пришли спасать нас от пожара, предлагая бесплатные услуги по выносу вещей и тушению огня.
А громадная необъятная лампа горела маленьким микроскопическим огоньком, таким, какой теплится в лампадке у икон, тихо потрескивала и язвительно прищелкивала своим крохотным красным язычком.
Отец стоял перед ней в немом восторге.
* * *
Однажды на лестнице послышался такой же шум, грохот и крики.
– Что еще? – выскочила мать.
– Часы, – счастливо смеясь, сообщил отец.
Это было самое поразительное, самое неслыханное из всего купленного отцом.
По громадному циферблату стремительно носились две стрелки, не считаясь ни с временем, ни с усилиями людей, которые вздумали бы удержать их от этого. Внизу грозно раскачивался колоссальный маятник, делая размах аршина четыре, а впереди весь механизм хрипло и тяжело дышал, как загнанный носорог или полузадушенный подушкой человек…
Кто их сделал? Какому пьяному, ненормальному, воспаленному алкоголем мозгу явилась мысль соорудить этот безобразный неуклюжий аппарат, со всеми частями, болезненно, как в бреду, преувеличенными, с ходом без логики и с пьяным отвратительным дыханием внутри, дыханием их творца, который, может быть, околел уже где-нибудь под забором, истерзанный белой горячкой, изглоданный ревматизмом и подагрой.
Часы стали рядом с умывальником и лампой, перемигнулись и сразу поняли, как им вести себя в этом доме.
Маятник стремительно носился от стены к стене и все норовил сбить с ног нас, когда мы стремглав проскакивали у него сбоку… Механизм ворчал, кашлял и стонал, как умирающий, а стрелки резвились на циферблате, разбегаясь, сходясь и кружась в лихой вакхической пляске… Отец вздумал подчинить нас времени, показываемому этими часами, но скоро убедился, что обедать придется ночью, спать в полдень и что нас через неделю исключат из училищ за появление на уроки в одиннадцать часов вечера.
Часы пригодились нам как спортивный, невиданный доселе нигде аппарат… Мы брали трехлетнюю сестренку Олю, усаживали ее на колоссальный маятник, и она, уцепившись судорожно за стержень, носилась, трепещущая, испуганная, из стороны в сторону, возбуждая веселье окружающей молодежи.
Мать назвала эту комнату «Проклятой комнатой».
Целый день оттуда доносился удушливый запах керосина, журчали ручейки воды, вытекавшей из умывальника на пол, а по ночам нас будили и пугали страшные стоны, которые испускали часы, перемежая иногда эти стоны хриплым зловещим хохотом и ржаньем.
Однажды, когда мы вернулись из школы и хлынули толпой в нашу любимую комнату повеселиться около часов, мы отступили, изумленные, испуганные: комната была пуста, и только три крашеных четырехугольника на полу показывали те места, где стояли отцовы покупки.
– Что ты с ними сделала? – спросили мы мать.
– Продала.
– Много дали? – спросил молчавший доселе отец.
– Три рубля. Только не они дали, а я… Чтобы их унесли. Никто не хотел связываться с ними даром…
Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся его подавленный шепот:
– Много ты понимаешь!
Теперь он умер, мой отец.
Дети
I
Я очень люблю детишек и без ложной скромности могу сказать, что и они любят меня.
Найти настоящий путь к детскому сердцу – очень затруднительно. Для этого нужно обладать недюжинным чутьем, тактом и многим другим, чего не понимают легионы разных бонн, гувернанток и нянек.
Однажды я нашел настоящий путь к детскому сердцу, да так основательно, что потом и сам был не рад…
* * *
Я гостил в имении своего друга, обладателя жены, свояченицы и троих детей, трех благонравных мальчиков от 8 до 11 лет.
В один превосходный летний день друг мой сказал мне за утренним чаем:
– Миленький! Сегодня я с женой и свояченицей уеду дня на три. Ничего, если мы оставим тебя одного?
Я добродушно ответил:
– Если ты опасаешься, что я в этот промежуток подожгу твою усадьбу, залью кровью окрестности и, освещаемый заревом пожаров, буду голый плясать на неприветливом пепелище, то опасения твои преувеличены более чем наполовину.
– Дело не в том… А у меня есть еще одна просьба: присмотри за детишками! Мы, видишь ли, забираем с собой и немку.
– Что ты! Да я не умею присматривать за детишками. Не имею никакого понятия: как это так за ними присматривают?
– Ну, следи, чтобы они все сделали вовремя, чтобы не очень шалили и чтобы им в то же время не было скучно… Ты такой милый!
– Милый-то я милый… А если твои отпрыски откажутся признать меня как начальство?
– Я скажу им… О, я уверен, вы быстро сойдетесь. Ты такой общительный.
Были призваны дети. Три благонравных мальчика в матросских курточках и желтых сапожках. Выстроившись в ряд, они посмотрели на меня чрезвычайно неприветливо.
– Вот, дети, – сказал отец, – с вами остается дядя Миша! Михаил Петрович. Слушайтесь его, не шалите и делайте все, что он прикажет. Уроки не запускайте. Они, Миша, ребята хорошие, и, я уверен, вы быстро сойдетесь. Да и три дня – не год же, черт возьми!
Через час все, кроме нас, сели в экипаж и уехали.
II
Я, насвистывая, пошел в сад и уселся на скамейку. Мрачная, угрюмо пыхтящая троица опустила головы и покорно последовала за мной, испуганно поглядывая на самые мои невинные телодвижения.
До этого мне никогда не приходилось возиться с ребятами. Я слышал, что детская душа больше всего любит прямоту и дружескую откровенность. Поэтому я решил действовать начистоту.
– Эй, вы! Маленькие чертенята! Сейчас вы в моей власти, и я могу сделать с вами все, что мне заблагорассудится. Могу хорошенько отколотить вас, поразбивать вам носы или даже утопить в речке. Ничего мне за это не будет, потому что общество борьбы с детской смертностью далеко и в нем происходят крупные неурядицы. Так что вы должны меня слушаться и вести себя подобно молодым благовоспитанным девочкам. Ну-ка, кто из вас умеет стоять на голове?
Несоответствие между началом и концом речи поразило ребят. Сначала мои внушительные угрозы навели на них панический ужас, но неожиданный конец перевернул, скомкал и смел с их бледных лиц определенное выражение.
– Мы… не умеем… стоять… на головах.
– Напрасно. Лица, которым приходилось стоять в таком положении, отзываются о том с похвалой. Вот так, смотрите!
Я сбросил пиджак, разбежался и стал на голову.
Дети сделали движение, полное удовольствия и одобрения, но тотчас же сумрачно отодвинулись. Очевидно, первая половина моей речи стояла перед их глазами тяжелым кошмаром.
Я призадумался. Нужно было окончательно пробить лед в наших отношениях.
Дети любят все приятное. Значит, нужно сделать им что-нибудь исключительно приятное.
– Дети! – сказал я внушительно. – Я вам запрещаю – слышите ли, категорически и без отнекиваний запрещаю вам в эти три дня учить уроки!
Крик недоверия, изумления и радости вырвался из трех грудей. О! Я хорошо знал привязчивое детское сердце. В глазах этих милых мальчиков засветилось самое недвусмысленное чувство привязанности ко мне, и они придвинулись ближе.
Поразительно, как дети обнаруживают полное отсутствие любознательности по отношению к грамматике, арифметике и чистописанию. Из тысячи ребят нельзя найти и трех, которые были бы исключением…
За свою жизнь я знал только одну маленькую девочку, обнаруживавшую интерес к наукам. По крайней мере, когда бы я ни проходил мимо ее окна, я видел ее склоненной над громадной не по росту книжкой. Выражение ее розового лица было совершенно невозмутимо, а глаза от чтения или от чего другого утратили всякий смысл и выражение. Нельзя сказать, чтобы чтение прояснило ее мозг, потому что в разговоре она употребляла только два слова: «Папа, мама», и то при очень сильном нажатии груди. Это, да еще уменье в лежачем положении закрывать глаза составляло всю ее ценность, обозначенную тут же, в большом белом ярлыке, прикрепленном к груди: «7 руб. 50 коп.».
Повторяю – это была единственная встреченная мною прилежная девочка, да и то это свойство было навязано ей прихотью торговца игрушками.
Итак, всякие занятия и уроки были мной категорически воспрещены порученным мне мальчуганам. И тут же я убедился, что пословица «запрещенный плод сладок» не всегда оправдывается: ни один из моих трех питомцев за эти дни не притронулся к книжке!
III
– Будем жить в свое удовольствие, – предложил я детям. – Что вы любите больше всего?
– Курить! – сказал Ваня.
– Купаться вечером в речке! – сказал Гришка.
– Стрелять из ружья! – сказал Леля.
– Почему же вы, отвратительные дьяволята, – фамильярно спросил я, – любите все это?
– Потому что нам запрещают, – ответил Ваня, вынимая из кармана папироску. – Хотите курить?
– Сколько тебе лет?
– Десять.
– А где ты взял папиросы?
– Утащил у папы.
– Таскать, имейте, братцы, в виду, стыдно и грешно, тем более такие скверные папиросы. Ваш папа курит страшную дрянь. Ну да если ты уже утащил – будем курить их. А выйдут – я угощу вас своими.
Мы развалились на траве, задымили папиросами и стали непринужденно болтать. Беседовали о ведьмах, причем я рассказал несколько не лишенных занимательности фактов из их жизни. Бонны обыкновенно рассказывают детям о том, сколько жителей в Северной Америке, что такое звук и почему черные материи поглощают свет. Я избегал таких томительных разговоров.
Поговорили о домовых, живших на конюшне.
Потом беседа прекратилась. Молчали…
– Скажи ему! – шепнул толстый, ленивый Лелька подвижному, порывистому Гришке. – Скажи ты ему!
– Пусть лучше Ваня скажет, – шепнул так, чтобы я не слышал, Гришка, – Ванька, скажи ему.
– Стыдно, – прошептал Ваня.
Речь, очевидно, шла обо мне.
– О чем вы, детки, хотите мне сказать? – осведомился я.
– Об вашей любовнице, – хриплым от папиросы голосом отвечал Гришка. – Об тете Лизе.
– Что вы врете, скверные мальчишки? – смутился я. – Какая она моя любовница?
– А вы ее вчера вечером целовали в зале, когда мама с папой гуляли в саду.
Меня разобрал смех.
– Да как же вы это видели?
– А мы с Лелькой лежали под диваном. Долго лежали, с самого чая. А Гришка на подоконнике за занавеской сидел. Вы ее взяли за руку, дернули к себе и сказали: «Милая! Ведь я не с дурными намерениями!» А тетка головой крутит, говорит: «Ах, ах!..»
– Дура! – сказал, усмехаясь, маленький Лелька.
Мы помолчали.
– Что же вы хотели мне сказать о ней?
– Мы боимся, что вы с ней поженитесь. Несчастным человеком будете.
– А чем же она плохая? – спросил я, закуривая от Ванькиной папиросы.
– Как вам сказать… Слякоть она!
– Не женитесь! – предостерег Гришка.
– Почему же, молодые друзья?
– Она мышей боится.
– Только всего?
– А мало? – пожал плечами маленький Лелька. – Визжит, как сумасшедшая. А я крысу за хвост могу держать!
– Вчера мы поймали двух крыс. Убили, – улыбнулся Гришка.
Я был очень рад, что мы сошли со скользкой почвы моих отношений к «глупой тетке», и ловко перевел разговор на разбойников.
О разбойниках все толковали со знанием дела, большой симпатией и сочувствием к этим отверженным людям. Удивились моему терпению и выдержке: такой я уже большой, а еще не разбойник.
– Есть хочу, – сказал неожиданно Лелька.
– Что вы, братцы, хотите: наловить сейчас рыбы и сварить на берегу реки уху с картофелем или идти в дом и есть кухаркин обед?
Милые дети отвечали согласным хором:
– Ухи.
– А картофель как достать: попросить на кухне или украсть на огороде?
– На огороде. Украсть.
– Почему же украсть лучше, чем попросить?
– Веселее, – сказал Гришка. – Мы и соль у кухарки украдем. И перец! И котелок!!
Я снарядил на скорую руку экспедицию, и мы отправились на воровство, грабеж и погром.