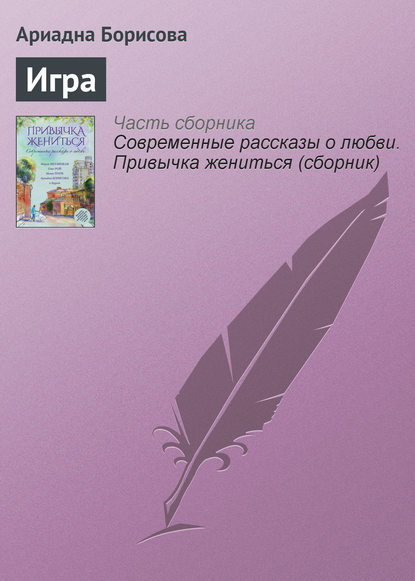Полная версия:
Ариадна Валентиновна Борисова Бел-горюч камень
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Ариадна Борисова
Бел-горюч камень

© Борисова А., 2022
© ООО «Издательство «АСТ», 2023
Часть первая
Огокко[1]
Глава 1
В третьей ссылке
Мария Митрохина и Хаим Готлиб были родом из Клайпеды, откуда русских повымело за несколько месяцев до Первой мировой войны, а евреев – за год до Второй[2]. Молодая чета перебралась в Каунас, но 14 июня 1941-го ее в числе десятков тысяч политически неблагонадежных жителей Литвы без суда и следствия депортировали в Алтайский край. Там спецпереселенцы работали в колхозах, а следующим летом их забросили на острова Великого Ледовитого океана в море Лаптевых поднимать подточенную войной рыбную промышленность страны.
После победы над фашистскими захватчиками рыболовецкий участок № 7, названный по фамилии заведующего Мысом Тугарина, был ликвидирован. Рыбаков распределили по заводским и шахтерским поселкам – советская власть не предусматривала для социально чуждого контингента иного рода деятельности, кроме ТФТ[3]. Спецотдел отправил большинство тугаринских подопечных на шахты, Готлибы с другой группой попали в районный центр близ Якутска на кирпичный завод.
Прибывшие встали на учет в здешней комендатуре НКВД, где их поздравили с допуском на голосование за кандидатов в депутаты районного Совета трудящихся и Верховного Совета СССР. В остальном правовой порядок реформ не претерпел: комендант зачитал правила ежемесячной регистрации и предупредил о запрете выезда за пределы поселка на пять километров без сопроводительного документа. Самовольная отлучка каралась штрафом или недельным арестом, о чем узники, подверженные режимным ограничениям не первый год, прекрасно знали.
Впрочем, быт вместе с трансформацией ТФТ изменился не в пример островному. Всего несколько дней назад они ютились в многолюдных юртах с рыбьими пузырями в прорубах окошек и железными бочками вместо печей, а тут начальство выделило семьям по комнате с застекленным окном, подпольем и, главное, с настоящей кирпичной печью… Цивилизация! Для пущей сохранности тепла бревенчатые бараки были обнесены завалинками, набитыми землей и шлаком.
Доставшееся Готлибам помещение предыдущие жильцы содержали в чистоте, оставили нары и стол. Выпросив на пилораме досочные обрезки, Хаим сколотил табуреты, Мария повесила на окно вышитую крестом занавеску из белой американской мешковины. Любуясь новообретенным гнездышком, они наконец поверили, что неотвязный запах рыбных кишок, полярная ночь и штормовые ветра отступили в прошлое.
Контора рассчитывалась с рабочими продовольственной месячной нормой: по полкило муки, масла, сахара, а хлеб выдавали ежедневно. Это был честный, без опилок и других примесей, хлеб из местных злаков, в не успевшем выветриться благоухании поселковой пекарни. В списки довольствия включили иждивенцев – немыслимая роскошь по сравнению с выживанием на морском побережье, где в первые годы переселения умерло от голода больше трети «врагов народа», преимущественно стариков и детей. «Тунеядцам», как называл Тугарин неработающих членов рыбацкой коммуны, пайков не полагалось.
Осень удивила долгим теплом. Умудренные арктическим опытом люди все свободные часы собирали бруснику в окрестном лесу и, по чьему-то совету, чагу – черные березовые грибы-трутовики. Напиток из чаги имел чайный вид и вкус с приятной кислинкой, а с добавлением сушеных ягод шиповника считался лекарством от желудочных болей.
Заводской околоток располагался в стороне от поселка рядом с деревней. Когда пришла пора убирать овощной урожай, мужчины между сменами подсобили крестьянам. Агроном распорядился подвезти помощникам по мешку картошки и, не унизив вопросами, позволил очистить свекольное поле от ботвы, которую обычно скармливали скоту. «Островитяне» заквасили сочные порубленные стебли в берестяных торбах, пересыпали слои солью, брусникой и шикшей – получилась кисло-терпкая разновидность винегрета. Как могли, запаслись витаминами к зиме.
В три смены со скользящим выходным Мария доставляла из сушильных камер кирпич‑сырец к печам в рельсовой вагонетке и возила к пункту приема штабеля готовой продукции. Муж стоял на обжиге. Казалось, еще вчера вытаскивал рыбу из жгучей, как кипяток, ледяной воды, а теперь вынимал из печей раскаленные кирпичи. Муфельный жар выкручивал исковерканные стужей кисти рук, пузырил и обдирал кожу с пальцев. Двухслойные брезентовые рукавицы, сколько их ни латай, быстро обгорали, к оставшимся от обморожения рубцам прибавлялись шрамы ожогов. К счастью, в свободной продаже появилось хозяйственное мыло. Верхонки, пропитанные концентрированным мыльным раствором, стали меньше рваться.
Спецотдел разрешил выдавать зарплату перемещенным лицам. Выяснилось, что десять процентов заработка поверх подоходного налога с них удерживаются по-прежнему, но само жалованье почти на четверть выше рыбацкого. «Лица» начали покупать молочные продукты у частников, лесную дичь – зайцев, рябчиков, глухарей, в изобилии водившихся в близкой тайге. Не видя в приезжих врагов, коренные жители охотно поддерживали с ними добрососедские отношения.
Жизнь вроде бы повернула к лучшему… Раненные тоской о первенце, потерянном в Каунасе по воле злосчастного случая, Готлибы снова решились на ребенка.
В малокровном теле Марии беременность протекала болезненно, но плод сумел зацепиться и держался крепко – очевидно, унаследовал отцовское упрямство.
За неделю до родов Хаим предложил назвать сына – если будет сын – Зигфридом, если дочь – Изольдой.
– Изольда? – удивилась Мария. Имя для мальчика она пропустила мимо ушей: опытная фельдшер-акушер уверенно предсказала ей пол ребенка. – Изо льда! Ты понимаешь, что говоришь?! Мы сами еле вырвались изо льда!
– Мы выжили, – тихо возразил муж.
С юности влюбленный в музыку Вагнера, он не хотел верить в приверженность композитора к нацизму – и не верил, как не разделял и народной неприязни, отметавшей все немецкое, будь то Вагнер, Дюрер или Гете. Острое чувство прекрасного превосходило в Хаиме национальную осторожность, которую евреи впитывают с молоком матери. А может, в жилах строптивца текла неведомая кровь, более огнеупорная, чем у остальных детей Израиля. Он легче других сносил напасти и в непредвиденной обстановке мгновенно переходил от растерянности к действию. Наперекор экспериментам пересеченной бедствиями судьбы в нем не тускнел свет какого-то неиссякаемого жизнелюбия. Хаим сохранял душевное равновесие в пыточном холоде, не отчаивался, если тело грыз голод, и никогда ни на что не жаловался. Не умел.
На самом деле, думала Мария, муж оставался таким, каким Бог создал человека изначально, – с любовью к жене, семье, миру. Будучи добродушным от природы, Хаим мало общался с людьми лишь потому, что сами они изменились с тех пор, как ушли от веры… Ну и к тому же он, всегда чем-то занятый по дому, просто не удосуживался завести новые знакомства.
– У имени «Изольда» синие глаза.
– Твоя привычка все поэтизировать иногда неуместна… даже невыносима! – вспылила Мария. – Ты забыл, что ирландская принцесса была несчастной? Что станет с девочкой? Отчество с фамилией как скроешь?
Муж настаивал хрипловатым голосом:
– Она будет счастливой.
Хрипотца, словно он молниеносно простыл, возникала у него от волнения, но когда пел, голос звучал чисто. У Хаима был чудесный оперный баритон.
– Почему не Анна, не Ирина? Не Софья – по имени моей мамы…
Улыбаясь, он обнял жену:
– Я представляю нашу дочь с солнечными волосами, как у тебя.
– Разве ты не видишь – я седая!
– Все равно рыжая, – засмеялся Хаим. – Моя королева.
– Ты хочешь, чтобы девочка походила на королеву Кристину из фильма… на Грету Гарбо, как я когда-то, и переживала из-за этого, как я?!
– Ты не Гарбо, ты – Мария, и другой такой нет на свете…
Впервые ее томила и угнетала безмятежная уверенность мужа, упорно не желающего ничего замечать за пределами выстроенного им мирка. Хаим вел себя так, будто зло на земле развеялось не стоящим памяти прахом и всесильное счастье ожидает их будущего ребенка. Только теперь Мария искренне посочувствовала матери упертого фордыбаки: в свое время Геневдел Рахиль Готлиб тщетно пыталась вести борьбу с возмутительным романтизмом сына.
– Никаких Изольд! Ни за что!
Он промолчал.
Мария не разговаривала с мужем почти до поступления в больницу. За годы брака это была их единственная серьезная размолвка.
Глава 2
Вещий сон
В маленькое родильное отделение стационара Мария попала одновременно с якуткой Майыыс Васильевой, жительницей деревни. Кастелянша выдала им одинаковые байковые халаты и белые косынки. Женщины переоделись, повернулись друг к другу…
Пережив легкий шок, Мария, несмотря на начавшиеся боли, едва не расхохоталась: Майыыс можно было назвать Гретой Гарбо в азиатском исполнении, словно небесному ваятелю позировала одна и та же чуть подправившая грим натурщица. Одного роста и сложения, примерно одного возраста, с неправдоподобно родственными чертами лиц – только цвет и разрез глаз разные, – поступившие роженицы вызвали изумление и у акушерки:
– Бывает же такое! Прямо как сестры!
Больничную тишину не взорвали их свирепые крики. Изнуренной схватками Марии недоставало сил кричать, а Майыыс почти и не стонала из-за присущей женщинам ее народа выносливости.
Зато дети оказались горластыми. Первым подал басовитый голос якутский мальчик. Спустя полминуты девочка, покинув надсаженное недужными почками материнское лоно, заплакала сердито и на удивление громко для крохи весом в два кило триста, будто спешила завоевать право кормежки из богатой молоком груди Майыыс. Мария выдавила из своих сосков несколько капель молозива, и это было всё.
Вручая мамочкам наборы в бумажных пакетах с изображением пухлого младенца – по восемь метров яично-желтой фланели, марлевые салфетки и коробочки с тальком для предупреждения детской потницы, – медсестра торжественно провозгласила:
– Подарок товарища Сталина!
Лицо Майыыс вспыхнуло восторгом благоговения. Она о чем-то спросила, и по тому, как развеселились окружающие, Мария поняла, что простодушную якутку заинтересовало, откуда Сталин узнал о рождении их детей.
– Всем такие дают. Товарищ Сталин считает своим долгом помочь каждой советской женщине, – снисходительно пояснила медсестра на якутском, затем перевела для Марии.
Вечером на улице за стеной под чьими-то нетерпеливыми шагами заскрипел снег. Возбужденно переговариваясь, у окна, до половины закрашенного белой краской, топтались двое мужчин.
– Стапан, – обрадовалась Майыыс и ткнула в себя пальцем, поясняя, что один из них – ее супруг.
Второй начал насвистывать песню оруженосца Курвенала «Так вот, скажи Изольде ты…» из вагнеровской оперы.
Мария открыла форточку, и вместе с промозглым дыханием октября в палату влетел газетный самолетик. С краю крылышка карандашные каракули Хаима оповещали от имени обоих отцов: «Завтра мы придем за вами. Спасибо, любимые!»
Отделение, пустовавшее в годы войны, теперь было переполнено, и долго в больничке не держали.
В громко прочитанной Марией записке Майыыс уловила знакомое русское слово «спасибо». Ей не терпелось похвастать подарком вождя. Высунув в оконную створку уголок государственной фланели, она позвала ликующим шепотом:
– Стапан! Эгей, Стапан! Пасиба табарыс Сталин!
– О‑о, Сталин! – послышалось снаружи, а следом раздался возмущенный женский вопль:
– Подглядывать приперлись, извращенцы проклятые?! Ну-ка, марш отсюда! – это мужчин прогнала вышедшая вылить помои санитарка.
Под утро Марии приснился немецкий город Любек. Не тот, куда она ездила с Хаимом незадолго до военных событий, а утонувшая в веках столица Ганзейского союза. Повторился сон, привидевшийся однажды на мысе.
С обмирающим от дурного предчувствия сердцем Мария настороженно ступала по узким улочкам с темными зевами арок, разверстыми в колодезные дворы. Шла мимо окутанной хмельным паром пивоварни, мимо госпиталя с греющимися на солнечном крыльце калеками и старцами в полосатых хламидах, мимо моряцкой церкви, из дверей которой струилось тревожное анданте… Шла в смятенном неведении до тех пор, пока шквал ветра, пропитанный марципановым ароматом знаменитой кондитерской Нидереггеров, не донес до слуха отдаленный рев толпы: «На Каак его! На Каак!»
Понимая во сне, что это сон, возвращенное памятью недоброе знамение, Мария повернула обратно, но все улицы заканчивались тупиками. По единственной дороге, распахнутой с глумливым гостеприимством, она в отчаянии побежала навстречу гвалту, похожему теперь на карканье гигантской вороньей стаи, – к Рыночной площади, пестрым торговым рядам, к Кааку перед магистратом – меднолобой беседке с позорным столбом.
«Ка-ак! Ка-ак!» – в жестокой радости скандировала толпа.
Сердце лопалось от горя, от невозможности отвести поджидающий впереди ужас, ветер шибал в лицо порывами приторного благоухания орехов и сахарной пудры, оглушительно свистел в ушах… Или то свистели и улюлюкали, выбивая преступнику глаза камнями, веселые горожане?..
Свист и крики неслись отовсюду. Мария и сама закричала, не слыша себя в страшной какофонии звуков, в черном смерче, рухнувшем с неба. Визжащий вихрь подхватил, затянул куда-то ввысь, завертел над Кааком, не давая углядеть прикованного к столбу человека, протащил сквозь входы ветра – круглые отверстия в кровельной надстройке ратуши – и швырнул на твердь льдистого берега.
Стоя в клочьях тумана на коленях у края кипящей пропасти, Мария увидела, как проваливается в дымную воронку древний Любек. Каленные огнем и солнцем, кирпичные ладони его сдвигались в непроизвольном молитвенном жесте. Осыпа́лась брусчатая мостовая, зеленые берега каналов приближались друг к другу, мосты и арки надевались на шпили соборов с легкостью петель, нанизываемых на вязальные спицы… Медленно, медленно уходили в дремучую темь груды обломков красноглиняной кладки и морская пристань, всасывая за собой бухту с флотилией груженных товарами кораблей. Не было воли отвратить взор от выгнувшейся крутым луком площади, где все еще слабо маячил тупой деревянный срезень Каака, устремленный в вечность.
Вопящая толпа захлебнулась потоками воды и щебня, не успев насладиться ни дозволенным прилюдным убийством, ни зрелищем человеческих страданий. Поднятое к небу невредимое лицо белело из глубины пятном прощального света, и орган церкви Святого Якоба вторил колокольному реквиему Мариенкирхе, сотрясая воздух над морем тяжкими брызгами финального аккорда…
Мария вдруг поняла, что мужчина приговорен к бессрочному наказанию за гордыню любви… и горячие пальцы скорби окунулись во вновь открывшуюся рану под свежим рубцом. Душа Марии плакала, проклиная непрошеный, без толку вверенный ей свыше дар предвидения, которым она угадывала, но не могла предотвратить беду.
К обеду следующего дня, когда женщин с детьми готовили к выписке, за ними явился один Степан. В ночную смену на Хаима обрушился штабель готовой, только что обожженной продукции. Прежде чем он успел ощутить боль, проломленное кирпичами ребро мягко, как нож в масло, вошло в осчастливленное рождением дочери сердце.
Глава 3
Разбитое равновесие
Свет керосиновой лампы серебрил изгибы кукольного столика и двух «венских» стульчиков, вырезанных из баночного железа. Кромки спинок и ножек были свернуты ювелирным кантом, чтобы острая жесть не поранила чьи‑то нежные пальчики. Хаим ценил красивые вещи и любил мастерить…
Лицо его в рамке с креповой лентой мелко трепетало. Словно повинуясь неведомому знаку, тихо кружились граненый стаканчик с не успевшей испариться водкой, подернутая струпьями сухости кутья в блюдце, ломтик хлеба и прорубь окна, в которой плавал пористый блин луны. Бегущий по кругу взгляд Марии натыкался на игрушечную мебель, медлил с полминуты и возвращался обратно: поминальная луна, хлеб с края блюдца, горстка кутьи, непраздный стаканчик, лицо Хаима в рамке восемь на двенадцать. Некому было остановить этот безумный хоровод, странно наблюдать живую пульсацию фотографии.
За чертой приглушенного нефтяного сияния таилась затянутая сумраком вселенская зыбь. В нее, как в пучину вечного моря, безвозвратно ускользали осколки опрокинутых дней. К ночи на стенах вырастали хищные тени, ожидая движений женщины, чтобы выкинуть длиннопалые руки и унести, и поглотить во мгле. Оцепеневшее тело пребывало в пограничье дремы. Потревоженным роем вихрились, жалили сны-воспоминания.
Осенний ветер литовского побережья рвал листву с ветвей печальной березы на заброшенном православном кладбище. Запахи свежей выпечки неслись из приоткрытых дверей – в пристрое молельного дома на улице Перкасу просвирня готовила хлеб… Чайки гнались за кораблем. Красные черепки схватывались, как ртуть, поднимался вольный Любек, с купеческой думой о выгоде обращенный фасадами к гостевой стороне… а Меркурий на мосту, в одной только шляпе, напротив, поворачивался к пришельцам голым задом… Над въездной аркой башен-близнецов мелькал девиз свободного города: «Concordia domi – foris pax»[4]. Призрачное эхо извлекало из ниоткуда хрипловатый голос: «…я выхожу в высокую дверь туда, где светло…»
Мария с невероятной отчетливостью ощущала, как трудно, ветвь за ветвью, отдираются вросшие в ее плоть вены мужа и как его остылая кровь каплями истекает в аморфное вещество памяти. Очнувшись от чувства, что лежит головой на родной груди, в слепой надежде проводила рукой по постели. Наваждение гасло с немыслимым, всегда по‑новому чудовищным открытием – Хаима больше нет.
С запрокинутым лицом она падала на подушку, снова надолго замирая в полузабытьи, и оказывалась на берегу полярного залива, где кобальтовый вечер был как две капли воды похож на кобальтовое утро. Здесь, в ряду убогих жилищ, с горьким сарказмом названном Лайсвес-аллее – аллеей Свободы, обитали подобия людей с кофейными тенями вокруг глаз, независимо от пола и возраста уравненные во внешности и жребии. Мария еле передвигала ноги в обменянных на обручальное кольцо пимах, замыкая шествие бредущих с работы «рохлядей», как называл своих подшефных хозяин участка. Несла вязанку удачно добытого хвороста. Возвращение на мыс вселяло страх, потому что это не было сном… хотя не могло быть и правдой.
В очередной раз за порогом последней лачуги ее окутало душное тепло с запахом тухлого рыбьего жира и того тлетворного, невыразимого словами смрада, которым несет от сгущенной человеческой нищеты.
Соседи по юрте уже пришли и ждали задержавшихся. На теплой буржуйке стояла банка с травяным взваром, целительным для больных почек Марии.
Свалив хворост у входа, она утомленно сообщила:
– Хаима насмерть задавило кирпичами.
Женщины уставились с вопросительным недоверием.
Юозас, заика, напуганный в детстве собакой, заговорил непривычно для него, длинными предложениями:
– Он не мо-ог уме-ме-мереть, за-завтра мы идем в мо-оре. Туга-арин велел подгото-овиться, подош-швы ва-валенок хорош-шенько пропи-питать смо-олой.
Рассудок Марии поправил небрежную оплошность видения: Тугарин с милиционером Васей давно «вылечили» речевой дефект подростка. Всего-то и нужно было подвесить косноязычного вниз головой и выпустить в ограду собак…
В новой редакции недреманного сознания паренек вымолвил без запинок:
– Наверно, ты спишь и просто видишь плохой сон.
– Это не сон, Юозас. Это правда.
Взметнулась тощая косица – Витауте с плачем прижалась к матери. Нервная Гедре, прежде чем неистово разрыдаться, сверкнула страдающими глазами и быстро, злобно принялась браниться на литовском. В гибели Хаима, как всегда во всех бедах, она обвиняла советскую власть, правительство, змея-заведующего, кого придется…
Сидя на руках всхлипывающей Нийоле, Алоис понятливо качнул одуванчиковой головой:
– Каим усол за больсой нельмой[5]совсем далеко.
Малыш, переживший всех своих сверстников на участке, хорошо знал, что такое «уйти совсем далеко».
Пани Ядвига ничего не сказала по поводу траурного известия, но Мария уловила сострадание в ее новой песне:
– Сво-олочи кирпичи, пшекленты дране[6]…
Трубно чихнув, старуха высморкнула вшей и вытерла нос краем фартука. Иконописное лицо ее, цвета лиственничной коры от голода и старости, излучало благость – таким оно было, когда святую грешницу хоронили на холме. Перед смертью она простила всех, кого ей довелось ненавидеть за долгую жизнь проданной в бордель девочки, проститутки, хозяйки борделя и «врога люду»[7]. Пани Ядвига полагала, что и сама прощена Богом.
– Взвару попей, поди замерзла, – кивнула она Марии, повернулась к углу и опять кивнула кому-то: – Витай[8].
У стены смутно, как в цинготном тумане, проступил колышущийся силуэт. Сквозь дымку куриной слепоты Мария разглядела Хаима. Кроме нее и пани Ядвиги, его, кажется, никто не видел, а он не видел жену, хотя она сразу к нему бросилась… и остановилась рядом, понимая: все напрасно.
Ей не понравилось, что на лице мужа появилось умиротворенное выражение, почти как у покойной соседки, словно, искупив бремя своего независимого характера, он наконец-то по-настоящему освободился. Этот новый просветленный образ, созданный полным правом отсутствия, почудился ей чем-то вроде предательства.
На Хаиме были рукавицы, рабочие штаны и передник обжигальщика, волосы на лбу перехватывала полотняная лента. «Неправда, – подумала Мария. – «Туда» он ушел в недавно сшитой рубашке и новых брюках. Значит, я действительно сплю».
Она очнулась.
До сих пор ее надежно защищала любовь загадочного для других человека, чья естественная, никому не подвластная, а потому предосудительная дерзость – дерзость быть счастливым вопреки всему – одновременно озадачивала и злила окружающих, вызывая их невольное уважение. Отрешенный от внешних воздействий настолько, насколько представлялось возможным при общих невзгодах и скученности, он даже на людях опекал Марию с непринужденным постоянством, но этот патронаж был так ужасающе бестактен по отношению к женщинам, чьих мужей энкавэдэшники либо отправили в лагеря, либо расстреляли, что она едва не плакала от стыда. Чуткий, бесконечно внимательный к ней, муж тотчас предлагал кому-нибудь свою помощь, и неловкая ситуация понемногу сглаживалась. Тут уж он не был бесхитростным, даже пытался заигрывать с женщинами, ломая свою негибкую натуру, и бросал на жену тревожные взгляды: все хорошо? ты не плачешь?
За год в поселке ни она, ни муж, обеспокоенный сложными периодами ее беременности больше положенного, ни с кем не сблизились. Рабочие на заводе, в основном бывшие уголовники и ссыльные с разных островов, не успели хорошо узнать улыбчивого, но не склонного к приятельству еврея. Может, и посмеивались над ним, как телок к матке привязанным к такой же немногословной жене. Бог весть, что о них сплетничали-говорили… А вот «тугаринские», изучившие Хаима за несколько лет тесной жизни на мысе, не осуждали его за лишнюю суету вокруг Марии. Привыкли. Считали этот «недостаток» чуть ли не единственным среди положительных качеств товарища. Никто не сказал бы о нем худого слова – при нужде первым шел помогать. Разве что Вася-милиционер по неизвестной причине невзлюбил соплеменника. Вася, тихо презираемый всеми, тоже еврей…
Она машинально помолилась за близких, таких далеких теперь людей, попросила их духу выдержки в беспросветных шахтерских забоях.
Четыре года женщины и дети, делившие с Готлибами одну юрту, видели, как Хаим брал на себя бо́льшую часть повседневных женских трудов, только бы Мария могла отдохнуть; слышали, как осторожно дозировал он недобрые вести, оберегая ее покой, и, точно угли в костре, раздувал крупицы редких радостей…
Избалованная, она принимала его непреходящую нежность как должное приложение к супружеству. Так и не сказала ему: «Я каждый миг счастлива с тобой».
…Была счастлива.
В прошедшем времени.
Отныне и до конца – в прошедшем.
С гибелью мужа рухнуло искусно поддерживаемое равновесие, едва обретенное после потери сына. Марии предстояло самой налаживать контакт с миром, а искра не загоралась. В особенно невыносимые минуты хотелось помочь себе оторваться от натужного существования, но удерживали молитвы, упадок сил и посмертный позор.
Испытывая душевную уязвимость как физическую боль, она мягкотело, безвольно погружалась в сумерки беспредельного отчаяния. Ее пугала близость сороковин, а о ребенке и обвальных проблемах быта вообще боялась думать… Спасибо, якутская женщина Майыыс взяла девочку на время.