
Антон Чехов
Степь. Избранное
Злоумышленник
Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестрядинной рубахе и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже не чесанных, путанных волос, что придает ему еще большую, паучью суровость. Он бос.
– Денис Григорьев! – начинает следователь. – Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на сто сорок первой версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?
– Чаво?
– Так ли все это было, как объясняет Акинфов?
– Знамо, было.
– Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?
– Чаво?
– Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?
– Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, – хрипит Денис, косясь на потолок.
– Для чего же тебе понадобилась эта гайка?
– Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем…
– Кто это – мы?
– Мы, народ… Климовские мужики то есть.
– Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!
– Отродясь не врал, а тут вру… – бормочет Денис, мигая глазами. – Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выполозка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру… – усмехается Денис. – Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко… В нашей реке не живет шилишпер… Эта рыба простор любит.
– Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?
– Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан…
– Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?
– А то что же? Не в бабки ж играть!
– Но для грузила ты мог взять свинец, пулю… гвоздик какой-нибудь…
– Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не найтить… И тяжелая, и дыра есть.
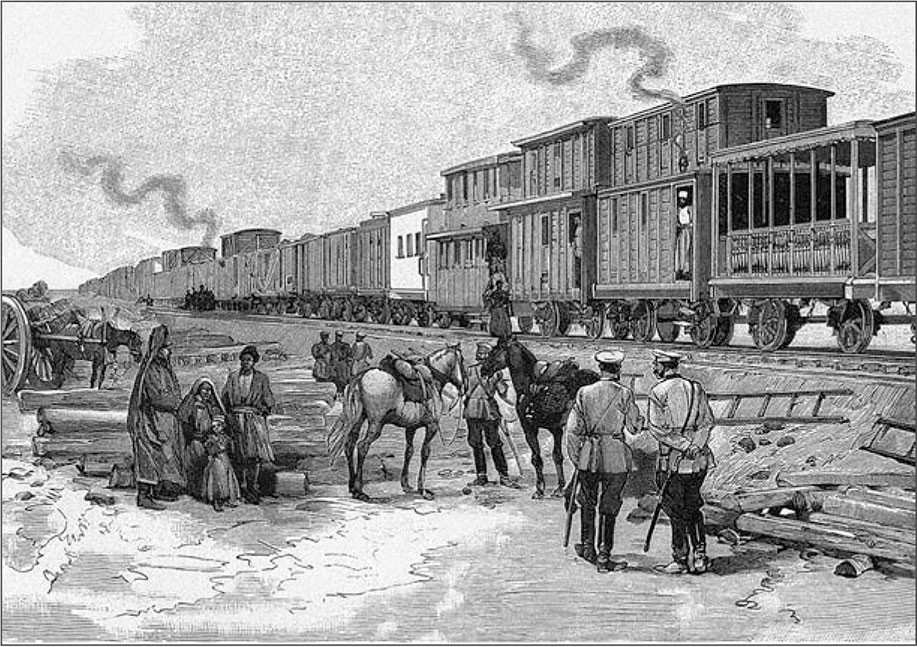
– Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!
– Избави Господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещеные или злодеи какие? Слава те Господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было… Спаси и помилуй, Царица Небесная… Что вы-с!
– А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!
Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза.
– Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил Господь, а тут крушение… людей убил… Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогды, пожалуй, своротило бы поезд, а то… тьфу! гайка!
– Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!
– Это мы понимаем… Мы ведь не все отвинчиваем… оставляем… Не без ума делаем… понимаем…
Денис зевает и крестит рот.
– В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов, – говорит следователь. – Теперь понятно, почему…
– Чего изволите?
– Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов… Я понимаю!
– На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши… Господь знал, кому понятие давал… Вы вот и рассудили, как и что, а сторож тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит… Ты рассуди, а потом и тащи! Сказано – мужик, мужицкий и ум… Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди.
– Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку… Эту в каком месте ты отвинтил и когда?
– Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала?
– Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?
– Я ее не отвинчивал, ее мне Игнашка, Семена кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили.
– С каким Митрофаном?
– С Митрофаном Петровым… Нешто не слыхали? Невода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод, почитай, штук десять…
– Послушай… Тысяча восемьдесят первая статья Уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, что последствием сего должно быть несчастье… понимаешь? знал! А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание… он приговаривается к ссылке в каторжные работы.
– Конечно, вы лучше знаете… Мы люди темные… нешто мы понимаем?
– Все ты понимаешь! Это ты врешь, прикидываешься!
– Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите… Без грузила только уклейку ловят, а на что хуже пескаря, да и тот не пойдет тебе без грузила.
– Ты еще про шилишпера расскажи! – улыбается следователь.
– Шилишпер у нас не водится… Пущаем леску без грузила поверх воды на бабочку, идет голавль, да и то редко.
– Ну, молчи…
Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет.
– Мне идтить? – спрашивает Денис после некоторого молчания.
– Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.
Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.
– То есть как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало получить…
– Молчи, не мешай.
– В тюрьму… Было б за что, пошел бы, а то так… здорово живешь… За что? И не крал, кажись, и не дрался… А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте… Вы господина непременного члена спросите… Креста на нем нет, на старосте-то…
– Молчи!
– Я и так молчу… – бормочет Денис. – А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой… Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев…
– Ты мне мешаешь… Эй, Семен! – кричит следователь. – Увести его!
– Нас три брата, – бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. – Брат за брата не ответчик… Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай… Судьи! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям… Надо судить умеючи, не зря… Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести…
Пассажир 1-го класса
Пассажир первого класса, только что пообедавший на вокзале и слегка охмелевший, разлегся на бархатном диване, сладко потянулся и задремал, Подремав не больше пяти минут, он поглядел маслеными глазами на своего vis-a-vis, ухмыльнулся и сказал:
– Блаженныя памяти родитель мой любил, чтобы ему после обеда бабы пятки чесали. Я весь в него, с тою, однако, разницею, что всякий раз после обеда чешу себе не пятки, а язык и мозги. Люблю, грешный человек, пустословить на сытый желудок. Разрешаете поболтать с вами?
– Сделайте одолжение, – согласился vis-a-vis.
– После хорошего обеда для меня достаточно самого ничтожного повода, чтобы в голову полезли чертовски крупные мысли. Например-с, сейчас мы с вами видели около буфета двух молодых людей, и вы слышали, как один из них поздравлял другого с известностью. «Поздравляю, вы, говорит, уже известность и начинаете завоевывать славу». Очевидно, актеры или микроскопические газетчики. Но не в них дело. Меня, сударь, занимает теперь вопрос, что́ собственно нужно разуметь под словом слава или известность? Как по-вашему-с? Пушкин называл славу яркой заплатой на рубище, все мы понимаем ее по-пушкински, то есть более или менее субъективно, но никто еще не дал ясного, логического определения этому слову. Дорого бы я дал за такое определение!
– На что оно вам так понадобилось?
– Видите ли, знай мы, что́ такое слава, нам, быть может, были бы известны и способы ее достижения, – сказал пассажир первого класса, подумав. – Надо вам заметить, сударь, что когда я был помоложе, я всеми фибрами души моей стремился к известности. Популярность была моим, так сказать, сумасшествием. Для нее я учился, работал, ночей не спал, куска не доедал и здоровье потерял. И кажется, насколько я мог судить беспристрастно, у меня были все данные к ее достижению. Во-первых-с, по профессии я инженер. Пока живу, я построил на Руси десятка два великолепных мостов, соорудил в трех городах водопроводы, работал в России, в Англии, в Бельгии… Во-вторых, я написал много специальных статей по своей части. В-третьих, сударь мой, я с самого детства был подвержен слабости к химии; занимаясь на досуге этой наукой, я нашел способы добывания некоторых органических кислот, так что имя мое вы найдете во всех заграничных учебниках химии. Все время я находился на службе, дослужился до чина действительного статского советника и формуляр имею не замаранный. Не стану утруждать вашего внимания перечислением своих заслуг и работ, скажу только, что я сделал гораздо больше, чем иной известный. И что же? Вот я уже стар, околевать собираюсь, можно сказать, а известен я столь же, как вон та черная собака, что бежит по насыпи.
– Почем знать? Может быть, вы и известны.
– Гм!.. А вот мы сейчас попробуем… Скажите, вы слыхали когда-нибудь фамилию Крикунова?
Vis-a-vis поднял глаза к потолку, подумал и засмеялся.
– Нет, не слыхал… – сказал он.
– Это моя фамилия. Вы человек интеллигентный и пожилой, ни разу не слыхали про меня – доказательство убедительное! Очевидно, добиваясь известности, я делал совсем не то, что следовало. Я не знал настоящих способов и, желая схватить славу за хвост, зашел не с той стороны.
– Какие же это настоящие способы?
– А черт их знает! Вы скажете: талант? гениальность? недюжинность? Новее нет, сударь мой… Параллельно со мной жили и делили свою карьеру люди сравнительно со мной пустые, ничтожные и даже дрянные. Работали они в тысячу раз меньше меня, из кожи не лезли, талантами не блистали и известности не добивались, а поглядите на них! Их фамилии то и дело попадаются в газетах и в разговорах! Если вам не надоело слушать, то я поясню примером-с. Несколько лет тому назад я делал в городе К. мост. Надо вам сказать, скучища в этом паршивом К. была страшная. Если бы не женщины и не карты, то я с ума бы, кажется, сошел. Ну-с, дело прошлое, сошелся я там скуки ради с одной певичкой. Черт ее знает, все приходили в восторг от этой певички, по-моему же, – как вам сказать? – это была обыкновенная, дюжинная натуришка, каких много. Девочка пустая, капризная, жадная, притом еще и дура. Она много ела, много пила, спала до пяти часов вечера – и больше, кажется, ничего. Ее считали кокоткой, – это была ее профессия, – когда же хотели выражаться о ней литературно, то называли ее актрисой и певицей. Прежде я был завзятым театралом, а потому эта мошенническая игра званием актрисы черт знает как возмущала меня! Называться актрисой или даже певицей моя певичка не имела ни малейшего права. Это было существо совершенно бесталанное, бесчувственное, можно даже сказать, жалкое. Насколько я понимаю, пела она отвратительно, вся же прелесть ее «искусства» заключалась в том, что она дрыгала, когда нужно было, ногой и не конфузилась, когда к ней входили в уборную. Водевили выбирала она обыкновенно переводные, с пением, и такие, где можно было щегольнуть в мужском костюме в обтяжку. Одним словом – тьфу! Ну-с, прошу внимания. Как теперь помню, происходило у нас торжественное открытие движения по вновь устроенному мосту. Был молебен, речи, телеграммы и прочее. Я, знаете ли, мыкался около своего детища и все боялся, как бы сердце у меня не лопнуло от авторского волнения. Дело прошлое, и скромничать нечего, а потому скажу вам, что мост получился у меня великолепный! Не мост, а картина, один восторг! И извольте-ка не волноваться, когда на открытии весь город. «Ну, думал, теперь публика на меня все глаза проглядит. Куда бы спрятаться?» Но напрасно я, сударь мой, беспокоился – увы! На меня, кроме официальных лиц, никто не обратил ни малейшего внимания. Стоят толпой на берегу, глядят, как бараны, на мост, а до того, кто строил этот мост, им и дела нет. И, черт бы их драл, с той поры, кстати сказать, возненавидел я эту нашу почтеннейшую публику. Но будем продолжать. Вдруг публика заволновалась: шу-шу-шу… Лица заулыбались, плечи задвигались. «Меня, должно быть, увидели», – подумал я. Как же, держи карман! Смотрю, сквозь толпу пробирается моя певичка, вслед за нею ватага шалопаев; в тыл всему этому шествию торопливо бегут взгляды толпы. Начался тысячеголосый шепот: «Это такая-то… Прелестна! Обворожительна!» Тут и меня заметили… Двое каких-то молокососов, – должно быть, местные любители сценического искусства, – поглядели на меня, переглянулись и зашептали: «Это ее любовник!» Как это вам понравится? А какая-то плюгавая фигура в цилиндре, с давно не бритой рожей, долго переминалась около меня с ноги на ногу, потом повернулась ко мне со словами:
– Знаете, кто эта дама, что идет по тому берегу? Это такая-то… Голос у нее ниже всякой критики-с, но владеет она им в совершенстве!..
– Не можете ли вы сказать мне, – спросил я плюгавую фигуру, – кто строил этот мост?
– Право, не знаю! – отвечала фигура. – Инженер какой-то!
– А кто, – спрашиваю, – в вашем К. собор строил?
– И этого не могу вам сказать.
Далее я спросил, кто в К. считается самым лучшим педагогом, кто лучший архитектор, и на все мои вопросы плюгавая фигура ответила незнанием.
– А скажите, пожалуйста, – спросил я в заключение, – с кем живет эта певица?
– С каким-то инженером Крикуновым.
Ну, сударь мой, как вам это понравится? Но далее… Миннезингеров и баянов теперь на белом свете нет, и известность делается почти исключительно только газетами. На другой же день после освящения моста с жадностью хватаю местный «Вестник» и ищу в нем про свою особу. Долго бегаю глазами по всем четырем страницам и наконец – вот оно! ура! Начинаю читать: «Вчера, при отличной погоде и при громадном стечении народа, в присутствии его превосходительства господина начальника губернии такого-то и прочих властей, происходило освящение вновь построенного моста и т. д.». В конце же: «На освящении, блистая красотой, присутствовала, между прочим, любимица к – ой публики, наша талантливая артистка такая-то. Само собою разумеется, что появление ее произвело сенсацию. Звезда была одета, и т. д.». Обо мне же хоть бы одно слово! Хоть полсловечка! Как это ни мелко, но верите ли, я даже заплакал тогда от злости!
Успокоил я себя на том, что провинция-де глупа, с нее и требовать нечего, а что за известностью нужно ехать в умственные центры, в столицы. Кстати, в те поры в Питере лежала одна моя работка, поданная на конкурс. Приближался срок конкурса.
Простился я с К. и поехал в Питер. От К. до Питера дорога длинная, и вот, чтоб скучно не было, я взял отдельное купе, ну… конечно, и певичку. Ехали мы и всю дорогу ели, шампанское пили и – тру-ла-ла! Но вот мы приезжаем в умственный центр. Приехал я туда в самый день конкурса и имел, сударь мой, удовольствие праздновать победу: моя работа была удостоена первой премии. Ура! На другой же день иду на Невский и покупаю на семь гривен разных газет. Спешу к себе в номер, ложусь на диван и, пересиливая дрожь, спешу читать. Пробегаю одну газетину – ничего! Пробегаю другую – ни Боже мой! Наконец, в четвертой наскакиваю на такое известие: «Вчера с курьерским поездом прибыла в Петербург известная провинциальная артистка такая-то. С удовольствием отмечаем, что южный климат благотворно подействовал на нашу знакомку; ее прекрасная сценическая наружность…» – и не помню что дальше! Много ниже под этим известием самым мельчайшими петитом напечатано: «Вчера на таком-то конкурсе первой премии удостоен инженер такой-то». Только! И, вдобавок, еще мою фамилию переврали: вместо Крикунова написали Киркунов. Вот вам и умственный центр. Но это не все… Когда я через месяц уезжал из Питера, то все газеты наперерыв толковали о «нашей несравненной, божественной, высокоталантливой» и уж мою любовницу величали не по фамилии, а по имени и отчеству…
Несколько лет спустя я был в Москве. Вызван был я туда собственноручным письмом городского головы по делу, о котором Москва со своими газетами кричит уже более ста лет. Между делом я прочел там в одном из музеев пять публичных лекций с благотворительною целью. Кажется, достаточно, чтобы стать известным городу хотя на три дня, не правда ли? Но, увы! Обо мне не обмолвилась словечком ни одна московская газета. Про пожары, про оперетку, про спящих гласных, про пьяных купцов – про все есть, а о моем деле, проекте, о лекциях – ни гу-гу. А милая московская публика! Еду я на конке… Вагон битком набит; тут и дамы, и военные, и студенты, и курсистки – всякой твари по паре.
– Говорят, что дума вызвала инженера по такому-то делу! – говорю я соседу так громко, чтобы весь вагон слышал. – Вы не знаете, как фамилия этого инженера?
Сосед отрицательно мотнул головой. Остальная публика поглядела на меня мельком и во всех взглядах я прочел «не знаю».
– Говорят, кто-то читает лекции в таком-то музее! – пристаю я к публике, желая завязать разговор. – Говорят, интересно!
Никто даже головой не кивнул. Очевидно, не все слышали про лекции, а госпожи дамы не знали даже о существовании музея. Это бы все еще ничего, но представьте вы, сударь мой, публика вдруг вскакивает и ломит к окнам. Что такое? В чем дело?
– Глядите, глядите! – затолкал меня сосед. – Видите того брюнета, что садится на извозчика? Это известный скороход Кинг!
И весь вагон, захлебываясь, заговорил о скороходах, занимавших тогда московские умы.
Много и других примеров я мог бы привести вам, но, полагаю, и этих довольно. Теперь допустим, что я относительно себя заблуждаюсь, что я хвастунишка и бездарность, но, кроме себя, я мог бы указать вам на множество своих современников, людей замечательных по талантам и трудолюбию, но умерших в неизвестности. Все эти русские мореплаватели, химики, физики, механики, сельские хозяева – популярны ли они? Известны ли нашей образованной массе русские художники, скульпторы, литературные люди? Иная старая литературная собака, рабочая и талантливая, тридцать три года обивает редакционные пороги, исписывает черт знает сколько бумаги, раз двадцать судится за диффамацию, а все-таки не шагает дальше своего муравейника! Назовите мне хоть одного корифея нашей литературы, который стал бы известен раньше, чем не прошла по земле слава, что он убит на дуэли, сошел с ума, пошел в ссылку, нечисто играет в карты!
Пассажир первого класса так увлекся, что выронил изо рта сигару и приподнялся.
– Да-с, – продолжил он свирепо, – и в параллель этим людям я приведу вам сотни всякого рода певичек, акробатов и шутов, известных даже грудным младенцами. Да-с!
Скрипнула дверь, пахнули сквозняки и в вагон вошла личность угрюмого вида, в крылатке, в цилиндре и синих очках. Личность оглядела места, нахмурилась и прошла дальше.
– Знаете, кто это? – послышался робкий шепот из далекого угла вагона. – Это N. N., известный тульский шулер, привлеченный к суду по делу Y-го банка.
– Вот вам! – засмеялся пассажир первого класса. – Тульского шулера знает, а спросите его, знает ли он Семирадского, Чайковского или философа Соловьева, так он вам башкой замотает… Свинство!
Прошло минуты три в молчании.
– Позвольте вас спросить в свою очередь, – робко закашлял vis-a-vis, – вам известна фамилия Пушкова?
– Пушкова? Гм!.. Пушкова… Нет, не знаю!
– Это моя фамилия… – проговорил vis-a-vis, конфузясь. – Стало быть, не знаете? А я уже тридцать пять лет состою профессором одного из русских университетов… член Академии наук-с… неоднократно печатался…
Пассажир первого класса и vis-a-vis переглянулись и принялись хохотать.
Ведьма
Время шло к ночи. Дьячок Савелий Гыкин лежал у себя в церковной сторожке на громадной постели и не спал, хотя всегда имел обыкновение засыпать в одно время с курами. Из одного края засаленного, сшитого из разноцветных ситцевых лоскутьев одеяла глядели его рыжие жесткие волосы, из-под другого торчали большие, давно не мытые ноги. Он слушал… Его сторожка врезывалась в ограду, и единственное окно ее выходило в поле. А в поле была сущая война. Трудно было понять, кто кого сживал со света и ради чьей погибели заварилась в природе каша, но судя по неумолкаемому, зловещему гулу, кому-то приходилось очень круто. Какая-то побудительная сила гонялась за кем-то по полю, бушевала в лесу и на церковной крыше, злобно стучала кулаками по окну, метала и рвала, а что-то побежденное выло и плакало… Жалобный плач слышался то за окном, то над крышей, то в печке. В нем звучал не призыв на помощь, а тоска, сознание, что уже поздно, нет спасения. Снежные сугробы подернулись тонкой льдяной корой; на них и на деревьях дрожали слезы, по дорогам и тропинкам разливалась темная жижица из грязи и таявшего снега. Одним словом, на земле была оттепель, но небо, сквозь темную ночь, не видело этого и что есть силы сыпало на таявшую землю хлопья нового снега. А ветер гулял, как пьяный… Он не давал этому снегу ложиться на землю и кружил его в потемках, как хотел.

Гыкин прислушивался к этой музыке и хмурился. Дело в том, что он знал, или по крайней мере догадывался, к чему клонилась вся эта возня за окном и чьих рук было это дело.
– Я знаю! – бормотал он, грозя кому-то под одеялом пальцем. – Я все знаю!
У окна, на табурете, сидела дьячиха Раиса Ниловна. Жестяная лампочка, стоявшая на другом табурете, словно робея и не веря в свои силы, лила жиденький, мелькающий свет на ее широкие плечи, красивые, аппетитные рельефы тела, на толстую косу, которая касалась земли. Дьячиха шила из грубого рядна мешки. Руки ее быстро двигались, все же тело, выражение глаз, брови, жирные губы, белая шея замерли, погруженные в однообразную, механическую работу, и, казалось, спали. Изредка только она поднимала голову, чтобы дать отдохнуть своей утомившейся шее, взглядывала мельком на окно, за которым бушевала метель, и опять сгибалась над рядном. Ни желаний, ни грусти, ни радости – ничего не выражало ее красивое лицо с вздернутым носом и ямками на щеках. Так ничего не выражает красивый фонтан, когда он не бьет.
Но вот она кончила один мешок, бросила его в сторону и, сладко потянувшись, остановила свой тусклый, неподвижный взгляд на окне… На стеклах плавали слезы и белели недолговечные снежинки. Снежинка упадет на стекло, взглянет на дьячиху и растает…
– Поди ложись! – проворчал дьячок.
Дьячиха молчала. Но вдруг ресницы ее шевельнулись и в глазах блеснуло внимание. Савелий, все время наблюдавший из-под одеяла выражение ее лица, высунул голову и спросил:
– Что?
– Ничего… Кажись, кто-то едет… – тихо ответила дьячиха.
Дьячок сбросил с себя руками и ногами одеяло, стал в постели на колени и тупо поглядел на жену. Робкий свет лампочки осветил его волосатое рябое лицо и скользнул по всклоченной жесткой голове.
– Слышишь? – спросила жена.
Сквозь однообразный вой метели расслышал он едва уловимый слухом тонкий, звенящий стон, похожий на зуденье комара, когда он хочет сесть на щеку и сердится, что ему мешают.
– Это почта… – проворчал Савелий, садясь на пятки.
В трех верстах от церкви лежал почтовый тракт. Во время ветра, когда дуло с большой дороги на церковь, обитателям сторожки слышались звонки.
– Господи, приходит же охота ездить в такую погоду! – вздохнула дьячиха.
– Дело казенное. Хочешь – не хочешь, поезжай…
Стон подержался в воздухе и замер.
– Проехала! – сказал Савелий, ложась.
Но не успел он укрыться одеялом, как до его слуха донесся явственный звук колокольчика. Дьячок тревожно взглянул на жену, спрыгнул с постели и, переваливаясь с боку на бок, заходил вдоль печки. Колокольчик прозвучал немного и опять замер, словно оборвался.
– Не слыхать… – пробормотал дьячок, останавливаясь и щуря на жену глаза.
Но в это самое время ветер стукнул по окну и донес тонкий, звенящий стон… Савелий побледнел, крякнул и опять зашлепал по полу босыми ногами.
– Почту кружит! – прохрипел он, злобно косясь на жену. – Слышишь ты? Почту кружит!.. Я… я знаю! Нешто я не… не понимаю? – забормотал он. – Я все знаю, чтоб ты пропала!
– Что ты знаешь? – тихо спросила дьячиха, не отрывая глаз от окна.
– А то знаю, что все это твои дела, чертиха! Твои дела, чтоб ты пропала! И метель это, и почту кружит… все это ты наделала! Ты!
– Бесишься, глупый… – покойно заметила дьячиха.
– Я за тобой давно уж это замечаю! Как поженился, в первый же день приметил, что в тебе сучья кровь!
– Тьфу! – удивилась Раиса, пожимая плечами и крестясь. – Да ты перекрестись, дурень!
– Ведьма и есть ведьма, – продолжал Савелий глухим, плачущим голосом, торопливо сморкаясь в подол рубахи. – Хоть ты и жена мне, хоть и духовного звания, но я о тебе и на духу так скажу, какая ты есть… Да как же? Заступи, Господи, и помилуй! В прошлом годе под пророка Даниила и трех отроков была метель и – что же? мастер греться заехал. Потом на Алексия, Божьего человека, реку взломало, и урядника принесло… Всю ночь тут с тобой, проклятый, калякал, а как наутро вышел, да как взглянул я на него, так у него под глазами круги и все щеки втянуло! А? В Спасовку два раза гроза была, и в оба разы охотник ночевать приходил. Я все видел, чтоб ему пропасть! Все! О, красней рака стала! Ага!
– Ничего ты не видел…
– Ну да! А этой зимой перед Рождеством на десять мучеников в Крите, когда метель день и ночь стояла… помнишь? – писарь предводителя сбился с дороги и сюда, собака, попал… И на что польстилась! Тьфу, на писаря! Стоило из-за него Божью погоду мутить! Чертяка, сморкун, из земли не видно, вся морда в угрях и шея кривая… Добро бы, красивый был, а то – тьфу! – сатана!
Дьячок перевел дух, утер губы и прислушался. Колокольчика не было слышно, но рванул над крышей ветер, и в потемках за окном опять зазвякало.
– И теперь тоже! – продолжал Савелий. – Недаром это почту кружит! Наплюй мне в глаза, ежели почта не тебя ищет! О, бес знает свое дело, хороший помощник! Покружит, покружит и сюда доведет. Зна-аю! Ви-ижу! Не скроешь, бесова балаболка, похоть идольская! Как метель началась, я сразу понял твои мысли.
– Вот дурень! – усмехнулась дьячиха. – Что ж, по твоему, по дурацкому уму, я ненастье делаю?
– Гм… Усмехайся! Ты или не ты, а только я замечаю: как в тебе кровь начинает играть, так и непогода, а как только непогода, так и несет сюда какого ни на есть безумца. Каждый раз так приходится! Стало быть, ты!
Дьячок для большей убедительности приложил палец ко лбу, закрыл левый глаз и проговорил певучим голосом:
– О, безумие! О, Иудино окаянство! Коли ты в самом деле человек есть, а не ведьма, то подумала бы в голове своей: а что, если то были не мастер, не охотник, не писарь, а бес в их образе! А? Ты бы подумала!
– Да и глупый же ты, Савелий! – вздохнула дьячиха, с жалостью глядя на мужа. – Когда папенька живы были и тут жили, то много разного народа ходило к ним от трясучки лечиться: и из деревни, и из выселков, и из армянских хуторов. Почитай, каждый день ходили, и никто их бесами не обзывал. А к нам ежели кто раз в год в ненастье заедет погреться, так уж тебе, глупому, и диво, сейчас у тебя и мысли разные.
Логика жены тронула Савелия. Он расставил босые ноги, нагнул голову и задумался. Он не был еще крепко убежден в своих догадках, а искренний, равнодушный тон дьячихи совсем сбил его с толку, но тем не менее, подумав немного, он мотнул головой и сказал:
– Не то, чтобы старики или косолапые какие, а все молодые ночевать просятся… Почему такое? И пущай бы только грелись, а то ведь черта тешат. Нет, баба, хитрей вашего бабьего рода на этом свете и твари нет! Настоящего ума в вас – ни Боже мой, меньше, чем у скворца, зато хитрости бесовской – у-у-у! – спаси, Царица Небесная! Вон, звонит почта! Метель еще только начиналась, а уж я все твои мысли знал! Наведьмачила, паучиха!
– Да что ты пристал ко мне, окаянный? – вышла из терпения дьячиха. – Что ты пристал ко мне, смола?
– А то пристал, что ежели нынче ночью, не дай Бог, случится что… ты слушай!.. ежели случится что, то завтра же чуть свет пойду в Дьяково к отцу Никодиму и все объясню. Так и так, скажу, отец Никодим, извините великодушно, но она ведьма. Почему? Гм… желаете знать почему? Извольте… Так и так. И горе тебе, баба! Не токмо на Страшном судилище, но и в земной жизни наказана будешь! Недаром насчет вашего брата в требнике молитвы написаны!
Вдруг в окне раздался стук, такой громкий и необычайный, что Савелий побледнел и присел от испуга. Дьячиха вскочила и тоже побледнела.
– Ради Бога, пустите погреться! – послышался дрожащий густой бас. – Кто тут есть? Сделайте милость! С дороги сбились!
– А кто вы? – спросила дьячиха, боясь взглянуть на окно.
– Почта! – ответил другой голос.
– Недаром дьяволила! – махнул рукой Савелий. – Так и есть! Моя правда… Ну, гляди же ты мне!
Дьячок подпрыгнул два раза перед постелью, повалился на перину и, сердито сопя, повернулся лицом к стене. Скоро в его спину пахнуло холодом. Дверь скрипнула, и на пороге показалась высокая человеческая фигура, с головы до ног облепленная снегом. За нею мелькнула другая, такая же белая…
– И тюки вносить? – спросила вторая хриплым басом.
– Не там же их оставлять!
Сказавши это, первый начал развязывать себе башлык и, не дожидаясь, когда он развяжется, сорвал его с головы вместе с фуражкой и со злобой швырнул к печке. Затем, стащив с себя пальто, он бросил его туда же и, не здороваясь, зашагал по сторожке.
Это был молодой белокурый почтальон в истасканном форменном сюртучишке и в рыжих грязных сапогах. Согревши себя ходьбой, он сел за стол, протянул грязные ноги к мешкам и подпер кулаком голову. Его бледное с красными пятнами лицо носило еще следы только что пережитых боли и страха. Искривленное злобой, со свежими следами недавних физических и нравственных страданий, с тающим снегом на бровях, усах и круглой бородке, оно было красиво.
– Собачья жизнь! – проворчал почтальон, водя глазами по стенам и словно не веря, что он в тепле. – Чуть не пропали! Коли б не ваш огонь, так не знаю, что бы и было… И чума его знает, когда все это кончится! Конца краю нет этой собачьей жизни! Куда мы заехали? – спросил он, понизив голос и вскидывая глазами на дьячиху.





