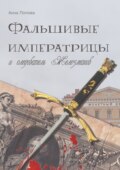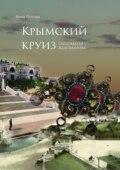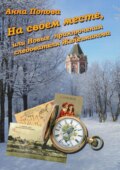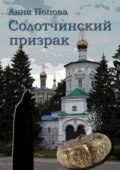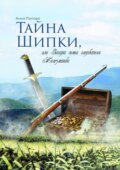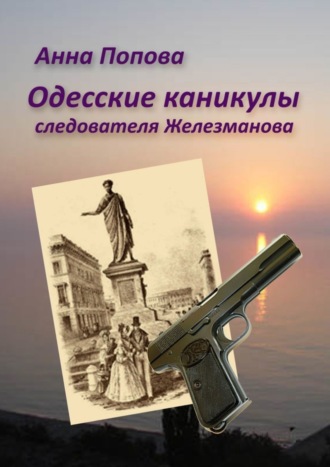
Анна Попова
Одесские каникулы следователя Железманова
Посвящается моему любимому городу Одессе
© Анна Попова, 2023
ISBN 978-5-4496-3907-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Стайка голубей вспорхнула в высокое майское небо. Нежность только что распущенных зеленых листочков подчеркивалась голубизной ясного неба. Колокольный звон передавал торжественность и радость момента: надворный советник, следователь по особо важным делам Рязанского окружного суда Иван Васильевич Зазнаев венчался весной 1909 года в Ильинской церкви с мещанской девицей Ольгой Лисиной. Друг жениха, тоже следователь Рязанского окружного суда, только по Касимовскому уезду этой же Рязанской губернии, коллежский секретарь Петр Андреевич Железманов выходил из церкви вместе с остальными гостями свадьбы. Душу его переполняли самые высокие и светлые мысли. «Они обязательно будут счастливы. Этого просто не может быть иначе. Не может быть, чтобы брак, заключенный в такой чистый и светлый день, был несчастливым. И будут они жить долго. И детей у них будет несколько. Пусть будут две девочки и двое мальчиков. И дети будут замечательные. Здоровые и умные. И никто из них не умрет от кори или скарлатины. И служба у моего друга будет успешной. И упасет его судьба от тяжких испытаний, и не будет больше ни войн, ни революций, а все преступники будут наивными и не опасными», – думал молодой человек. И казалось, что все в мире с ним в этот миг согласны: от священника, венчавшего молодых, до самого мелкого воробья, устроившегося на ветке старой березы, чтобы поглазеть на красивую и торжественную процессию. Этому вторили и солидные силуэты старинных соборов Рязанского кремля. Величавый Успенский собор, построенный великим Бухвостовым, словно парящий в воздухе, в нарядном красно-белом облачении выступал как символ стабильности и благополучия. Солнце задорно играло в маковках пятиглавой Богоявленской церкви. Казалось, что с высокой колокольни сейчас раздастся глас божий: «Эти двое будут обязательно счастливы». А они и сами так думали. Ольга в воздушном белом платье была олицетворением самой женственности и чистоты. Иван бережно вел жену за руку и воплощал надежность и семейный уют.
На следующий день после свадьбы друзья пошли прогуляться. Иван, несколько уставший от предсвадебной суеты, но в то же время просто светящийся от радости, с восторгом пытался передать другу свое состояние:
– Ты не представляешь, какая она чудесная. Умная и образованная. Она прочла почти все собрание историка Соловьева. Мне с ней так интересно!
– И по делу может помочь, – несколько ехидно заметил Петр, намекая на историю почти полугодовой давности, когда девушка по просьбе следователей под видом покупательницы пришла в магазин, чтобы выяснить, кто является хозяином этого заведения1.
– Да ладно тебе, попросил пару раз помочь. А так это хорошо, когда супруги могут быть союзниками в одном деле. Вот скажи, каждая девушка поймет мужа, которого вызывают на место происшествия посреди ночи, или еще хуже – из гостей или театра уходить приходится?
– Конечно, не каждая, думаю, что многие обидятся.
– Вот видишь, а моя Оленька не обидится. Я это точно знаю.
Друзья прогуливались по набережной у Рязанского кремля. Разлив Трубежа и Оки еще не сошел полностью. Оба следователя направлялись в стороны церкви Спаса на Яру, останавливаясь и любуясь старинными соборами, буйством нежной зелени на фоне голубого неба.
– Все же как красива природа весной! – в Железманове проснулся художник. Несмотря на свою суровую профессию, он увлекался живописью, в редкие свободные часы любил выбираться на природу и писать акварели.
– Да, очень красиво. Ты знаешь, я теперь с твоей подачи пытаюсь во всем видеть что-то красивое, если это конечно не место происшествия.
– Да, тут даже красивей, чем в моей родной Тверской губернии, там климат несколько другой, более суровый. А тут нежные березки, высокие сосны, изумительное голубое небо – и все это так сочетается! – Петр раскинул руки и обернулся вокруг своей оси.
– Так ты не только художник, ты еще и поэт! – воскликнул Иван.
– Да нет, я не поэт, но хочу сказать, что этот край заслуживает большого поэта, который на весь мир будет воспевать его красоту. И благодарные потомки где-то здесь поставят ему памятник и будут приходить, чтобы поклониться своему рязанскому Пушкину, – картинным жестом Петр показал на место на набережной недалеко от церкви Спаса на Яру.
– Так ты еще оказываешься и фантаст, прямо Жюль Верн, – рассмеялся Иван. Место и в самом деле выглядело непрезентабельно: несмотря на то, что церковь отличалась изяществом, пространство вокруг нее было завалено мусором.
– А может оно так и будет? – не сдавался его друг.
– Ладно, может и будет. Я хотел про твою жизнь спросить. Ты извини, так потерял голову от твоего счастья, что забыл даже расспросить, как у тебя дела? Как сестры? Лиза по-прежнему собирается заниматься медициной? Как матушка?
Петр стал рассказывать о домашних:
– В целом нормально все: та сестренка, которая чуть постарше, Катя, продолжает учиться на своих Бестужевских курсах, история ей очень нравится, подрабатывает частными уроками. Она молодец, совсем освоилась жить одной в большом городе. А младшая – Лиза недавно прислала письмо. Да, она по-прежнему хочет стать врачом, вот думаем, на какие курсы ей лучше поступать. Представляешь, она вообще хирургом хочет стать. Я думал, она в акушерки подастся, а она – в хирурги.
– И тебя это опять очень беспокоит?
– Нет, уже меньше. Ты прав, надо уважать самостоятельный выбор сестер, даже если они младше тебя по возрасту. Ведь я когда-то тоже делал выбор, меня семья поддержала, вот и я их поддержу.
– Я тоже думаю, что это правильно. Сейчас время такое, что не всегда женщина может дома сидеть. А сам как?
– Ничего, начал фехтованием заниматься. Решил последовать совету твоего Анисимова.
Зимой, когда они вдвоем расследовали запутанное дело о нападении на почтовую карету, в Касимов вместе с Зазнаевым приехал сотрудник только что созданной в России структуры – сыскного отделения – Егор Иванович Анисимов. Будучи отставным войсковым офицером, хорошо знавший криминальный мир Егор Иванович искренне удивился, узнав, что молодой следователь почти не умеет стрелять и вообще никак не может себя защитить. Поэтому после успешного обнаружения преступников, собираясь возвращаться в Рязань, отставной офицер сделал молодому следователю подарок: изящную тросточку, которая легким нажатием потаенной кнопочки разбиралась, и в руках оказывался небольшой клинок. Подарок давался с наставлением:
– Вам обязательно надо научиться владеть хорошо оружием. Не все преступники – относительно безобидные пьяницы, совершившие преступление в пьяном угаре. Обещайте мне, что будете брать уроки фехтования, а также обзаведитесь пистолетом или револьвером. Я думаю, что в городе обязательно найдутся отставные военные, которые научат вас правильно владеть оружием. Поверьте, от этого может зависеть ваша жизнь.
Петр внял совету, он нашел одного военного, который начал учить его правильно пользоваться холодным и огнестрельным оружием.
– Ты знаешь, не такое простое дело оказалось. Стрелять у меня более-менее быстро стало получаться. А вот фехтование… В романах Дюма все так изящно преподнесено, я прямо-таки мушкетеров еще больше уважать стал. Вон Атос2 даже левой фехтовал так же, как и правой, я вот правой только могу, и то только самыми простыми вещами владею.
– Ты учти, что во времена мушкетеров только и делали, что на шпагах дрались, учением они особо голову не забивали.
– Возможно. Слушай, а давай вечером в электрический театр сходим?
Электрическим театром тогда называли кинотеатр. В Рязани тогда уже действовал один, на Почтовой улице. Сеансы шли каждый час. Стоимость билета была весьма доступна (по крайней мере, для наших героев) – 20 копеек. Вечером чета Зазнаевых и Железманов смогли приобщиться к новой забаве.
А на следующий день Петру Андреевичу пришлось отправляться в Касимов. Он опять выбрал водный путь, купив билет на пароход. Город встречал его уже привычной шумной и торжественной панорамой. Вид куполов соборов с блестящими на солнце маковками, фасадов богатых зданий на Набережной, шум и возня на пристани уже вызывали теплые ощущения возвращения ДОМОЙ. А там его ждали, и прежде всего Тимофей. Так звали домашнего кота Железманова. Петр подобрал его на улице, когда тот был еще совсем молодым котиком, и, несмотря на протесты домашней работницы Прасковьи, оставил у себя жить. И не прогадал. Он получил и хорошего друга, и хорошего защитника. Зверь обладал шикарной рыжей окраской, недюжинным охотничьим талантом (проблема мышей в доме была решена) и достаточно высоким самомнением. К двуногому партнеру по жилью относился покровительственно, но дружелюбно. Сейчас весь вид зверя говорил: наконец, ты двуногий, приехал, а то я за тебя беспокоился. Как ты там без моего пригляда?
– Привет, Тёмка! – обрадовался Петр. Он нагнулся и взял кота на руки, начал гладить. Громкое урчание поплыло по комнате, подтвердило обоюдную радость друзей от встречи. Чуть менее эмоционально, но все же высказала свою радость и Прасковья:
– Хорошо доехали? Как там Иван Васильевич? Повенчался? Кушать желаете? Я котлет нажарила, картошку вот сейчас поставлю, холодец есть.
– Да, все в порядке. Есть буду, но чуть позже. Сейчас умоюсь с дороги и почту посмотрю.
* * *
Петр Андреевич вошел в привычный ритм своей службы. А новое дело не заставило себя ждать. Обычно оно начинается или с появления потерпевшего в кабинете следователя, или с доклада официального лица, коим чаще всего выступает какой-нибудь низший полицейский чин. Сегодня сработал второй вариант: унтер-офицер вошел в кабинет следователя и отрапортовал:
– Ваше благородие, разрешите доложить: в селе Кириловка церковь ограбили.
– Церковь ограбили? – удивился Петр Андреевич. В начале ХХ века происходила сложная трансформация взаимоотношений общества, церкви и государства. Отношение к религии было весьма мозаично в различных социальных слоях.. Если крестьянство оставалось достаточно набожным, то горожане, особенно более образованные, относились к религии и ко многим требованиям культа более прохладно. Если такие события, как рождение ребенка или вступление в брак, обязательно сопровождались религиозными таинствами, что и понятно – без этого брак не имел юридической силы, то многие другие вещи соблюдались с наименьшей последовательностью. Само посещение храма, регулярная исповедь, соблюдение постов уходили из повседневной жизни многих жителей города. К слову сказать, сам Петр Андреевич в храме бывал редко, постов не соблюдал. Однако известие об ограбление церкви его покоробило. Молодой следователь не особо интересовался статистикой, иначе бы знал, что в начале ХХ века число подобных преступлений выросло в разы. Старинные иконы, предметы культа, многие изготовленные из настоящего золота и серебра, привлекали любителей легкого заработка. Для воров, специализировавшихся на краже в церквях, даже было придумано свое прозвище – клюквенники. Почему именно название этой северной кисло-сладкой ягоды легло в наименовании воровской специализации, Петр Андреевич не знал.
Впрочем, особого значения это не имеет, вызов поступил, надо приниматься за дело. Полицейский чин позаботился о транспорте: под окном стояла крестьянская телега, запряженная гнедой лошаденкой. Лошадь выглядела старой и усталой, уныло жевала поводья, время от времени совершая резкие движения головой и корпусом, стараясь сбросить надоедливых мух. Вид самой телеги тоже был не ахти – старая, дерево рассохлось, казалось, что одно колесо держится на честном слове. Перспектива трястись в этом чудо-транспорте, ощущая своей пятой точкой каждую из многочисленных ямок на сельской дороге, энтузиазма у следователя не вызвала. Тогда он принял другое решение. В коридоре примостился велосипед. На нем можно объезжать все ямы, да и скорость будет ненамного меньше.
Велосипед! Это была еще одна новинка в жизни молодого следователя. В начале ХХ века в России набирает обороты увлечение велосипедным спортом. В разных концах страны, в крупных городах и в провинции, создаются общества любителей велосипедного спорта, проводятся соревнования. Велосипед стал модной забавой представителей различных общественных слоев. Коллективные велосипедные прогулки за город постепенно превращались в привычный атрибут повседневной жизни. Петр, которого всегда привлекал активный отдых, уже давно интересовался этой новинкой. Забава была не из дешевых, поэтому реализовать свой интерес Петр смог не сразу, но в начале 1909 года он понял, что вполне может себе позволить большую трату: из Санкт-Петербурга был выписан велосипед стоимостью 65 рублей. Посылка пришла в феврале, когда еще лежал снег. Когда покупка была доставлена в дом следователя, то его радости не было предела. Он принялся обихаживать свое приобретение, старательно очищая от лишнего масла, подкачивая шины и проверяя прочность всех креплений. Петр даже попытался чуть-чуть проехаться по комнате. Однако его домашние радость не разделили.
– Ой, чой вы, барин, такое выписали? Что за страхолюдина такая? – всплеснула руками домашняя работница Прасковья.
– Это не страхолюдина, а велосипед, – снисходительно пояснил Петр.
– Да зачем она вам? Вон как на ней раскорячились, неудобно же вам!
– Ничего не раскорячился. Очень даже удобно, буду, когда снег сойдет, за город ездить. Может, по делу когда съежу, если деревня недалеко будет. Повозку еще когда дождешься!
– Дорогой, поди?
– Дорогой, ты права, шестьдесят пять рублей стоит, но что делать, хорошие вещи иногда много стоят.
Не понравилась покупка и Тимофею. Увидев довольного двуногого, суетящегося вокруг непонятного металлического чуда, втянув незнакомые запахи машинного масла, кожаного седла, резины, кот осторожно приблизился к незнакомой вещи. Попытки потрогать лапой колеса не вызвали поддержки:
– Ээээ, надеюсь, что ты не будешь точить коготочки о колеса? Они все же резиновые и могут испортиться!
Ну вот, купил себе какую-то непонятную и вонючую вещь и даже как следует посмотреть не даешь – сделал недовольную мордочку зверь. Попытки Петра проехаться на велосипеде по комнате вообще вызвали у кота полное непонимание, он недовольно забрался вначале на спинку дивана, потом на книжную полку, а затем и на шкаф. Там наверху самое безопасное место, откуда можно спокойно взирать на чудачества двуногого.
Надо сказать, что в Касимове велосипед был в диковинку. Появление следователя на улицах этого провинциального городка на необычном виде транспорта многих даже не удивляло, а пугало. Некоторые бабы ругались и крестились, зато местные мальчишки проявляли большое любопытство и даже просили попробовать прокатиться на этом двухколесном чуде.
Сейчас было самое подходящее время использовать новинку по служебной надобности.
– Так, служивый, поступим следующим образом. Насколько я помню, Кириловка в нескольких верстах отсюда? – спросил Железманов полицейского.
– Да, верст пять-шесть шесть будет.
– Вот и хорошо. Ты садись и езжай в телеге, вот я тебе тут папку свою с бумагами кладу, а я рядом на велосипеде буду следовать.
– Это как?
– Так вот, ты на телеге, а я на велосипеде.
Служивый с удивлением смотрел на новое средство передвижения. Конечно, он видел его не первый раз в жизни, но каждый раз искренне удивлялся, зачем оно нужно: и неустойчивое, и ногами крутить надо. То ли дело на телеге, сидишь себе и едешь, только лошадь надо подстегивать, чтобы не ленилась.
Так и поехали. Майское солнце пригревало, но не палило нещадным зноем так, как оно обычно делает в июне. Дождь был недавно, но не сильный, поэтому дорогу не развезло, можно было вполне комфортно объезжать лужи и ямы. В то же время влажная земля не давала подниматься облакам пыли, которые обычно сопровождают путника на сельской дороге. Так что дорога получалась достаточно комфортной. Временами даже получалось разговаривать с полицейским, выясняя то, что уже известно:
– Когда обнаружили кражу?
– Сегодня утром, батюшка пришел службу служить, а дверь церкви взломана.
– А вчера вечером все было в порядке?
– Да, ваше благородие.
– То есть кража была ночью?
– Выходит, что так.
– А украли что?
– Икону.
– Одну?
– Да только одну, но батюшка сказал, что она самая древняя была.
– А на иконе кто был изображен?
– Николай Чудотворец.
– Николай Чудотворец? – переспросил Петр, зная, что в крестьянской среде этот святой пользуется особым уважением.
– А больше ничего не взяли? Подсвечники там или кадила?
– Нет, больше ничего не взяли.
«Раз взяли только одну икону и самую древнюю в храме, то кража была неслучайно, впрочем, это еще надо уточнить», – подумал Петр Андреевич.
В селе его ждала толпа крестьян. Они были взволнованы и даже немного напуганы. Приезд следователя встретили с некоторой надеждой:
– Ваше благородие, это что такое делается? Храм наш обокрали! Найди супостата.
– Спокойно, вот только не надо говорить всем разом, – слезая с велосипеда, попытался как-то успокоить людей следователь. – Я все равно не могу всех слушать одновременно. Где староста?
– Я староста, – робко выступил пожилой крестьянин с длинной и седой бородой.
– А священник где?
Из толпы выступил священник.
– Здравствуйте, – поздоровался следователь.
– И вам доброго здаровьичка, – ответил служитель культа.
– Ведите в храм, посмотрим, что там произошло.
По дороге священник опять повторил уже известное:
– Пришел утром, а дверь в храме взломана, вошел вовнутрь, а там икона исчезла. Прямо выломали из иконостаса.
– Какая икона?
– Николая Чудотворца. Древняя икона. Семнадцатый век.
Подошли к храму. Петр Андреевич распорядился:
– Все остаются здесь, близко никто не подходит, вовнутрь тоже не заходит. Со мной войдут священник и староста. Остальные ждут, или вообще идите по домам. За кем надо, потом старосту пришлю.
Толпа несколько разочарованно остановилась. Словно все ждали чуда от приезда следователя: он приедет, подойдет к храму, и икона обнаружится, – а тут велено по домам… Но все же приказу подчинились. По внешнему виду храма, по тому, как крестится священник перед входом, Петр Андреевич понял одну важную вещь: храм и община старообрядческая. Конечно, Рязанская губерния – не сибирская глубинка, куда переселились многие старообрядцы, но все же общины староверов можно было встретить и здесь. Следователь приступил к осмотру.
Первое, что он изучил, была входная дверь. Даже неопытному взгляду было ясно, что замок открыли не родным ключом, и даже не с помощью отмычки, а просто выломали топором или ломом:
– Действовали, скорее всего, топором или фомкой, – высказал предположение Петр Андреевич, подбирая и рассматривая щепки, которые валялись на полу.
– Чем-чем? – не понял староста.
– Что ты не понял? – удивился следователь.
– Чем выломали? Топор – это я понял, а фомка – это что? Прозвище какое?
– Ага, верно сказал – прозвище. Воровское. Так воры называют небольшой ломик с загнутым концом. Им и ломают замки, запоры.
Следователь осторожно зашел в сам храм и посмотрел на пол.
– Скажите, а как часто моют полы в храме? – неожиданно спросил он священника.
– Да каждый день после службы, – удивленно ответил служитель культа.
– И вчера служба была?
– Была.
– Полы вымыли после нее?
– Обязательно.
– А кто храм запирал?
– Я и запирал.
– А не обратили внимание, полы добросовестно были вымыты?
– А какое это имеет значение? Ваше благородие, нашего заступника украли, а вы про полы… Какая разница, чистые они или грязные? – недоумевал растерянный священник.
– Это имеет большое значение, – несколько наставительно произнес Петр Андреевич. – Вот видите. На полу явно видны чьи-то следы. Явно кто-то прошелся в больших сапогах. Вчера ночью был дождь. Был у вас в Кириловке дождь?
– Да, был, – охотно кивнул головой староста.
– Сильный? – уточнил следователь.
– Не то чтобы сильный, но часа два моросил.
– А нам, значит, только его остатки достались, в Касимове только немного землю смочило, – заключил Железманов, а потом пустился в объяснения: – Если вчера в храме прибрались, то кто мог оставить такие следы от грязных сапог, словно по лужам шел? Скорее всего, это сделал тот, кто похитил икону.
– Так разве по этим следам виновного найдешь?
– Конечно, личность установить трудно, но кое-что сказать можно, например,… – следователь пригляделся и сделал пару шагов в такт следам, а потом сделал вывод: – Думается, что он немаленького роста, не меньше меня, это точно, а так может даже выше.
Подошли к иконостасу. Место, где была вырвана икона, смотрелось как язва на теле.
– Тут тоже орудовали топором или фомкой, – заключил Железманов, осматривая иконостас и поднимая с пола щепки. А потом спросил: – Больше ничего не пропало?
– Нет, все в порядке.
– Вы уверены?
– Уверен.
Все же вместе обошли весь храм. Железманов шел осторожно, внимательно смотря под ноги. Больше никакого беспорядка обнаружить не удалось.
– У меня такое ощущение, что преступник шел именно к этой иконе. Причем, он четко знал, где она висит. Взломал замок, сразу прошел к конкретной иконе, выломал ее и ушел. Больше по храму даже не ходил, – высказал предположение следователь.
Священник и староста удрученно молчали. А Петр продолжал выяснять детали.
– У вас это единственная старинная икона? Мне полицейский унтер-офицер сказал, что она семнадцатого века. Так?
– Да, эта действительно старинная икона, мы ее очень почитали, – кивнул головой священник.
– Других икон этого времени нет?
– Да вроде нет.
– Значит, все же преступник неслучайно похитил именно эту икону. Он шел именно за ней. Теперь важный вопрос: откуда он знал, что здесь в селе Кириловка есть такая древняя и интересная икона Николая Чудотворца?
– Да как это теперь узнаешь? – развел руками староста.
– Можно предположить два варианта. Первый. Преступник кто-то из местных. Кто-то из ваших сельских взял и украл икону.
– Да не может быть такого, – священник аж чуть не задохнулся от такого предположения. – У нас народ весь благочестивый, все к этой иконе с почтением относятся, – возмутился священник.
– Вы уверены?
– Уверен.
– Есть второй вариант. Преступник сам ездит по селам и деревням и высматривает подходящую добычу. Но тогда он должен был появиться в храме. Не могли бы вспомнить, на службе вчера или несколько дней назад не было посторонних? Вы ведь, наверное, всех прихожан знаете. Церковь у вас старообрядческая, круг прихожан достаточно замкнутый.
– Да, посторонние бывают редко, мы никого не гоним, но в основном на службе все свои.
– То есть нового человека вы бы заметили?
– Я, конечно, не разглядываю абсолютно каждого прихожанина, но обычно нового человека я замечаю.
– Тогда напрягите память и вспомните, были ли эти посторонние?
Священник долго думал, а потом решительно мотнул головой:
– Да нет, не примечал я незнакомых, все свои были.
– Точно?
– Точно.
– Тогда все же нельзя исключать версию о причастности к преступлению кого-то из местных.
– Да быть такого не может, – опять всплеснул руками староста.
– Возможен наводчик поневоле. Например, ездил в город покупки на ярмарке делать и разговорился с кем-то. Рассказал про икону древнюю. Вот этот кто-то на заметку и взял. Словом, есть о чем ваших сельчан поспрашивать. А сейчас надо осмотреть территорию вокруг храма.