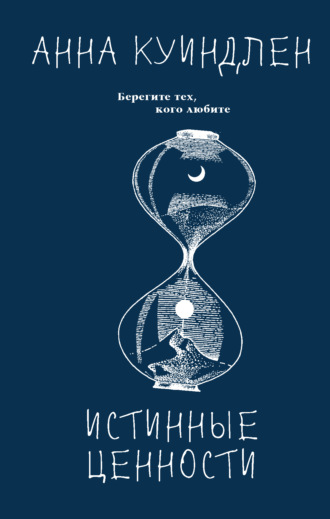
Анна Куиндлен
Истинные ценности
Я рассказала об этом отцу. Мы оба знали, что означала эта ремарка. Мы сидели и ели вегетарианскую лазанью и салат «Цезарь», но он и ухом не повел, когда я все это выкладывала. Мама отвернулась к плите и чем-то занялась, а Джефф и Брайан сидели разинув рты. Отец же сказал с усмешкой:
– Он и писатель никудышный, и преподаватель. Ему понравились твои рассказы?
Я не ответила, и отец хмыкнул, поняв, что это означает. Помню, как мысленно я ответила тому профессору, высокомерно отвергая предложение «еще по пиву»: «Он мой отец. А вы дерьмо». Я представила себе, как ухожу, оставив рукопись на столе, но вместо этого втянула голову в плечи и, ничего не сказав, схватила свои рассказы и пошла домой. На улице лило как из ведра, и конверт из плотной желтой бумаги превратился в кашу, когда я добралась до своей комнаты в общежитии. На постели меня дожидался Джо в одних трусах и с биографией Джефферсона[15] в руках.
– Ты с ним переспала? – спросил он с ходу.
– Джонатан, ты свинья, – сказала я, швырнув размокшую рукопись в мусорную корзину.
– Да, но я твоя свинья, – возразил он, поманив меня пальцем.
И опять попалась.
Больницы чем-то смахивают на пляж. Хлынет новая волна, и следы твоих страданий и боли, болезни и выздоровления уничтожены и забыты; простыни сменили. Но каким бы мимолетным ни был сегодняшний визит в медицинский центр Монтгомери, это будет своего рода возвращением на круги своя, хотя одним из скромных желаний моей жизни было никогда впредь не видеть это место, неуклюжее строение из красного кирпича, его многоуровневую парковку и автоматические раздвижные двери.
На целых четыре месяца это здание стало нашим отдельным миром, где мама показывалась врачам и проходила процедуру, которую предпочитала называть лечением. Полы были застланы серым линолеумом в белую и черную крапинку, столь навязчиво ординарным, что это было даже оскорбительно. Вызовы по внутренней связи, шкафчики со стеклянными дверцами, набитые всякими блестящими предметами, сделались фоном нашей с мамой жизни.
В одном из коридоров, что отходили от вестибюля, мы и дожидались в пластиковых креслах, пока нас не пригласят в небольшой отсек, где надежда на спасение – прежде чем мама начала искать спасение в морфии – медленно капала ей в вены, чтобы попытаться убить обезумевшие клетки. Врачи настаивали, чтобы мама легла в больницу для прохождения курса, однако она отказалась, поэтому я возила ее туда раз в три недели, и мы проводили целый день в окружении резких запахов и гама амбулаторного отделения.
Химиотерапевтический отсек был декорирован очень миленько, с обоями в цветочек и креслом с опускающейся спинкой, обтянутым ярко-голубым кожзаменителем. Даже лекарственные препараты казались декоративными элементами: хрустальные мешочки, отливающие серебром в свете потолочных ламп в комнате без окон. И почти весь день уходил на то, чтобы исчерпать их до дна, капля за каплей, каждая из которых была молитвой о спасении.
Да, я молилась в этом отсеке, как и в коридоре или в кафетерии, куда приходила не только потому, что хотела очередную чашку кофе, но и затем, чтобы стряхнуть ощущение того, что в той крошечной комнате без окон меня погребли заживо. Я молилась про себя, не облекая молитву в форму, выхватывая одно слово из сумятицы чувств: «Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста!» Мама выгоняла меня дожидаться в коридоре, пока ее осматривала врач. У доктора Кон был довольно сердитый вид: такое энергичное и красивое лицо можно видеть на старинных монетах. Она носила простые облегающие платья синевато-серых или мышиных оттенков, иногда с простым рисунком; могло показаться, что платья эти были куплены лишь потому, что на них было удобно надевать белый халат. Помню, каким твердым, каким решительным было ее рукопожатие, как и все в ней. Она показалась мне весьма холодной, но потом, получше узнав онкологов, я поняла, что это из осторожности, поскольку все они так часто видят смерть.
И уж, конечно, доктор Кон была очень добра к моей маме: всегда спускалась вниз, в ходе процедуры брала за руку и спокойно выспрашивала про симптомы, пока химические агенты делали капля за каплей свою методичную работу.
– В этой штуке есть платина, Эллен, – с улыбкой сказала мама во время второго курса, – как в моем обручальном кольце. Вот почему у меня металлический привкус во рту.
– А это вообще помогает? – спросила я.
– Пока нельзя сказать, насколько хорошо, – призналась доктор Кон. – Надо сделать несколько анализов. Скажите, как Кейт себя чувствовала после первого сеанса?
– Ее рвало весь день, что бы ни съела, рвало до последнего кусочка, а когда желудок был пуст, рвало насухую. И еще остается много волос на подушке.
Доктор Кон приподняла уголки губ – вроде как улыбнулась.
– Эти побочные эффекты вполне ожидаемы, но я бы хотела все-таки услышать саму Кейт.
– Все неплохо, если бы не этот противный металлический вкус. И я худею, хотя никогда не думала, что это может стать для меня проблемой. И еще с волосами прямо беда.
Она погладила свои изрядно поредевшие рыжие локоны, а я возмутилась:
– Что ты, мама! В прошлый раз тебя вырвало, наверное, раз десять.
– Есть боли? – спросила доктор Кон.
– Ничего такого, даже говорить не стоит, – ответила мама.
– Ты уверена? – возразила я.
– Эллен! – повысила голос мама.
Доктор Кон вышла, и я выскочила за ней в коридор. Шаг у нее был широкий, и мне пришлось едва ли не бежать, чтобы ее нагнать.
– Доктор, я в полной растерянности. Толком не знаю, что у нее нашли при обследовании, не знаю, каков прогноз и чего ждать. Не могли бы вы уделить мне десять-пятнадцать минут вашего времени?
– Идемте. – Она взяла меня за локоть и повела назад.
– Только наедине, – попросила я.
– Нет, этого не будет, – ровным голосом сказала она. – Это ваша мама, и она заслуживает того, чтобы знать правду.
Мы вошли в химиотерапевтическое отделение, и мама, открыв глаза, улыбнулась:
– Кейт, – сказала доктор Кон, – у Эллен появились вопросы относительно вашего состояния. Если хотите, я отвечу на них прямо сейчас или приму вас обеих наверху чуть позже.
– Что за вопросы? – встревожилась мама, и я не сразу смогла ответить.
– Какой орган поразил рак, прогрессирует ли он, и что будет дальше.
– Сканирование показало, что это печень, – заученно, словно школьница, которую вызвали к доске, начала говорить мама, глядя в глаза доктора Кон, не в мои. – Может быть, и яичники тоже, хотя на снимках ничего не было. Что-то не так было с анализом крови, вот они и заподозрили, что могут быть затронуты также яичники. Доктор из Нью-Йорка, который смотрел анализы и снимки на консультации, сказал, что такое бывает исключительно редко, но полностью исключить нельзя. Пока что все правильно?
– Именно так, – кивнула доктор Кон.
– Что еще, Эллен? – обратилась ко мне мама.
– Просто я чувствую, что должна знать.
– Что именно?
Я знала, что сказала бы, останься мы в коридоре с доктором с глазу на глаз. Я бы спросила: как долго? А еще: насколько плохо? Мне бы хотелось знать в подробностях, как далеко ушла она по пути разрушения, по пути смерти, но в присутствии мамы я не осмелилась. Подозреваю, она уже знала ответ, но предпочитала держать про себя.
– Достаточно и этого, – сказала я. – Пойду в кафетерий, выпью кофе.
Доктор Кон вышла следом за мной.
– И все же я хочу знать, – сказала я.
– Как и ваша мама. Почему бы вам не задать некоторые вопросы ей?
Я внезапно остановилась, щелкнув пальцами.
– Я тут вот о чем подумала… Мамины родители держали химчистку. Не могло быть так, что болезнь вызвана химикатами?
– То же самое спрашивал ваш отец, – сказала доктор Кон.
– И?..
– И миссис Гулден сказала: «Какая теперь разница?»
За эти недели мама сорвалась только однажды. Мы проходили через вестибюль как раз в тот момент, когда в раздвижных дверях с кресла-каталки поднималась женщина, чтобы принять из рук медсестры спящего новорожденного и перенести в ожидавшую их машину. Младенческая ручка высунулась из пеленок, как розовая звездочка, и глядя, как молодая мать с новорожденным покидает клинику, мама вздохнула, прижимая к глазам платочек.
Через несколько недель мы знали про сестер все: имена, семейное положение, возраст детей. Все улыбались ей, обращались к ней по имени: «Добрый день, Кейт, как дела? Одну минуточку, и мы вас пригласим». Разумеется, в маленьком городке все нас знали. У одной из них сын учился в школе с моим братом Джеффом, у другой дочь была студенткой колледжа Лангхорн, даже получала стипендию и считала моего отца одним из лучших преподавателей, хотя он редко ставил высший балл.
– Ваша дочь абсолютно права, – согласилась с ней мама.
– А вы, помнится, победили в конкурсе сочинений, – сказала мне медсестра по имени Джина, втыкая иглу в катетер, который врачи имплантировали маме чуть выше сердца, чтобы медсестрам не надо было каждый раз искать вену. – Портативный катетер станет нашим спасением, потом, когда понадобится морфий.
– Морфий? – удивилась я.
– Ну, может, и не понадобится, – перевела она взгляд на поднос с инструментами.
Обычно мы с мамой были вдвоем, но однажды утром с нами оказалась пожилая женщина, и за час мы узнали все подробности замены тазобедренного сустава и периода восстановления. Оказывается, вся эта морока здорово омрачает жизнь. Потом, спохватившись, женщина спросила маму, зачем она здесь.
– Мне нужен рентгеновский снимок грудной клетки, чтобы застраховать жизнь.
Потом, после того как процедура закончилась, мама пояснила:
– Скажи я ей правду, навеки бы к нам прилипла.
Эта женщина наверняка была не из Лангхорна, иначе бы знала про мамину болезнь, все в городе знали. Куда бы она ни пошла: в магазин Фелпса или в супермаркет, – все слишком бодро ей улыбались и лезли с разговорами: – Как мило, что Эллен вернулась домой!»
Никто не спрашивал зачем, потому что все и так знали. Господи, думала я, вот был бы скандал, если бы кто-нибудь набрался смелости и спросил: «Как там ваш рак?» – но несмотря на рубцы и шляпы, которые мама стала носить, чтобы скрыть потерю своих чудесных вьющихся волос, несмотря на ее худобу, я ни разу не услышала слово «рак» – ни разу, пока дело не зашло слишком далеко.
А произнесла это слово миссис Форбург, моя преподавательница английского в старших классах. Однажды, вскоре после моего возвращения домой, я получила по почте адресованное мне послание, написанное ее угловатым почерком, где буквы тянулись вверх: коротко и прямо.
«Дорогая Эллен, я часто и с любовью вспоминаю тебя: не из-за болезни твоей мамы, но из-за ответственности, которая легла на твои плечи. Не зайдешь ли как-нибудь на обед? Моя мама умерла от рака, когда я была совсем маленькой. Возможно, мы сумеем помочь друг другу.
С любовью, Бренда Форбург».
Я сунула записку под пресс-папье на своем письменном столе, время от времени доставала, чтобы позвонить, но мне все казалось, что еще не время, потому что подозревала: несмотря на химиотерапию и последующие дни, когда я слышала, как мама тяжело вздыхает в ванной, несмотря на анализы крови и осмотры, – все эти месяцы она жила прекрасной и полной жизнью. У нее с дочерью наконец установились такие отношения, о которых она всегда мечтала, и в них нашлось место и для балдахина, который она соорудила для кровати в спальне на чердаке, и для альбомов, куда наклеивала визитные карточки и вырезанные из литературных журналов стихотворения, и часам, проведенным на вечеринках по случаю дней рождения, и сбору пожертвований и посылок гуманитарной помощи.
Мы ходили в кино, выбирались на целый день на пляж, несколько раз обедали в маленьких ресторанчиках, чьи рекламные объявления мама вырезала из газет и журналов. Она очень быстро уставала: пару раз я даже пугалась, когда слышала, как она дышит, – однако дома сидеть или запирать также в четырех стенах и меня отказывалась.
– И как проходит твой день? – спросила Жюль, позвонив как-то вечером, чтобы меня повеселить рассказом о парне, выпускнике Йельского университета, который занял мое место в журнале, но оказался редкостным тупицей.
– Исполняю роль подружки, – сказала я.
– Которой плачутся на мужское вероломство?
– С которой ходят по магазинам.
Сегодня я думаю, что и для меня это были чудесные месяцы: возможность оценить то, что всю жизнь я принимала как само собой разумеющееся. Но правда и то, что, пока это происходило, я лишь терпела, а когда начинала думать, испытывала лишь ненависть. Поначалу мне казалось, что это из-за того, что я столько упускаю, что жизнь проходит мимо на расстоянии часа, в городе, где через неделю ты уже всего-навсего вчерашняя подружка.
В чем-то было труднее и в то же время проще. Когда мама руководила мной в выборе нужного сорта воска, чтобы натереть пузатый комод вишневого дерева, или посылала купить сыру или ягод, мне казалось, что я погребена под спудом жизни, которая казалась столь мелочной, что ее не стоило даже презирать; пережитки старины, будто читаешь статью в «Нэшнл джиогрэфик» о традициях племени, затерянного на краю света.
Еще это был мир без мужчин. Братья были далеко, а отец чаще отсутствовал, предоставляя маме самой бороться с собственным угасанием, точно так же, как раньше она занималась домом, детьми – в жизни, которую посвятила ему.
– Я знаю, о чем ты, – сказала я Жюль. – Да, когда-нибудь я смогу уйти от такой жизни, но что, если снова к ней же и приду? Что, если я выйду за Джо и выяснится, что он хочет видеть во мне матрону, которая вяжет кофточки его детям?
– Первой женой Джо станет женщина, которая будет устраивать благотворительные обеды и нанимать правильную прислугу, а второй – статусная красотка, какой-нибудь дизайнер ювелирных украшений – или что-то в этом роде, – которая будет носить кожаные брюки.
– Ты сводишь три жизни к набору штампов, – сказала я. – И одна из этих жизней моя.
– Эти штампы соответствуют действительности, Эллен. И я ставлю на то, что тебя тут вообще нет. Знаю, ты не любишь, чтобы я клеветала на Джо, однако часто ли он тебе звонит? Много ли пишет? Когда намерен приехать? Ты нужна матери, а он нужен тебе, но его и след простыл.
Жюль была права: с тех пор как я вернулась домой, Джо позвонил лишь дважды, – но я не особо беспокоилась. Та Эллен, которую знал Джо, была совсем другой: сияющей ореолом успеха, – но та, что сидела в больничном коридоре с Кейт Гулден, была неудачницей. После стольких блистательных побед ее нынешние старания были обречены на провал.
Однажды днем в начале октября мы отправились в большой торговый центр на окраине города и в одном из магазинов встретили женщину, которая некогда была членом кружка, украшавшего к праздникам городские елки. Эти дамочки называли себя «Минни», в честь бездетной миссис Лангхорн.
– О-о, Эллен, эта Шейла Феннер. Помнишь ее? Она была Минни, когда ты заканчивала школу.
– Знаешь, а мне так не хватает нашего кружка! – воскликнула миссис Феннер. – Впрочем, все равно ни на что нет времени: то внуки, то обед для Билла, хоть и готовлю в микроволновке. Но с тобой-то что, Кейт? Ты похожа на привидение. Когда ты успела так похудеть? Кожа да кости.
– А, это, – пожала плечами мама. – Да вот все бегаю, стараюсь не отставать от Эллен.
– Диета и спорт? – лукаво поинтересовалась миссис Феннер.
Мама быстро на меня взглянула, поскольку знала, что бы я сказала, если бы мне предоставили такую возможность: «Нет, миссис Феннер, это химиотерапия. Восхитительный коктейль на завтрак, еще один на обед, внутривенное в грудь к чаю. Оглянуться не успеешь, как в тебе всего девяносто фунтов».
– Нет-нет, – замахала руками мама. – Терпеть не могу низкокалорийные блюда – такая гадость.
– Что ж, рада была повидаться, – сказала миссис Феннер. – Ах да, Эллен. Джилл видела твое имя в журнале. Должно быть, это ужасно интересно. Муж Джилл в Корнелле, на медицинском факультете. Хоть бы уж скорее закончил, чтобы они могли уехать из города. Ужасно беспокоюсь. А ты где живешь?
– Гринвич-Виллидж, – ответила мама.
– Чудесно. А как там наши Минни? – чуть снисходительно, как мы говорим о пройденном этапе нашей жизни, который больше не имеет значения, поинтересовалась миссис Феннер.
– Я собираю их на обед на следующей неделе, – сказала мама.
Никогда не забуду я тот обед, даже годы спустя. Во время дежурств в больнице, когда всклокоченные волосы на голове вставали дыбом, а лицо обвисало после проведенной в палате ночи криков, страдания и мольбы дать болеутоляющее, я буду мерить степень своей усталости по такой сравнительной шкале: вся в поту и выпита до дна, как в конце того дня, когда готовила для этих женщин. В тот день я узнала, сколько труда нужно положить на то, чтобы приготовить обед на десятерых, или, по крайней мере, приготовить так, как это делала мама.
Накануне она отправила меня за продуктами, а когда я вернулась, разложила на кухонном столе то, что было нужно: цыплят, цуккини, сливки, морковь и бог знает что еще. Из подвала, где загружала сушку, я слышала, как она гремит посудой, извлекая кастрюли и сковородки из нижних шкафов – литавры моего детства. Я проводила зимние вечера за письменным столом, слушала весь этот трамтарарам и знала, что маховик моего мира крутится все также ровно да гладко.
– Я все могу сделать сама, – сказала я, поднявшись в кухню и застав маму стоявшей на четвереньках, наполовину в шкафу, где она искала крышку, которая оказалась у задней стенки.
Потом, выбравшись наружу, она с торжествующим видом продемонстрировала ее мне и заявила, хватаясь за край столешницы, чтобы встать на ноги, и немного задыхаясь:
– Мне давным-давно следовало переоборудовать кухню.
– Давай я все сделаю, – опять предложила я.
– Ты сможешь сделать курицу по-французски и суп из цуккини? – спросила мама, водрузив кастрюли на плиту, и стала наполнять их водой из чайника. – Я могла бы переоборудовать ее сто лет назад, ну или хотя бы сменить глубокую раковину, чтобы можно было поставить туда кастрюлю.
Потом она обернулась, уперев руки на бока, и пристально воззрилась на меня.
Это был тяжелый взгляд, оценивающий: какое-то мгновение она осмотрела меня с головы до пят, – потом вытерла руки кухонным полотенцем и села на стул возле дубового стола. На ней был большой синий фартук, какие носят мясники, и, развязав тесемки, она стянула его через голову и подала мне.
– Передаю эстафету. Положи цыпленка в кастрюлю вместе с морковкой, туда же несколько зернышек перца, стебель сельдерея и пучок петрушки, залей водой и поставь чайник: нельзя готовить без чая.
Чтобы приготовить этот обед, мне понадобился целый день. Мама давала указания сидя. Засунув цуккини в блендер и включив, я взвизгнула и отскочила назад; этот звук – «чик-чик-чик» – наводил на мысль, что прибор того и гляди отхватит мои пальцы. Потом по ошибке я вылила чашку горячего чая в курицу, но мама только рассмеялась:
– Хорошо хоть без сахара! Ничего страшного. Подумают, что это новый экзотический рецепт, если вообще заметят.
Помню, в какой-то момент я бросилась на стул напротив мамы, обливаясь потом от жара, и раздраженно спросила:
– Если позволишь, спрошу: нет ли способа попроще? Разве не проще купить куриный суп в консервных банках? Или уже нарезанный цуккини?
– Не думаю, что в магазинах можно найти нарезанный цуккини, хотя куриный суп в банке действительно можно купить, – спокойно сказала мама. – Однако мне всегда нравилось готовить самой: так гораздо вкуснее, к тому же чувствуешь себя кому-то нужной.
– Господи, мама! – воскликнула я. – Да ты и так самый нужный человек на свете.
– Даже если это так, то лишь из-за всего, что я делала.
– Но как ты справлялась, когда мы были маленькими? Откуда брала время? Разве мы не путались у тебя под ногами?
– Не особенно. – Она отпила глоток чаю. – Вы с Джеффом обычно болтались где-то во дворе, а Брайан сидел здесь, на полу, и готовил вместе со мной. Я давала ему муку и воду, и он часами месил тесто и что-нибудь распевал.
– Я помню.
– Единственная беда заключалась в том, что ты так и норовила куда-нибудь удрать. Особенно пока мы жили в Принстоне. Я готовила жаркое или еще что-нибудь, и вдруг подъезжала патрульная машина. Через некоторое время я перезнакомилась со всеми местными полицейскими. Помнишь?
– Не очень. Зато я помню, как ты рассказывала об этом.
– Один из них сказал мне: «Ну, миссис Гулден, эта маленькая девочка, похоже, задумала побег». – Мама обернулась и посмотрела на меня сияющими глазами, а потом грустно улыбнулась. – А Брайан тихо сидел, перемазавшись с головы до ног.
На плите что-то забулькало, мама хотела было встать, но я ее опередила, вскочив на ноги.
– Ты налила слишком много воды.
– Клуб любителей книги нравился мне гораздо больше, – буркнула я.
– И мне тоже, – согласилась со мной мама.
– А сейчас у нас какой-то книжно-кулинарный клуб девочек Гулден, – сказала я, и мама рассмеялась.
Она казалась такой счастливой, но я заметила, что рука, в которой она держала чашку с чаем, слегка дрожит, а ее тяжелое дыхание слышно в противоположном углу кухни. И очень часто, скорее машинально, мама растирала поясницу, там болело.
Хороший вышел обед, это я тоже помню. Кто-то заметил, что у супа необычный вкус, и мы с мамой чуть не расхохотались, но мама сумела сохранить серьезность и заметила:
– Это особый рецепт Эллен.
На этом заседании был разработан план украшения рождественских елок, на что ушло примерно столько же времени, сколько на мой суп, чтобы прокипеть и хорошенько настояться. Каждый год Минни наряжали двенадцать голубых елей, которые росли группой в конце Мейн-стрит, для чего эти дамы изготавливали десятки шариков, фигурок и гирлянд, а потом карабкались по лестницам, как строительная бригада, и превращали деревья в центр притяжения. Мэр зажигал на них огоньки, а хор распевал перед ними рождественские гимны.
Церемония зажжения этих елок стала традицией Лангхорна и воспринималась со всей серьезностью. Если какой-то житель Лангхорна не присутствовал на церемонии, все думали, что он слишком болен, чтобы стоять на ногах. Я чувствовала, что Минни как раз и боятся, что это произойдет с моей мамой, уже сейчас, за два месяца до Рождества.
– Итак, какие выберем цвета? – сказала Линда Бест, супруга окружного прокурора, навалившись внушительной грудью на наш обеденный стол красного дерева.
– Полагаю, в этом году мы возьмем красный и золотой, – сказала Изабель Дуайн, поедая цыпленка на европейский манер: вилкой зубцами вниз придерживая кусочек и отрезая понемногу от него.
– О нет, опять! – воскликнула миссис Байерс. – Разве в позапрошлом году у нас было не красное с золотом?
– Вечно ты так, Кэролайн, – буркнула миссис Дуайн. – Все валишь в кучу. Красного с золотом не было уже давно.
– О-о, Кейт, – сказала миссис Байерс, обращаясь к моей матери, сидевшей во главе стола. – Разве это было не два года назад? Помнишь, ты мастерила ангелов в красных платьях и с золотыми трубами? Это было в позапрошлом году.
– Изабель права, – поддержала миссис Дуайн мама, погладив Кэролайн Байерс по плечу, чтобы смягчить удар. – В прошлом голу синий с серебром; в позапрошлом – красный и белый. Красного с золотом не было с того года, как Эллен уехала в Гарвард. Я помню, потому что делала ангелов на первый День благодарения, когда она была дома.
– Сколько лет назад, Эллен? – уточнила миссис Бест.
– Пять. Или шесть.
– Значит, красный с золотом, – заключила миссис Дуайн и удовлетворенно кивнула, давая понять, что с самого начала знала, чем кончится дело.
Миссис Байерс насупилась и со вздохом признала:
– Ну что ж, на том и порешим.
Я нутром почувствовала, даже с другого конца стола, как успокоилась мама. Каждый раз, принимаясь за изготовление украшений, мама волновалась, вспоминая год, когда одна из Минни, теперь отсутствующая по причине переезда во Флориду или в какое-то другое место, столь же далекое от нас как в духовном, так и в физическом смысле, убедила остальных в цветовой гамме синего с зеленым.
Уже много лет у мамы была своя ель, которую она украшала сама, и я знала, что она не откажется от этой работы даже в пользу главного руководителя всего проекта. Я вспомнила доктора Кон и ее семисвечник: вне всякого сомнения, она его получит, изготовленный мамой по лекалу из какого-нибудь журнала. Возможно, мама соорудит какой-нибудь другой сувенир: вышивку или подушечку для булавок. Воображение сразу нарисовало картину, как доктор Кон рассказывает посетителям своего кабинета, что «эту вещицу» некогда сделала одна из ее пациенток.
– А Джордж возьмет себе каникулы? – спросила миссис Бест после кофе и десерта, когда все собрались уходить.
– Джордж? – переспросила мама. – У него же прибавилось работы в этом факультетском комитете, да еще статья. Вы же его знаете: трудится как пчелка.
Миссис Бест поджала тонкие, накрашенные коралловой помадой губы.
– Ну да, как и у Эда, но в сложившихся обстоятельствах…
– Линда, мы опоздаем на заседание библиотечного комитета, – перебила ее миссис Дуайн, – чего никак нельзя допустить. – Она на прощание обняла маму, и я, заметив, как та поморщилась, испугалась: ей больно? – Чудесный обед, Кейт. Чудесный обед, Эллен.
Все, наконец, разошлись, и я вздохнула с облегчением.
– Элли, я сама уберу, – сказала мама, но десятью минутами позже я нашла ее в гостиной спящей.
Убирая со стола и моя посуду, я вдруг поняла, что ненавижу Линду Бест. Обед получился отличный, но утомил маму.
Листья пожелтели и осыпались: обычное дело для всех, кроме детей, что шуршали ими по дороге до автобусной остановки. Мы готовили подарки на Хеллоуин: монетка в двадцать пять центов, мягкая карамель и пластмассовая ведьма верхом на метле, завернутые в оранжевые салфетки и перевязанные черными ленточками. Я научилась готовить говядину по-бургундски, хоть она у меня чуть не сгорела, и складывать салфетку в виде лебедя. Все это занудство требовало умения, как разбор сложных предложений.
– Это на тот маловероятный случай, что мне придется устраивать великосветские приемы, – объяснила я столь необычные увлечения маме.
– Не забудь про суп из цуккини, – заметила мама.
Пока занимались подарками, она рассказывала про школу в Нью-Йорке – тогда средние школы там были еще вполне приличными, – про то, как каталась в парке Риверсайд на велосипеде, который отец купил с рук, о том, как ей запретили учиться в Нью-Йоркском колледже, – единственном учебном заведении, который могла позволить себе дочь хозяина химчистки, – сначала потому, что отец хотел уберечь ее от евреев, а потом и от черных. Она перебирала прошлые жизни, словно хотела рассмотреть каждую, потом аккуратно сложить и, завернув в папиросную бумагу, убрать на дно благоухающего кедром ящика комода.
Мама рассказала и о том, как ее старший брат Стиви уехал на автобусе в Форт-Беннинг, чтобы вступить в армию, и как она завидовала ему: еще бы, увлекательное путешествие на Юг, настоящая жизнь вместо душной квартиры с крошечной кухней, на которой царила безупречная чистота, – а потом и письмам в тонких конвертах с экзотическими марками. Еще она мне рассказала, как в 1965-м его в конце концов привезли из Вьетнама домой.
– Тогда моя мама сказала директору похоронного бюро: «Откройте гроб». Парадная форма Стива была безупречна: похоже, он надевал ее всего раз или два, – но лицо распухло так, что его было трудно узнать. Они его напудрили, но все равно не смогли скрыть кожу странного синего цвета, как синяк. Мама взглянула на него, прошептала: «Стивен», – и коснулась руки.
Это был первый раз за весь месяц, когда мама плакала, а второй случился перед телевизором. По вечерам мы в телепрограмме карандашом отмечали старые фильмы, а потом смотрели их, сидя за столом, на котором стояли вазы с шариками из полистирола, булавками, лентами и блестками, чтобы можно было делать рождественские украшения, и плакали, плакали, плакали, сморкаясь в платки и складывая их потом в кучу готовых украшений.
Мы посмотрели «Мост Ватерлоо», где Вивьен Ли совершила смертельный прыжок, не выдержав позора; «Победить темноту» с Бетт Дэвис в главной роли, «Вперед, путешественник», а «Стеллу Даллас» аж трижды.
А иногда мы плакали из-за трагедий, о которых шла речь в разных шоу: младенцы – желтые, как молодые тыквы, – нуждались в пересадке печени; девушки, которые уезжали из дому, чтобы танцевать на Бродвее, превращались в конце жизни в запойных пьянчужек; снятые на скрытую камеру бывшие дети-звезды выуживали объедки из мусорных баков. Массовые убийства, землетрясения, наводнения, пожары – все это отвлекало нас от настоящей трагедии, по крайней мере на время.
Мы закончили читать «Гордость и предубеждение» и взялись за «Большие надежды». Мама считала, что восхищение Пипа Эстеллой выглядит неубедительно.
– Это слабое звено почти каждой книги, которую я читала, – сказала она однажды, лежа на диване с книгой в руках, и ее хриплое дыхание то и дело перемежалось лающим кашлем. – Автор изображает умного, глубокого и доброго героя и заставляет влюбиться в законченного негодяя или негодяйку.
– Но в действительности так и происходит: гораздо чаще да, чем нет, – сужу по личному опыту.
– Ну, тебе виднее, – сказала мама и поспешила добавить. – Прости.
– Извинения приняты.
– Поверь, Элли, я знаю, что такое любовная химия. Отлично знаю. Тоже по опыту. – Лицо мамы начало покрываться густым розовым румянцем, отчего карие глаза сделались еще темнее, однако она, казалось, была решительно настроена продолжать. – Это могущественная сила!
– Мама, – сказала я, – похоже, сейчас у нас состоится та маленькая беседа про секс, которую мы как-то пропустили, когда мне было тринадцать?
– Извини, но эта «маленькая беседа про секс», как ты выражаешься, у нас как раз была! Господи, да я готовилась к ней две недели. А состоялась она, когда тебе было одиннадцать, когда я в первый раз обратила внимание, что у тебя… – Она многозначительно ткнула в мою сторону указательными пальцами. – Выпирает из верхней части купальника.
Я задумалась. Смутно вспоминалось что-то про тампоны и оплодотворение – смутно и мутно, как вода в бассейне, где мы готовились к командным соревнованиям, от которой несло хлором. А через несколько лет я узнала этот запах в машине Джо: оказалось, что примерно так же воняет сперма.
– Только не говори, будто не помнишь, – сказала мама.
– Вроде помню.
– У меня была даже брошюрка про женские половые органы, а потом ты захотела узнать про оплодотворение. Как насчет близнецов, спросила ты, и я объяснила, что в таких случаях бывает две яйцеклетки. А тройня? Кажется, ты добралась таким образом до восьми. В конце концов я рассказала, как яйцеклетка и семя оказываются в одном месте и в одно время, и ты тут же спросила: «И насколько это приятно?»


