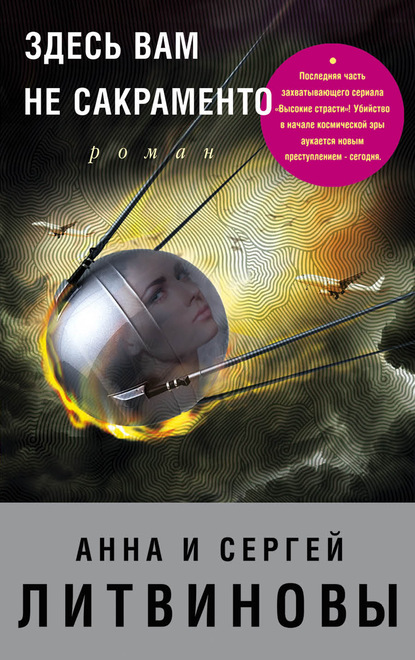Полная версия:
Анна и Сергей Литвиновы Предпоследний герой
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Анна и Сергей Литвиновы
Предпоследний герой
Роман основан на подлинных событиях.
Однако авторы считают своим долгом предупредить: данный роман является художественным произведением. Поэтому любое совпадение или сходство с реальностью любых встречающихся в нем субъектов – образов героев, обстоятельств действия, собственных имен, географических названий или наименований – является целиком и полностью случайным.
Авторы за такие совпадения или сходство никакой ответственности не несут.
Пролог
Весна 1990 года Москва, СССР
Жить мне осталось недолго.
Может, два-три месяца. Не дольше.
Какая жалость. Как жалко себя! И как не хочется умирать. Всего-то сорок три года.
Считай, и не пожила. И жизнь, мне казалось, только-только начинается…
И еще очень обидно: все в мире останется по-прежнему – только без меня.
И дворник на Большой Бронной будет так же, как сегодня, шуршать по утрам метлой. А потом, ближе к осени, набухнут плоды рябины на любимом дереве на даче. И пожелтеют, а потом опадут листья, и ляжет снег… Только все это будет – без меня, без меня, без меня…
Боже, как не хочется уходить!..
Но приговор подписан. Врачи «Кремлевки» не ошибаются. Или ошибаются – но чрезвычайно редко. К тому же сам академик Блохин подтвердил диагноз. И в ответ на мой прямой вопрос отвел глаза и пробормотал, что, конечно, возможны чудеса и он лично всегда предпочитает верить в счастливый исход – даже если он кажется невероятным, но…
«Мне надо привести в порядок дела, – настойчиво спросила я его тогда. – Так сколько мне осталось? Только не надо врать!»
И он подтвердил. Он тоже назвал этот срок.
Два-три месяца.
Шестьдесят дней. Или девяносто.
Только и осталось времени: составить завещание. Отдать распоряжения по квартире, даче, машине… Решить, кому достанутся драгоценности, книги, картины…
И еще – хорошенько погулять напоследок. Пройти по всем любимым ресторанам. И пить только любимые напитки. И есть только любимые блюда. И еще хорошо бы снять мальчика: молодого, красивого, горячего – и провести с ним в постели двое, трое суток… Неделю… Обласкать, обцеловать, одарить подарками… Напоследок… Все – напоследок…
Единственное приятное – и в сем они, эти гребаные врачи, эти коновалы, были единодушны: больно мне не будет. До самого конца – не будет. Просто я стану все сильнее уставать и с каждым днем все больше спать… А потом однажды, в один прекрасный день – наверное, это будет уже осенью, глубокой осенью, – я засну и просто не проснусь…
И еще… Осталось еще одно… То, что мне обязательно надо сделать… То, от чего непременно надо избавиться… Мне надо рассказать все. Наконец-то рассказать все…
Избавиться от страшных тайн, мучивших меня всю жизнь. Тех тайн, о которых я даже не смела никому заикнуться. Тайн, о которых я старалась забыть, – но забыть не могла.
Рассказать… Поведать… Покаяться…
Но кому?
Не партсобрание же собирать. Хорошенькая будет повесточка: «Персональное дело Капитоновой Ирины Егоровны. И.Е. Капитонова расскажет сегодня собранию о своих смертных грехах…»
И в церковь я тоже не пойду. Я некрещеная.
Мне, видите ли, повезло родиться на излете культа личности. И вероятность того, что меня все-таки окрестили, стремится к нулю. Да и не люблю я церковь. И не понимаю в ней ничего. Все это золото, рясы… Камилавки, аналои какие-то… Не понимаю, почему я должна целовать руку жирному бородатому попу!.. Сроду я мужчинам не целовала руки. Даже в самый интимный момент…
Но боже мой, как хочется все рассказать!.. Неужели моя тайна так и уйдет со мной в могилу?.. (Надо же: я до сих пор способна на иронию. На самоиронию. На сарказм…)
Но, если серьезно, как же хочется раскрыть наконец свою тайну. Избавиться от нее. Поведать о ней хоть кому-то. Облегчить душу…
Даже не об одной тайне рассказать – о целой цепочке тайн: одна перетекает в другую и цепляется за третью… Неужели никто не узнает о них? И не оправдает меня – хотя бы после смерти?..
И не скажет: да, она была прохиндейкой и сволочью, но она много и тяжело страдала и много любила и потому заслуживает если не оправдания, то снисхождения?!
Боже мой, как же страшно, неприятно и тяжело уносить с собой – туда, в загробную жизнь (да есть ли она? А вдруг все же есть?), все накопившиеся в душе тайные тягости!..
Как хочется кому-то обо всем рассказать!..
Двумя месяцами позднее. Лето 1990 года. Где-то в Европе.
Красный «Фольксваген Гольф» второй серии с восточногерманскими номерами валялся под насыпью вверх колесами.
Одна из секций дорожной ограды была начисто сметена. На асфальте отпечатался черный змеистый след – от безуспешно тормозивших шин. С шоссе было видно: в кабине рухнувшей под откос машины есть один человек – водитель. Он не шевелился – видимо, потерял сознание.
Из низин медленно, клоками поднимался туман.
Тридцатидвухлетний архитектор Блажей Паник, ехавший в Карловы Вары, растерянно вышел из своей «Шкоды». Странный ступор охватил его при виде потерпевшей аварию машины. Мозг приказывал ему немедленно бежать на помощь пострадавшему, но тело отказывалось, не реагировало на приказ.
На противоположной стороне шоссе остановился грузовичок «Татра», перевозивший в Прагу керамическую плитку.
Его водитель при виде растерянного Блажея на обочине распахнул дверцу и крикнул:
– Эй, что там?
Этот вопрос вывел Паника из состояния грогги. Блажей все-таки бросился в сторону откоса – вниз, к покалеченной машине, на помощь застрявшему в ней человеку. По пути, на бегу, он крикнул водителю грузовичка:
– Авария!.. Человек разбился!..
И в этот момент рвануло.
Лежавшая кверху колесами машина мгновенно превратилась в огненный шар. В разные стороны полетели куски железа.
Архитектор инстинктивно закрыл глаза локтем, отвернулся, а потом и вовсе рухнул плашмя на обочину. Тут до него донесся грохот взрыва.
Архитектор возблагодарил судьбу (в бога он не верил) за то, что непонятный страх сковал его при виде машины, не дал ему сразу помчаться к пострадавшему. Если бы он кинулся к авто тут же, этот взрыв накрыл бы и его.
Паник медленно поднялся. Повернулся в сторону того, что еще пару минут назад было «Фольксвагеном». Черный остов проглядывал сквозь языки пламени. Огонь лизал черное неподвижное тело водителя. Теперь было очевидно: шоферу уже ничем не помочь.
К Блажею подошел водитель грузовичка.
– Езус Мария, – прошептал он.
– Надо вызывать полицию. И врачей, – проговорил Блажей. – Не знает ли пан, где здесь поблизости есть телефон?
– Телефон есть на заправке. Отсюда три километра, – ответил шофер грузовичка. – Да только врачи, наверно, уже вряд ли помогут пану. – Водитель кивнул в сторону горящей машины. – Мир праху его.
– Может, это пан, а может, и герр, – пожал плечами архитектор. И пояснил: – На машине восточногерманские номера.
– Да это уже все равно, – философски заметил водитель грузовичка. – Теперь парень уже на небесах. А там по нациям не разбирают.
Часть I
АНАСТАСИЯ КАПИТОНОВА
НАСТЯ
Весна 1990 года
Москва, СССР
Настя стояла у зеркала в коридоре и улыбалась.
Какое это, оказывается, счастье: улыбаться себе – просто так. И не горевать, что любимая кофточка истончилась и вылиняла, а обои в квартире обвисли, и потолок вздулся страшными пузырями. Ну и ладно, пусть кругом полно проблем. А ей все равно весело. Весело – без всякого повода.
В коридор выскочил Сенька. Спросил мимоходом:
– На себя любуешься?
– Вот еще! – фыркнула Настя.
Хотя ее отражение заверяло: выглядит она очень даже неплохо. Модный цвет, в который Настя выкрасила волосы (кажется, он назывался «морозный каштан»), ей очень идет. И новые тени, серебристые, как холодный закат, – тоже. И россыпь веснушек – появились уже, красавицы! – ее совсем не портит. А главное, что на душе легко и бесшабашно. Как у неразумного детсадовца после двух порций мороженого. Так и хочется взвыть популярное: «Лайф! Лайф из лайф!» И изобразить перед зеркалом эффектный пируэт.
Приближение весны на нее, что ли, так действует?!
На термометре, правда, пока твердый минус, и сугробов кругом полно. Но небо уже высокое, и солнце смотрит все уверенней и обещает, что совсем скоро оно запалит в полную мощь, растопит снега, высушит грязь и сметет наконец с лиц горожан это дурацкое выражение: смесь озабоченности и тревоги.
Насте страшно надоело, что все кругом такие хмурые… Даже улыбнуться на улице или в метро боишься – как бы за дурочку не приняли.
Но неужели они, все эти люди, не чувствуют, что скоро наступит весна? И можно будет закинуть на антресоли кургузые шубы, выпрыгнуть из тяжелых сапог, и гулять по одевшимся в нежную зелень бульварам, и вдыхать терпкий запах сирени, и целоваться на едва подсохших лавочках…
Настя вот, в отличие от прочего московского населения, радуется весне. Ждет ее, предвкушает. Загодя примеряет перед зеркалом короткие юбки, тренируется в нанесении весеннего макияжа…
А Сенька, любимый циничный муж, над ней посмеивается:
– Какая весна? Февраль на дворе!
– Нет, пришла уже, пришла! – горячо возражала Настя. – Раз ты мне цветы принес – значит, все, наступила!
Николенька, любимый сынок, тоже безоговорочно встает на мамину сторону. Заявляет солидно:
– Конечно, весна-красна. Она пахнет! Весною!..
– Ну, раз сын говорит – весна, значит, точно весна, – соглашается Сеня, и Настя целует его глаза – синие, словно весеннее небо, – и лохматит светло-солнечные волосы… И думает: «До чего ж я люблю тебя, дурачок!»
А Николенька – он всегда радовался, когда родители улыбались друг другу, – болтается у их ног и обхватывает маму с папой в цепком объятии…
И Настя думает: «Как бы я жила без них обоих! Без сынули с его кучей «почему» и без Сени – такого невоспитанного, циничного, провинциального… и самого лучшего в мире!»
Что бы с ней сталось, если б не они! Малыш давал ейлюбовь к жизни. А Сеня, муж невенчаный, – дарил просто любовь… И нет ей счастья без Сениных бровей-кустиков, глаз-солнышек и рук – таких крепких, что в их кольце можно пережить любую драму-катастрофу… И еще – решительно невозможно обходиться без постоянных Сенькиных цветов.
Кухонный стол в их квартирке вечно цвел то астрами, то гвоздиками, а то и дорогущими розами. Из Сениных рук даже нелюбимые мимозы принимались, словно райские орхидеи. И самое плохое настроение проходило, едва Настя взглядывала на цветы.
Вслух, правда, она ворчала:
– Сеня! Ну сколько можно! Бросаешь деньги на ветер… А Николай, между прочим, джинсы в лохмы изодрал. Опять придется ему брючки где-то доставать.
– Обойдется. Поставь заплатки, – беззаботно советовал Сеня.
А Настя думала: «Да уж, заплатками здесь не обойдешься. Да и твои, Сенька, джинсы годятся, откровенно говоря, только на тряпки. На работу в них ходить стыдно. А на новые фирменные нам не наскрести…»
Но она молчала. Подумаешь, денег мало! У кого их сейчас много? У кооператоров да рэкетиров!.. А они с Сенькой – честные люди. Но им все равно грех жаловаться. И мясо с рынка в доме порой бывает, и фрукты, и шоколадки Николеньке. И квартирному хозяину они всегда в срок платят. Хотя, кто спорит, шубу хотелось бы… Только что же мечтать о несбыточном?
Сеня констатировал:
– Обычные трудности для молодой семьи. Сколько ни зарабатывай – любимая жена все равно на косметику промотает. Ты, наверно, у спекулянтов – самый любимый клиент.
Настя только хмыкала. Она и правда оставляла у «жучков» немалую часть семейного бюджета – ей ведь и тени нужны, и помада (под каждую кофточку желательно свою), и «морозный каштан» для волос. А в магазинных парфюмерных отделах – голяк и затишье, один зубной порошок в картонных коробках да духи «Красная Москва».
– Я когда в школе училась, иногда даже верила, что коммунизм будет, – вздыхала она. – И мечтала: вот красота! Прихожу в магазин и набираю – по потребности. И шоколадок, и джинсы, и ананасового компота…
– Не-е, коммунизма уже точно не будет, – заверял Сеня. – Какой теперь коммунизм!
Подростки во дворе всеми вечерами голосили под гитару песни Цоя: «Пе-ре-мен! Мы ждем перемен!»
Но пусть ждалось перемен и жилось непросто – Настиного хорошего настроения все равно не испортить. Особенно когда солнце пригревает все теплее, и пахнет мартом, и на носу у малыша Николеньки – как и у мамы! – нарисовались веснушки. К тому же Сенька ходил с загадочным видом – явно готовил сюрпризом что-то хорошее.
– Не иначе шубу мне купил. На Восьмое марта, – предполагала Настя.
– Нет! Нет! Мне констьюктёй! На день мужчин! – прыгал Николенька.
– Эх, меркантильные вы. Оба, – вздыхал Сеня.
– Что такое «мекатильные»? – немедленно спрашивал сын.
– Значит, жадные, – пояснял Сеня.
– Нет! Я не жадный!! – вопил Николенька. – Я Аньке из садика машинку свою покатать давал!
– Нет-нет, Коленька, ты не жадный, – спешила успокоить его Настя. – Совсем не жадный.
– А меркантильный – это скорее тот, кто слишком многого хочет, – поправлялся Арсений. – Впрочем, от мамы нашей чего ж ожидать!.. Она ведь женщина. Они все такие.
– Да, женщины – они такие… – мудрено подхватывал четырехлетний сын.
Настя, глядя на него, помирала со смеху.
– А у тебя, – продолжал Сенька, – Николай, ни стыда, ни совести. Прошлый конструктор весь растерял. Зачем ты его, спрашивается, на улицу носил? И в садик?
– Ане показать, – бесхитростно признался сын.
– Ну вот! А теперь пожалуйста: новый ему подавай! Эх, покажу я сейчас кому-то, где раки зимуют!
И он хватал Николеньку, стискивал в сильных руках, подкидывал… Сын бесстрашно подлетал к самому потолку и хохотал, а Настя думала: «Да никакой мне шубы не нужно! Только чтобы Николенька всегда смеялся и Сеня – вот так подбрасывал бы его к потолку: так же, как сейчас, бережно, сильно и нежно…»
…А когда в Москву пришел наконец апрель и город наполнился шумом капели, Сеня сообщил свою новость:
– Ну, дамы-господа, пакуйте манатки. Переезжаем!
В первую секунду Настя даже не поняла. Переспросила удивленно:
– Куда это еще?
Она настолько уже успела привыкнуть к съемной «однушке» в далеком Марьине, что казалось, они живут здесь вечно. И будут жить еще долгие годы.
– Тю-у! – присвистнул Сеня (отучить его от дурацкого южнороссийского «тю» оказалось решительно невозможно). – А кто мне весь год мозги компостировал – про даль, да про глушь, да про дух от Капотни?.. Нет уж, все, дети мои! Хватит с нас Марьина! Теперь в центре будем жить. Почти у самого Кремля.
– Кьемиль, Кьемиль! – запрыгал сынуля. – Мы будем жить в Кьемле! Как дядя Гогбачев!
Настя захлопала глазами:
– Сенька!.. Ты… Ты получил квартиру? Как?!
– Эк хватила! – хмыкнул Сеня. – Кто же мне ее даст-то?! Квартиру?! Не получил – а снял. По блату. Хорошая «двушка», на площади Ногина.
– И сколько стоит? – вскинулась Настя.
– Оплата – разумная, – ушел от ответа Сеня. – Только рыбок хозяйских нужно кормить. – И пояснил: – Помнишь, я тебе рассказывал про Черкасова? Ну, из нашей редакции? Он все с американцами переписывался… Вот и допереписывался… В Штаты его пригласили, лекции читать. Про новейшие, блин, тенденции в советской журналистике. На целый учебный год. С сентября. А пока он туда поехал язык свой английский доучивать… Так что до следующего мая мы в этой «двушке» – полные хозяева. Там у Черкасова натуральный уют – и мебель, и посуда, и ковры. Только вот телевизор теща забрала.
Сенькины глаза сияли. Он явно гордился тем, что раздобыл новую съемную квартиру. Да задешево, да с мебелью, да в центре… Да еще – на целый год. А Настя мимолетно подумала: «Эх, так всю жизнь по углам мы и прокантуемся…»
Но, конечно, вслух ничего не сказала. Во-первых, зачем расстраивать мужа? А во-вторых… В шалаше, конечно, рай сомнительный… Вряд ли бы они в натуральном лесном шалаше с Сенькой ужились. Там тесно, холодно и горячей воды нет. Но на съемной квартире – даже в далеком Марьине – живут прекрасно. А уж на площади Ногина как заживут!
– Далеко там до метро? – деловито спросила Настя.
– Два шага – по бульварам.
– А детский садик есть?
– Не хочу я в садик! – встрял Николенька.
– Может, и не пойдешь, – успокоила его Настя. И вздохнула, представила, сколько будет хлопот: устраивать ребенка в новый сад посреди года, да еще опять не по месту прописки…
Сенька, телепат доморощенный, прочитал ее мысли. Сказал:
– Постараюсь сразу ящик коньяка достать. Чтобы на всех тетенек в роно хватило. И конфет – десять коробок.
– Да, пожалуй, еще приплачивать придется, – задумчиво произнесла Настя. И тут же сменила тон, прогнала из голоса даже намек на недовольство: – Молодец, Сенька!.. Ты у меня – просто золото. Нет – даже не золото. Платина!
– Платина или Платини? – дурачился Сенька, очевидно, польщенный ее комплиментом. Обнимал ее.
– Кес кё се Платини? – отбивалась она.
– У-у, глупая! – шутливо тискал ее Сенька. – Платини – великий французский футболист, чемпион Европы восемьдесят четвертого года.
– Не знаю я никакого Платини. Тебя я знаю. И ты у меня – великий. От Капотни нас избавил!
Действительно, как здорово уехать наконец из нелюбимого Марьина! Забыть о штурмах автобусов и никогда больше не толкаться на перроне в ненавистных «Текстильщиках»: кажется, здесь пол-Москвы метро штурмует, да еще куча приезжих – с электричек из Подольска и Чехова.
…Собираться им было легко – особого имущества молодая семья не нажила. Четыре чемодана с одеждой, две коробки книг, ящик Николенькиных игрушек да немного «фамильных сокровищ» – сервиз от бабушки Арсения и печатная машинка.
– Плюс, конечно, будет баул с твоей косметикой, – закончил подсчет багажа Сеня. – Но… Без грузовика, думаю, обойдемся. Леньку попрошу. В его «Москвич» как раз все влезет.
Ленька, Сенин коллега, помогать вызвался охотно. Приехал, оглядел немудреный багаж и условия назначил такие:
– С вас бензин и пиво по приезде.
И резво потрусил по лестнице с первыми двумя чемоданами. Николенька помчался за ним. По дороге вопил:
– В Кьемь! Дядя Леня везет нас в Кьемь! К дяде Гогбачеву!
Настя улыбнулась:
– Совсем он помешался с этим Кремлем. Представляешь, меня воспитательница в саду на полном серьезе спрашивает: «А вы что, правда получили квартиру с видом на Кремль?»
– Получим еще! – заверил ее Сеня.
Он азартно уминал постельное белье в чемодане – тот распахнулся и никак не желал закрываться. Настя принялась помогать.
Сеня, красный от натуги, повторил:
– Говорю. Тебе. Получим! Или купим! В самом центре!
Баул наконец захлопнулся. А Настя не удержалась от шпильки:
– Ага, в центре. Кто нам там квартиру даст! Там и не строится ничего.
– Построят, – заверил Сеня. – Гостиницу «Интурист», например, снесут – и на ее месте построят. Или – снесут гостиницу «Москва».
– Ну ты фантазер! – ахнула Настя. – Кто же это даст их снести?! Неси лучше коробку, а то Леня тебя заждался.
…Все имущество действительно уместилось в «Москвич». Пассажирам, правда, мест не досталось. Леня деловито сказал:
– Могу только Николая взять. Вон, на заднем сиденье. Ну что, Колян, полезешь поверх того ящика?
Николенька с восторгом согласился. А Настя поспешно сказала:
– Ну и отлично! Езжай потихоньку. А мы с Сеней своим ходом доберемся.
– Штурманем на прощанье автобус! – поддержал ее Сеня и стал чертить другу схему, как найти их новое жилье…
Автобус штурмовать не пришлось: народу на удивление было немного. Даже сидячие места захватить удалось. Настя в последний раз (она надеялась, что в последний!) выхватывала взглядом знакомые магазинчики, пятиэтажки, кривобокие гаражики, аптеку, детскую поликлинику… И неожиданно выпалила:
– А мне жаль!
– Чего? – удивился Сеня.
– Жаль, что мы уезжаем из Марьина.
Сидевшая по соседству тетенька, слышавшая их разговор, наградила ее удивленным взглядом. А Настя поспешно сказала:
– Район, конечно, дрянь. На работу не доберешься. И запах этот из Капотни… Но разве нам с тобой здесь было плохо?
Сеня благодарно поцеловал ее в щеку, ласково провел ладонью по волосам.
Любопытная тетка досадливо отвернулась.
– А в новом месте будет еще лучше! – заверил ее Сеня. – На Бульварном кольце, говорят, соловьи живут…
– Ну, соловьев там, допустим, нет. Но все равно, конечно, здорово! Знаешь, как я соскучилась по центру… Слушай, а этот твой Черкасов из Америки раньше времени не вернется?
– Вернется – найдем что-нибудь еще! – легкомысленно сказал Сеня.
«Ага, и до смерти будем жить по съемным квартирам!» – снова подумала Настя.
Но опять, разумеется, промолчала.
Однако Сенька – колдун он эдакий – прочел ее мысли. Предложил:
– А хочешь, мою квартиру в Южнороссийске на Москву обменяем? Можно будет получить вполне приличную «однушку».
– Нет! – поспешно ответила Настя. – Нет! Ни за что.
И тут же предложила свой вариант:
– Давай лучше от Бронной кусочек оттяпаем!
Сеня тоже был короток:
– Нет. Даже и не думай об этом.
«Мы – великодушные, сентиментальные дурачки», – мысленно подвела итог Настя.
Но она, правда, не может даже представить, что Сениной квартиры больше не будет. Что в ней станут жить чужие люди…
Сенино родовое гнездо располагалось в приморском городе Южнороссийске. Старый (по-хорошему старый – с высокими потолками и большими окнами) дом на самом берегу моря. Слышен прибой и вздорные крики чаек. Балконы (целых два!) увиты диким виноградом. А деревянные полы до сих пор, кажется, хранят легкую походку Сениной бабушки и решительные шаги его деда…
Насте казалось, что Сенины родные и сейчас незримо присутствуют в этой квартире. Присутствуют ненавязчиво и нестрашно. Сидят вместе с Настей и Сеней за кухонным столом. Стоят вместе с ними на балконе и любуются рассветом… Сеня тоже говорил, что чувствует, что они оба, и бабушка, и дед, здесь – просто почему-то не могут показаться на глаза, поговорить с ними…
Разве можно такую квартиру менять? Просто кощунство какое-то. Да и неразумно: максимум, что можно получить за нее в Москве, – «однушку» в каком-нибудь гадком Марьине – Бескудникове. Или – еще хуже – комнату в коммуналке.
А куда они в таком случае будут ездить в отпуск? И как объяснят Николеньке, что уроки рыбалки, плавания в море и управления моторной лодкой отныне прекращаются?!
Существовала, правда, еще Настина квартира: огромная, пятикомнатная, в самом центре столицы, на Большой Бронной. Вот от нее Настя бы избавилась с огромным удовольствием. Удивительное эта квартира место: роскошная, бога-атая, но до чего же неуютная… Настя там и не бывала – уже почти год. А право на жилье имеет полное – на Бронной прописаны только она с Николенькой да ее мать, Ирина Егоровна. Обменять бы квартиру на две, скажем, хорошие «двушки» – и все проблемы решены.
Но тут уж заупрямился Сеня. Гордый он, понимаешь ли. Чужого ему не нужно. И одалживаться он не привык. Тем более у тех, кого не уважает (а Ирину Егоровну он и не уважал, и не любил).
Конечно, Настя могла бы настоять, чтоб квартиру на Бронной разменяли. Но только ей тоже не хотелось иметь с матерью никаких дел. А тем более – дел финансовых, скандальных (а какой же раздел имущества без скандалов?).
Так и получилось: формально они с Сеней жильем вроде бы оба обеспечены – ни в какую квартирную очередь не поставят! – а приходится мыкаться по съемным квартирам…
Впрочем… Впрочем, разве ж они «мыкаются»? Им ведь хорошо друг с другом – даже в чужом противном Марьине!
И Настя, не обращая внимания на любопытных автобусных попутчиков, потянулась к Сене целоваться…
* * *– Молодец твой Черкасов. Умеет жить, – оценила Настя, обойдя новое жилье.
«Двушка» была обставлена с шиком. («С застойным шиком!» – уточнил Сеня.) Здесь имелось все, что полагалось по канонам «богатой советской жизни»: и горка, и стенка, и полки с «макулатурными» книгами: Дюма, Дрюон, Буссенар. Хрустальная люстра, голубая сантехника в ванной, китайский кнопочный телефон и даже – о, шик! – духовка с грилем. Все чистенькое, ухоженное. Ни пылинки. А ковер, кажется, недавно выбивали во дворе, на снегу. В уголке гостиной – «окно в природу»: здоровенный аквариум, пальма в кадке и аспарагус в настенном горшочке.
Николенька немедленно включил подсветку и кинулся разглядывать рыб. Стучал по стеклу, украшал аквариум рядом отпечатков. Рыбки были большие, губастые, Настя раньше сроду таких не видела – собрались на зов, рассматривали мальчика с интересом.
– Кушать хотят, – со знанием дела заключил сын.