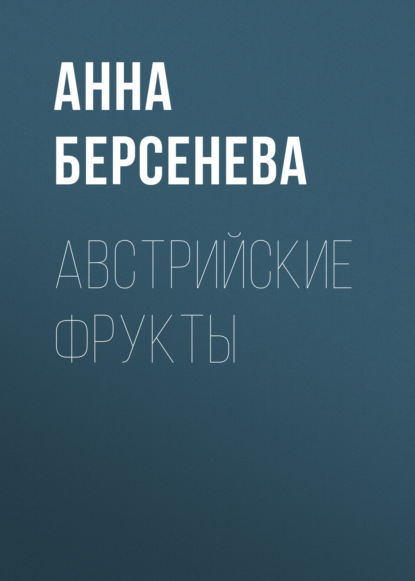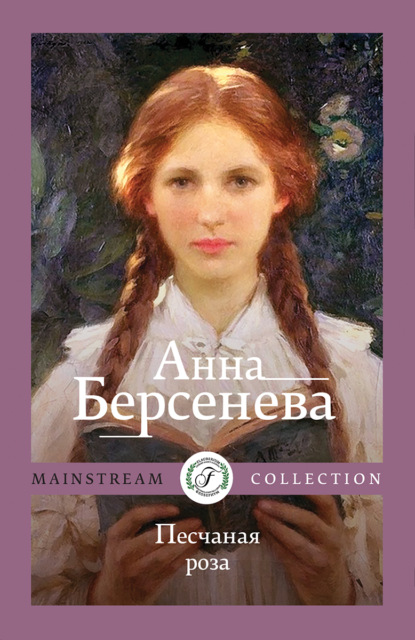Полная версия:
Анна Берсенева Ревнивая печаль
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Анна Берсенева
Ревнивая печаль

Часть первая
Глава 1
Лера слушала шум весеннего дождя как тихое обещание.
Ночные московские огни тонули в мокром асфальте как в реке, манили и успокаивали. Лера ехала домой, мартовский ветер врывался в приоткрытое окно машины, и усталость становилась тишиной.
Устала она так, что собственные руки казались ей тяжелыми, не говоря уже о ногах: те и вовсе гудели, как провода, хотя всю дорогу из Берлина, сбросив туфли, она прижимала горячие ступни к какой-то прохладной железке под самолетным креслом.
Лера возвращалась домой на день раньше, чем должна была приехать – тридцатого марта, в день своего рождения, – и никто не знал, что она уже в Москве, и Митя не знал. И в этом была радость возвращения: она увидит Митю сегодня, сейчас, и не будет еще одного пустого дня.
Все дни без него втайне казались ей пустыми, хотя никто, конечно, этого не замечал.
– Не быстро еду, Валерия Викторовна? – спросил шофер Павел, поглядывая на нее в зеркальце дальнего вида. – Дождь какой в этом году ранний, а? Прошлый март еще снег не сошел.
– Не быстро, Паша, – улыбнулась Лера. – Соскучилась, домой хочу.
– Хорошо, – удовлетворенно кивнул Павел. – А то Жозефина Ивановна возмущается: гоняешь, мол, и при чем тут, мол, твоя квалификация.
Паша был молод, словоохотлив, и Леру всегда смешил его рассудительный тон и то, что он старался говорить басом. Ездил он действительно лихо, Зоська возмущалась не напрасно. Но Лера и сама лихо ездила при случае, поэтому ничего против Пашиной скорости не имела.
Она радовалась каждому повороту улиц, приближавшему ее к дому. Тверская, Садовая-Триумфальная, Каретный Ряд, Трубная, Петровский бульвар – Неглинка, сердце заходится! Как будто ей не тридцать лет, а одиннадцать, и она впервые возвращается домой из пионерского лагеря и чувствует, как в счастливом восторге забываются летние дни со всем их незамысловатым весельем и остается только одно счастье: домой, к себе домой, на любимую свою, единственную улицу!
Окна Митиной квартиры были темны, а напротив, в маминых, светились изнутри неплотные шторы.
– Подожди, Паша, – сказала Лера, выходя из машины и с удовольствием ощущая сквозь тонкие подошвы холодный, мокрый асфальт. – Узнаю, что там дома, потом поедешь.
Она тысячу раз, наверное, вот так выходила из машины в своем дворе, из дальних странствий воротясь, – и каждый раз это было словно впервые. И по лестнице взбегала впервые, и всегда руки вздрагивали, когда ключ поворачивался в замке…
Надежда Сергеевна не спала и, как ни старалась Лера войти бесшумно, сразу вышла ей навстречу в прихожую.
– Лерочка! Что же не предупредила? А я тесто поставила на завтра, пирожки собиралась с грибами…
И мама была как всегда: радовалась, что ее Лерочка вернулась, и тут же переживала о пирожках. А Лера просто радовалась.
– Не спишь, мама, почему? – спросила она, целуя Надежду Сергеевну. – Голова болит?
Головные боли повторялись в последнее время все чаще, это Леру тревожило, хотя Надежда Сергеевна считала, что в ее возрасте и с ее болячками удивляться уже не приходится – ходит понемножку, и слава богу.
– Нет, ничего сегодня, – покачала она головой. – Просто не спалось. Старческое, Лерочка. Да ты устала, наверное. Ванну налить?
– Ничего, я потом, мам. Как Аленка? А Митя где?
– Митя репетирует, и Аленочка с ним.
– С ним? – удивилась Лера. – Да ведь двенадцать уже!
– Я тоже беспокоюсь. Но он приехал часов в пять, перерыв у него был, а она: «Митя, хочу с тобой!» Ты же знаешь, какая она: что выдумала – не отговоришь, вся в тебя. Он и взял с собой. Я ему говорила, – словно оправдываясь, добавила Надежда Сергеевна. – Говорила: «Митенька, она мешать будет!» А он смеется, а сам уже о своем думает – и поехал с ней. Так на Елену Васильевну покойную стал похож, и глаза похожи, а взгляд совсем другой…
– Ты ложись, мама, хорошо? – попросила Лера. – Я за ними съезжу и вернусь.
– Он не в консерватории – в Ливнево сегодня. Далеко, Лерочка! Может быть, лучше позвонить, что ты приехала? – тут же встревожилась Надежда Сергеевна.
– Ничего, я с шофером.
И, поцеловав мать, Лера вышла на лестницу, забыв на вешалке плащ.
Какое там – далеко! Берлин был недалеко, и Вена, и Рим, и любая точка света, откуда они приезжали, прилетали и приходили друг к другу. И уж конечно, недалеко было Волоколамское шоссе, с которого дорога поворачивала на Ливнево – усадьбу на северо-западе Москвы, где под высоким куполом старинного особняка звучала сейчас музыка, вызванная к жизни движениями Митиных рук.
С Пашиной лихостью, да почти пустыми улицами, доехали они за полчаса. Лера издалека увидела в конце аллеи, у самого дома, Митин темно-синий «Сааб», освещенный одиноким фонарем, и рядом оркестровый автобус.
– Езжай домой, Паша, – сказала она. – Спасибо, завтра подъедешь прямо в Петровские линии, к девяти.
– Может, подождать? – великодушно предложил Павел. – Чего там, довезу и обратно!
– Спокойной ночи, до завтра, – покачала головой Лера и пошла по аллее, все убыстряя шаг.
Она не переодела туфли, и тонкие шпильки увязали в мокром песке, мешая идти. Капли ушедшего дождя падали с деревьев, тишина стояла в пустом парке, и окна особняка сияли в конце аллеи.
Лера любила музыку, но уж точно странною любовью – как может любить человек, сполна наделенный чуткостью к лучшим проявлениям жизни и начисто лишенный музыкальных способностей. Она стеснялась перед Митей своей музыкальной тупости, хотя он только улыбался и говорил:
– Ничего, подружка моя, мне достаточно того, что ты слушаешь, – остальное я сделаю сам.
И сейчас, стремительно идя по коридору к большому залу, она не узнавала, что за мелодия доносится из-за неплотно прикрытой двери. Но сейчас ей это было все равно. В неудержимом потоке звуков она чувствовала Митину страсть, и это было больше, чем угаданное название.
Привстав на цыпочки, чтобы не стучали каблуки, Лера проскользнула в приоткрытую дверь, тихо прошла вдоль стены полутемного зала и остановилась справа от сцены. Она попала в самую паузу, Митя как раз что-то говорил оркестрантам. Что-то у него не ладилось, наверное: Лера увидела, как он сердито положил дирижерскую палочку на пульт и снова поднял руки.
– Точнее, прошу вас, – сказал он. – Последний раз попробуем – и все на сегодня. Но – слушайте, весь звук слушайте, постарайтесь почувствовать этот купол!
И музыка зазвучала снова, подхватывая и тревожа Лерину душу. Лера смотрела на Митино лицо, освещенное снизу неяркой лампочкой у пульта, на его руки, взлетающие из света и кажущиеся огромными там, в угасающем сиянии. К этому невозможно было привыкнуть – к его рукам, к глазам его с таинственными уголками, скрытыми прямыми ресницами…
Лера вспомнила вдруг, как почувствовала однажды – вот так же, на Митином концерте – пугающую силу звукового потока – неистовую, способную все снести на своем пути, как все сносят страшные потоки жизни… И как Митя остановил, руками остановил эту бурю, которую остановить было невозможно, и как она почувствовала, что ни одна сила над ним не властна. И все, что было потом, в первую их ночь… Всего год назад!
Она не сразу расслышала, что оркестр уже перестал играть: так долго звучала мелодия где-то под круглым потолком с полустершейся росписью.
– Спасибо всем, до завтра! – сказал Митя, и музыканты тут же заговорили, задвигались; зал, в котором только что звучала музыка, наполнился их усталыми голосами.
Лера ждала, когда он обернется. Она никогда не знала, как это будет: как он обернется, какие у него будут глаза, что он скажет ей и что будет дальше. Это каждый раз происходило по-новому. Лера и музыку чувствовала именно так: могла три раза слышать какую-нибудь вещь – и все равно не узнать с четвертого. И Митю она не узнавала точно так же, хотя его-то она знала с самого детства – но сердце у нее замирало. Она только знала, что он еще немного постоит вот так, не двигаясь, в молчании, словно продолжая прислушиваться к чему-то.
И конечно, она пропустила то мгновение, когда он обернулся, и увидела только, как просияли его глаза, даже в полумраке плохо освещенного зала.
– Лера… – сказал Митя.
Это невозможно было ни объяснить, ни даже повторить, как он произнес ее имя и как тут же коснулся ее руки – именно тут же, хотя они стояли совсем не рядом.
Они помолчали секунду, глядя друг на друга, и рассмеялись – потому что им обоим хотелось поцеловаться и обоим неловко было целоваться на глазах всего оркестра.
– Потом, – сказал Митя. – Дай на улицу выйти только, подружка!..
Он всегда ее так называл – с тех самых пор, когда она, десятилетняя, сказала: «Я же твоя подружка, правда?» – и он засмеялся ее словам. Лера привыкла, что он так ее называет, хотя она не подружка ему была теперь, а жена. Но к этому она как раз не могла привыкнуть.
– Мить, а Аленка где же? – спросила она, оглядываясь.
– Да вон она, спит. – Митя кивнул в противоположный угол зала.
Они подошли к сдвинутым дерматиновым креслам, на которых спала Аленка. Теперь, в пять лет, она спала уже не так смешно и трогательно, как раньше – на животе, поджав под себя ножки, – а почти как взрослая, разметавшись во сне на тесных креслах. Только рот был приоткрыт по-детски и прядь светлых волос зажата в кулачке.
Митин плащ, которым она была укрыта, сполз на пол, а его пуловер был свернут и подложен ей под голову.
– Зачем ты ее капризам потакаешь, Митя? – шепотом сказала Лера. – Представляю, что она здесь вытворяла!
– Не представляешь. Сидела, слушала, рот открыв, потом уснула, и мы ее уложили.
– Под оркестр уснула? – удивилась Лера. – А мама на цыпочках ходит, когда она ложится!
– Ну, сегодня было не слишком громко, – улыбнулся Митя. – Струнная группа. Ей понравилось, по-моему. А я так мало ее вижу, Лер, и подумал: пусть уж слушает…
– Пусть, – сказала Лера, на мгновение прижимаясь щекой к его плечу. – Пойдем, Митя.
Зал был уже пуст, они выходили последними. Оркестранты усаживались в автобус, смеялись, переговаривались. Митя положил завернутую в плащ Аленку на заднее сиденье машины.
– Видишь, даже не проснулась, – сказал он. – Погоди, сейчас поедем – посмотрю только на тебя…
Он стоял у кабины с водительской стороны, а Лера – с противоположной, и они смотрели друг на друга над синей крышей машины, в тусклом свете фонаря над крыльцом. Лера видела, как вспыхивают в его глазах затихшие мелодии и как взгляд его пробивается к ней через эти властные отзвуки.
– Не можешь вернуться, Мить? – спросила она наконец.
Митя улыбнулся.
– Все! Одной любви музыка уступает.
– Но и любовь мелодия? – рассмеялась Лера. – Поехали, пушкинист. Давай-ка лучше я – за руль. А то гаишник какой-нибудь тебя за пьяного примет!
– Нет, наоборот, – покачал головой Митя. – Машина – вернее водки, я же тебе говорил: все звуки затихают. Это даже, кажется, научно как-то объясняется – какие-то нервные цепи переключаются… Рахманинов тоже любил сам ездить.
– От скромности ты, Митенька, точно не умрешь! – снова засмеялась Лера.
Они сели в машину, но долго еще не трогались с места: целовались до потемнения в глазах.
– Поедем, Мить! – первой спохватилась Лера, на секунду отрываясь от его губ. – А то мы вообще здесь останемся до утра.
Дождь снова начался, но теперь он стоял серебряной воздушной пылью меж деревьев, в свете фар, пока машина ехала по широкой центральной аллее.
– Гробим парк, – сказал Митя. – Нельзя сюда на машинах. Да все равно…
Лера знала, что – все равно. Старинный парк усадьбы Ливнево был заброшен и запущен до крайности. Даже забора не было, только кое-где висели на столбах какие-то обломки. Въезжал и входил сюда кто угодно в любое время суток. И действительно ничего нельзя было сделать. Деньги на то, чтобы привести все это в порядок, нужны были такие, которые от управления культуры, даже сравнительно богатого московского, получить было просто невозможно. Во всяком случае, это невозможно было сделать за те два месяца, которые Ливнево считалось отданным Митиному оркестру и будущему оперному театру. Уже и то было хорошо, что особняк, до недавних пор принадлежавший театральному союзу, не развалился, и в большом зале даже можно было репетировать.
Машина выехала на Ленинградский проспект. Повторялся Лерин сегодняшний маршрут, но теперь она чувствовала себя совсем по-другому, чем несколько часов назад, когда ехала одна. Она даже в окно не смотрела – только на Митино лицо, освещенное разноцветными уличными огнями.
Она чувствовала, что и Мите тоже хочется смотреть на нее; он то и дело поворачивал голову.
– На дорогу, Митька, на дорогу! – засмеялась Лера. – Сейчас врежемся в столб – и вся любовь. Я тебя лучше за руку буду держать, – добавила она, кладя свою руку на его, лежащую на руле. – Вот чем автоматическая коробка хороша: рука у тебя свободна!
Митя всегда водил машину так, что Лера этого не замечала. Прежде она удивлялась точности его движений, его неощутимому умению выбрать именно то действие, которое было нужно на головокружительных московских улицах, – а потом перестала обращать на это внимание, потому что он все делал так.
Руки у него были большие, как у его отца, – с широкими ладонями и словно набрякшими суставами. Лере Митины руки всегда казались усталыми. Даже странно, как они могут быть такими от невесомой скрипки? Но ничто не могло сравниться с чуткостью его пальцев…
– Слушай, а куда это мы едем? – вдруг спохватилась она, увидев в окно дома-»книжки» Нового Арбата. – Не домой?
– Домой, домой, – успокоил Митя. – Задержимся на пять минут.
Он остановил машину, хлопнул дверцей и тут же скрылся в прозрачном магазине с надписью «Галерея» над входом.
Вернулся он действительно через пять минут и, открыв Лерину дверцу, положил ей на колени букет чудесно подобранных цветов – сиреневых, розовых, лимонных тюльпанов. Тюльпаны пахли свежо и тонко, и Лере показалось, что они светятся в обрамлении прозрачной зелени.
– Митя… – сказала она, опуская лицо в цветы. – А я думала, ты забыл про день рожденья…
– По-моему, это ты забыла. Надо было сразу спросить: «А что ты, дорогой муж, мне подаришь?» – и мне стало бы стыдно. А так – я прекрасно отделался цветочками!
Он подсмеивался над ней, он любил над ней подсмеиваться.
– Мить, ты идеальный? – спросила Лера. – Про день рожденья помнишь, цветы даришь…
– А тебе не все равно? – Он усмехнулся, но в его голосе Лере послышалась тревога. – Тебе не все равно, какой я?
– Все равно. А вдруг я тебе надоем?
– Не надоешь.
– Как скажешь! – засмеялась Лера.
Это она с детства знала, и не она одна – кажется, все в их дворе это знали: как Митя скажет, так и будет. Он не то чтобы угадывал – а вот именно становилось так, как он говорил. Никто даже не спрашивал, откуда что берется.
Лера вообще-то и не обиделась бы, если бы Митя забыл о дне ее рождения. Костя, первый ее муж, никогда об этом не помнил, и она не обижалась: понимала, что он занят своей биологией, высшей нервной деятельностью, улитками и опытами – и на что же обижаться? И ее удивляло, как это Митя все помнит. Особенно когда она видела его глаза, подернутые поволокой звуков…
Они свернули на Неглинную, проехали под длинной гулкой аркой и оказались наконец в своем дворе – как в тихой заводи.
– Смотри, мама так и не спит, – заметила Лера. – Я так беспокоюсь последнее время, ты знаешь? Она говорит, это просто старческая бессонница, но я не верю что-то…
– Я сейчас поднимусь, Аленку к ней отнесу, – сказал Митя. – Скорее всего, она просто волнуется, что нас долго нет. Ты иди пока ко мне, хорошо?
Они все время путались в этих «ко мне», «к тебе», «к нам». Невозможно было понять, кто где живет, невозможно было ни разделить, ни соединить привычность квартир, разделенных общим двором.
Глава 2
Лера никак не могла преодолеть то странное чувство, которое охватывало ее, когда она входила в Митину квартиру. Наверное, слишком много воспоминаний было связано с этим домом и слишком принадлежали они Елене Васильевне, чтобы Лера могла чувствовать его своим…
С того самого дня – больше двадцати лет назад, поверить невозможно! – как она впервые переступила этот порог, гладышевский дом казался ей храмом. Нигде не было таких картин, нигде так не звучали пианино и скрипка, нигде книги не высились так незыблемо, от пола до потолка.
Отсвет подлинности лежал здесь на всем, и Лера просто не в силах была его нарушить своим вторжением. Она даже заходить сюда боялась без Мити. И только он везде был самим собою – в консерватории, в Венеции, на лавочке посреди московского бульвара – всем равный и необъяснимый.
Митя вошел через десять минут после нее. Лера успела только сбросить наконец туфли, снова ощутив, как гудят ноги, и мельком взглянуть на себя в зеркало. Лицо усталое, уголки губ опущены вниз, глаза обведены едва заметными тенями, и янтарные искорки в них поэтому не светятся. Даже темно-золотые волосы кажутся какими-то тусклыми.
«И походка, наверное, тоже… – подумала она. – Сейчас бы Митя не спел, что у меня походочка – как в море лодочка!»
Она ставила тюльпаны в прозрачную вазу, когда Митя обнял ее, войдя в спальню.
– Оставь цветы, – прошептал он. – Все оставь, милая, иди ко мне!.. Так по тебе скучал – в глазах темнело…
Она тоже так по нему скучала… Она даже не знала, правильно ли они называют это – не скука, нет, совсем другое: такая неразрывная тяга, от которой перехватывает дыхание.
Любовь дышала в нем как музыка, и так же подхватывала Леру, и так же защищала. Только она одна об этом знала – о том, какая страсть скрыта под обычной его сдержанностью, какими неудержимыми могут быть его руки, губы…
Она не успела включить в спальне свет, а Митя включил тут же, нащупал выключатель настольной лампы в темноте, не отрываясь от Леры.
– Еще посмотрю на тебя… – Голос у него стал чуть хриплым. – Любимая моя, посмотрю…
Лера не понимала, когда он успевает смотреть. Митя целовал ее, гладил, тут же расстегивая на ней блузку, и она отдавалась каждому движению его рук, каждому прикосновению его пальцев – и только вздрагивала, когда сильные токи, идущие от них, пронизывали ее тело.
Лера не узнавала себя, когда была с ним, – хотя вообще-то и не думала о себе в эти минуты. Она, с ее привычкой к действию, с ее постоянной жаждой осваивать жизнь и с детства оставшейся непоседливостью, – трепетала в Митиных объятиях и хотела только одного: чтобы он не размыкал их никогда.
Лера почувствовала, что он осторожно кладет ее на кровать, а сам стоит рядом на коленях и целует ее – все ее тело, – и дорожки поцелуев огнем загораются под его губами.
Митины руки лежали на ее бедрах, и, вздрагивая, она приподнималась вместе с его ладонями – навстречу его губам, его прерывистому дыханию. Своей свесившейся с кровати рукою она проводила по его груди, чувствуя, как волосы щекочут ладонь, – когда он успел раздеться? – и как стремительно бьется его сердце.
Лера и в зрительном зале никогда не успевала уловить то мгновение, когда Митя оборачивался к ней, и теперь не успела заметить, когда он оказался рядом на кровати, прижался к ее горящему от его поцелуев телу и выдохнул:
– Единственная ты моя, даже ласкать тебя больше не могу – так люблю, так хочу…
И больше они не могли произнести ни слова, вместе сотрясаясь от той единственной силы, которая была сильнее их обоих.
Лера обнимала Митю за шею, снизу приникая к нему и чувствуя, что он – уже в ней, уже вздрагивают его бедра, и весь он стремится в нее все глубже, и она со стоном изгибается под ним, чтобы их совсем ничего не разделяло.
– Подожди, немножко подожди, Митенька, – задыхаясь, просила она. – Сейчас все кончится, а мне так жаль…
– Не сейчас, не сейчас. – Его шепот ласкал ей висок. – Я чувствую, моя хорошая, подожду…
Он так разгорячил ее, что и ждать было не надо, она напрасно беспокоилась. Но ей так жаль было каждого мгновения – в каждое мгновение Митя был другой, никогда не повторяясь в любви, и каждое было поэтому драгоценно.
Митя так сильно обнял ее в ту самую секунду, когда в глазах у нее потемнело и все тело забилось в счастливых судорогах, – что Лера почувствовала: он действительно дождался ее, все у них происходит одновременно.
И когда они лежали не двигаясь, прислушиваясь к отзвукам любви в еще вздрагивающих своих телах, – Лере хотелось, чтобы длились и эти мгновения, потому что и они были – единственные, неповторимые.
– Мить, я так боюсь… – прошептала она, прикасаясь губами к его губам.
– Меня? – спросил он, и Лера почувствовала на его губах улыбку.
– Нет, не тебя – а что ты исчезнешь, этого боюсь…
– Куда же я исчезну, скажи, пожалуйста? Уеду – так ведь вернусь, куда я денусь!
– Нет, Митенька, нет – я не могу объяснить, – покачала головой Лера. – Ведь ты всегда был, понимаешь? Я тебя всегда знала, сто лет, видела тебя чуть не каждый день, разговаривала – и не с тобой была… Вот я теперь не понимаю, как же это могло быть, и мне поэтому страшно: а вдруг это будет опять? Ты никуда не уедешь – а будешь не со мной? Как когда на скрипке играешь или дирижируешь – у тебя такие глаза… Ты совсем без меня тогда!
– Не верти головой, подружка, я сейчас чихну от твоих волос, – сказал Митя, прикасаясь губами к Лериным золотящимся в полумраке волосам. – Что это у тебя за настроение такое элегическое? И кто тебе сказал, что я без тебя на скрипке играю? Вот я тебе сейчас, вместо того чтобы целоваться, преподам урок гармонии – будешь знать!
Теперь они лежали рядом, прижавшись друг к другу, и Лера проводила пальцем по Митиным губам, по тонкому изгибу его скул и стрелкам темных, прилипших ко лбу волос.
– Не исчезнешь? – спросила она. – Скажи, Митя!
– Не исчезну, – совершенно серьезно подтвердил он. – До того не исчезну, что даже за сигаретами не пойду. Ты знаешь, о чем я вспомнил в самый разгар твоих опасений? Что у меня осталась одна сигарета.
– А я сумку дома оставила! – вспомнила Лера. – И плащ тоже, и у меня, выходит, вообще ни одной!
– Да-а… – Митя протянул руку и достал зеленую пачку «Кента» из кармана лежащих на полу брюк. – Значит, сигарет – нет-нет, и монет – нет-нет, и кларнет – нет-нет, не звучит?..
Это была одна из тех песенок, которые Лера так любила в детстве и в юности и которые Митя всегда пел для нее под гитару. Про то, как брюнет стал седым-дым-дым и погиб от вина…
– Монеты-то как будто бы есть, – сказала Лера. – Но в киоск все равно не пойдем. И сердце твое молчит? – вспомнила она рифму к кларнету.
– Сердце мое не молчит, а спорит с рассудком, – ответил Митя. – Рассудок велит не давать тебе сигарету для твоей же пользы, а сердце велит с тобой поделиться – и я с ним ничего не могу поделать!
Он закурил, затянулся дымом и протянул Лере сигарету. Пока она курила, Митя смешил ее, чтобы меньше затягивалась: проводил пальцами по животу и дул за ухо – пока она наконец не рассмеялась и не вставила сигарету ему в зубы.
– Да, а подарок! – вдруг вспомнил он. – Подарок-то как раз кстати будет!
Он высвободил руку из-под Лериной головы и вынул из стоящего у кровати низкого комода какой-то поблескивающий предмет.
– Вредный подарок, но мне понравился, – сказал Митя, кладя его Лере на ладонь.
Это была маленькая старинная шкатулка – серебряная, круглая, с тонким узором по краю и прозрачным зелено-голубым камнем на крышке. Она легко и удобно умещалась в ладони, и держать ее было приятно.
– Почему же вредный? – удивилась Лера. – Очень красивая шкатулочка, Мить, спасибо! Я в нее кольцо положу.
– Да это же не шкатулка, – улыбнулся он. – Это пепельница такая, которую в кармане можно носить.
Он нажал на камень, и крошечная крышка тут же откинулась. Изнутри на ней была ложбинка для сигареты, и закрывалась пепельница так плотно, что ее действительно можно было прямо с двумя-тремя окурками – больше не помещалось – положить в карман или в косметичку.
– Надо же! – восхитилась Лера. – Ни за что бы не догадалась! Хитрый ты, Митька… – Она прижалась щекой к его плечу и снова положила его руку себе под голову. – Может, она и вредная, зато я ее уж точно всегда с собой буду носить и про тебя вспоминать.
Пепельницу она поставила Мите на живот, чтобы удобнее было стряхивать короткие столбики пепла от их единственной сигареты.
– Митя, ты представить себе не можешь, кого я встретила в Берлине! – вдруг вспомнила Лера и даже на кровати села от неожиданного волнения.
– Кого же? – спросил он.
– Андрея Майбороду! Ну, помнишь, я тебе рассказывала – директора моего бывшего, который с деньгами сбежал пять лет назад?