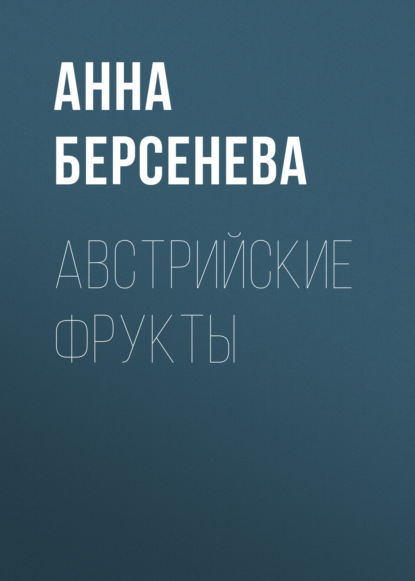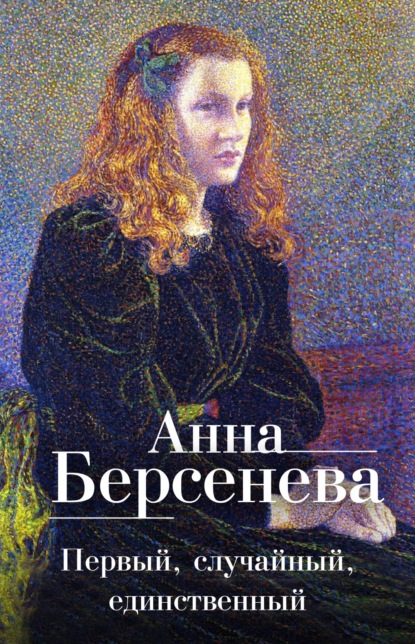
- Рейтинг Литрес:4.6
- Рейтинг Livelib:4.2
Полная версия:
Анна Берсенева Первый, случайный, единственный
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Анна Берсенева
Первый, случайный, единственный

Часть I
Глава 1
Что такое прямые чувства, Полина не знала.
Вообще-то она и задумываться не стала бы о таких невнятных вещах, если бы не попался на глаза брелок в виде гранатового сердца, пронзенного серебряной стрелой. Брелок лежал в одной из бесчисленных бабушкиных пепельниц. Раньше он был прицеплен к ключам от бабушкиной квартиры, а полгода назад Полина самолично его отцепила. Потому что и квартиру-то продавать было… неприятно, а отдавать еще и это родное сердечко в чужие руки – это и вовсе было гадостно.
И вот он попадается на глаза почем зря, напоминая о всяких смутных и ненужных словах, вроде этих, про прямые чувства.
Брелок в виде пронзенного сердца подарил бабушке Эмилии какой-то безутешный поклонник, и она потом говорила Юре, любимому внуку:
– Прямые чувства, Юрочка, никогда ведь не бывают пошлыми, даже если выглядят таковыми.
А Юрка пересказал эти ее слова Полине. То есть не пересказал, а просто вспомнил о них мимолетно, как всегда. Меньшего любителя возвышенных сентенций, чем старший брат, Полина в жизни не встречала.
Бабушка Миля умерла, когда ее младшей внучке было девять, квартиру продали через десять лет, потому что… Потому что Юра так решил. Но вот и спустя полгода после этого Полина все еще сидит здесь на широком подоконнике, поджав ноги в пестрых гетрах, и смотрит вниз, на полукруг тихого, с цветочными клумбами, ровно двадцать лет знакомого двора.
Двор, впрочем, приобрел такой элегически-патриархальный вид – бордюрчики, цветочки – совсем недавно и после долгого перерыва. Просто обитателям писательского дома у метро «Аэропорт» наконец надоело, что их жилище прочно превратилось в ночлежку для бомжей и туалет для уличных торговцев, и, проявив невиданную в творческой среде солидарность, они поставили на арки, ведущие во двор, решетки такой прочности, словно за ними, во внешнем мире, жили тигры.
– Ну и правильно, – сказала мама в ответ на это Полинкино ехидное наблюдение. – Я вот в книжке читала, только не помню, в какой, что вся эта мерзость началась, когда интеллигент стал объясняться в дверях с хамом, вместо того чтобы дать ему ногой под зад.
– Это Битов написал, – улыбнулась Ева. – Роман «Пушкинский Дом». А я и не думала, ма, что ты его читала.
Ева – та читала абсолютно все. Полинка не знала такой книжки, которую не прочла бы ее старшая сестра – неважно, была эта книжка в программе гимназии, где Ева преподавала русскую литературу, или ни в какой программе ее не было.
Полинка к книжкам относилась с некоторой настороженностью: читала-то много, но при этом не верила, что слова могут сказать больше, чем говорят линии и краски.
Задумавшись обо всем этом, она не заметила, как открылись железные ворота, ведущие во двор, и у соседнего подъезда остановилась Женина машина – ярко-красный, похожий на блестящий стручок перца «Фольксваген». Женя вышла из машины, открыла заднюю дверцу, один за другим вытащила три битком набитых супермаркетовских пакета. Вслед за пакетами из машины показался Ванечка, и Полина улыбнулась, как всегда она улыбалась и как все улыбались, видя его. Племянник был такой маленький, что не улыбнуться было невозможно. Просто не верилось, что не грудной, а двухлетний, на своих ножках стоящий ребенок может быть таким крошечным.
Женя дождалась, пока Ванечка выберется наружу, закрыла машину и пропустила его перед собою на дорожку, ведущую к подъезду. Ванечка, впрочем, по дорожке не пошел, а, стоя на месте, протянул руку и подергал за один из пакетов. Женя засмеялась – даже сверху было видно, как сразу переменилось ее красивое холодноватое лицо, – отдала пакет, и довольный ребенок потащил его к подъезду, волоча прямо по асфальту.
Полина тоже засмеялась и даже прижалась носом к стеклу, чтобы получше все это разглядеть. Ванечка был совсем не похож на Юру, но, видно, гены проявлялись у них в чем-то большем, чем внешнее сходство.
Правда, этот мальчик-с-пальчик неожиданно оказался очень похож на своего прадеда, то есть на Полинкиного деда. Профессор Юрий Илларионович Гринев умер, когда на свете не было не только Вани, но даже его папы. Может быть, гриневские гены пронзили время каким-то загадочным образом, и то, что так ясно читалось в прадедовой улыбке и во взгляде его чуть раскосых близоруких глаз за стеклами очков, вся эта непонятная, какая-то извиняющаяся и немного смущенная внутренняя сила, – вдруг проявилось в том, как его крошечный правнук забрал у Жени тяжелый пакет. А может, просто Ванечка удался характером непосредственно в своего папу, а что уж там теряется во мраке лет – это дело десятое.
Фотография деда висела на стене в единственной комнате бабушкиной гарсоньерки. Полина вообще-то и пришла сюда для того, чтобы наконец снять и уложить в ящик и эту фотографию, и все другие, когда-то подаренные бабушке теми, кто был на них изображен, – Высоцким, Тарковским, Феллини, Окуджавой… Эта часть жизни кончилась, огромная часть, и нечего теперь было разводить сантименты.
Полина вообще терпеть не могла сантиментов. Это Ева у них вечно прислушивалась к своим и чужим чувствам так, словно это и было самое главное в жизни.
И потому сейчас, когда отчего-то рука не поднималась внести во все это неизбежный разор, Полина просто сказала себе: «Фотографии со стенки снять всегда успею, делов-то! Или Женю попрошу, еще лучше», – и принялась собирать свои рисунки, разбросанные по всей комнате, кухне и даже по коридору гарсоньерки.
Делать это ей тоже почему-то было неприятно. Как будто и в рисунках этих кончилась какая-то давняя жизнь, ее жизнь, и они лежали теперь мертвым, хотя и почти невесомым грузом.
Ну, и к тому же было неприятно сознавать, что по меньшей мере половину из своих работ она бросила неоконченными. Даже те, которые делала на заказ, как, например, иллюстрации к книжке про Мэри Поппинс, и делала с удовольствием. И ведь, главное, черт его знает, почему бросила! Захотелось вдруг чего-то другого, вот и все, хотя, по-хорошему, сначала надо было бы сообразить, чего же такого другого хочется, а потом уж прежнее бросать.
Конечно, права мама, когда говорит:
– Полинке если все разрешать делать, что она хочет, она на Луну разве что захочет полететь, да и то ей надоест через неделю.
Собственная безалаберность Полину не то чтобы угнетала, но как-то… смущала. Хотя и не слишком.
Она складывала рисунки в папки, папки в картонные коробки из-под бананов, а коробки перетаскивала в прихожую и составляла друг на друга у стенки. Все-таки довольно много их получилось, несмотря на ее безалаберность.
Через полчаса она почему-то устала. То есть не «почему-то», а всегда она уставала от бессмысленной механической работы и всегда сразу начинала выдумывать какое-нибудь занятие, которое можно было бы считать полезным и на которое поэтому вполне можно было бы отвлечься.
Сейчас такое занятие отыскалось в ее рыжей голове мгновенно. Да и не занятие даже, а так… Надо поехать к Игорю и забрать свои вещи. Лучше бы, конечно, подождать, когда его не будет дома, чтобы лишний раз не объясняться. Но Игорь сейчас пребывает в очередном приступе медитации, а значит, большую часть дня и ночи проводит на диване, глядя то в стенку, то в потолок, и поэтому разминуться с ним затруднительно.
«И правда, чего ждать? Прямо сейчас и поеду», – решила Полина, и ей тут же стало весело оттого, что можно бросить эти дурацкие рисунки, и коробки, и мысли о том, что вот ей уже двадцать лет, а она так и не знает, чем же хочет заниматься, то есть вроде бы знает, но вроде бы получается, что толком и не знает, потому что… Надоели эти «потому что», век бы их в голове не крутить!
Гарсоньерка полгода стояла пустая – Юра жил теперь у Жени, – поэтому на всем здесь лежал слой пыли. Полина чихнула, стряхнула серый пыльный комок с волос, прицепила к ключам бабушкин брелок и, наспех умывшись, вышла из квартиры.
Игорь жил на Соколе, в том самом «деревенском» районе, о котором знали даже не все москвичи, не говоря о приезжих. Но художники знали об этом районе все поголовно, потому что это был как раз поселок художников. Он был построен еще до войны, но тогда, наверное, Сокол все же считался окраиной и маленькие деревянные домики смотрелись органично. А потом, уже после войны, они стали смотреться необычно, а теперь смотрятся просто роскошно, потому что иметь собственный особняк не в деревне Пупкино и даже не на Рублевке, а в двух шагах от метро – это, конечно, очень круто. Не зря же многие «новые русские» спали и видели, как бы прикупить здесь домишко, а художники изо всех сил этому сопротивлялись, и понятно, почему. Кому охота, чтобы под окнами тихого родного дома стреляли, взрывали друг друга или даже просто гуляли со своим идиотским размахом скороспелые хозяева жизни?
Дом скульптора Латынина стоял в самом конце улицы Васнецова. Он был по старинке обнесен обычным деревянным забором. Игоревы родители уже три года жили в Америке, поэтому у них руки не доходили до того, чтобы возвести вокруг дома ограду, соответствующую духу времени и места. А деньги, которые они несколько раз присылали для этого сыну, как-то незаметно уходили на что-нибудь, что тот считал более насущным, чем какой-то забор.
Дом был старый, и сад был старый, и трава пробивалась между камнями дорожки, ведущей к старому дому через старый сад. Полина потому и оттягивала момент, когда надо будет прийти сюда, что знала: стоит ей открыть калитку, пройти по этой травяной дорожке, подняться по скрипучей лестнице на высокое, как в «Сказке о семи богатырях», крыльцо – и так грустно, так странно станет на сердце… И подумает она: «И зачем отсюда уходить, и куда?»
Именно так она и подумала, вставляя в замочную скважину большой, как у Буратино, только не золотой, а зелено-медный ключ, который извлекла из неглубокой дырки под ставнями.
Полина не была здесь три месяца, но точно знала, где искать Игоря. Да его и искать не надо было – просто подняться в мансарду.
На веранде стояли безглазые головы и обнаженные торсы.
«А в сортире Ленин сидит», – вспомнила Полина и улыбнулась.
Сидящий Ленин был одним из сюрпризов этого дома, вообще полного всяких необычностей. Когда кто-нибудь из гостей, впервые попавших сюда, удалялся в туалет, все замирали в предвкушении удовольствия.
– Ой, извините, здесь было не заперто!.. – раздавался смущенный возглас.
А уж за ним следовала индивидуальная реакция: хохот, мат или обращенные к вождю дружеские приветствия.
Выполненный в человеческий рост гипсовый Ленин сидел на гипсовой же скамеечке рядом с унитазом. Для пущего эффекта Игоревы приятели раскрасили его в натуральные цвета и вместо кепки вложили в руку туалетную бумагу.
Полина поднялась по скрипучей деревянной лестнице наверх и толкнула дверь комнатки под крышей. Ее ничуть не удивило то, что Игорь никак не отреагировал на появление в доме постороннего человека – на скрип входной двери, скрип половиц, скрип деревянной лестницы… Сейчас все это было ему безразлично.
«Медитация – не хрен собачий», – усмехнулась Полина.
Правда, войдя в комнату, она обнаружила, что недавний спутник ее жизни не медитирует, а просто спит. Размышляя, будить его или не стоит, она остановилась в дверях.
Из-за включенного обогревателя – старого, с открытой раскаленной спиралью – в мансарде было невыносимо душно. К тому же и свет почти не проникал в затененное березовыми ветками окно. Свет исходил только от багровой спирали обогревателя, и от этого в комнате стоял тяжелый полумрак, в котором видны были крупные капли пота на бритой Игоревой голове и на его голых плечах и пушинки, прилипшие к его мятым ворсистым брюкам.
Очки лежали на полу у кровати; было что-то беспомощное в их широко расставленных тонких дужках. Полина отвела глаза от этих модных, дорогих, но таких беспомощных очков. Ей всегда почему-то становилось не по себе, когда она их видела.
Помедлив, она все-таки распахнула жалобно скрипнувшее окно. Сырой осенний воздух хлынул в комнату вместе с винным запахом прелой листвы и каплями только что начавшегося дождя. Капли упали Игорю на лицо, он фыркнул, заерзал на сбившейся постели, наконец проснулся и сел, удивленно вертя головой и часто моргая затуманенными сном и близорукостью глазами.
– Кто там? – пробормотал он, вглядываясь в Полинин силуэт у окна. – Ты что?
– Я там. Угоришь, вот что, – ответила она. – Давно почиваешь?
– А-а, это ты… – пробормотал Игорь и провел рукой по полу, отыскивая очки. – Нет, недавно, кажется. А который час?
Он не удивился ее появлению и спросил о времени так, как будто она вышла из этого дома не три месяца, а минут пятнадцать назад.
– Час – четвертый, а число – двадцатое сентября, – сообщила Полина.
Число она назвала не зря: знала, что Игорь вполне может проспать сутки, особенно при этом допотопном обогревателе, от которого и вправду немудрено угореть.
– Да? – вяло удивился он. – Тогда, значит, давно. Подожди, сейчас встану.
– Чего мне ждать? – пожала плечами Полина. – Хочешь – вставай, хочешь – лежи. Мое какое дело?
Когда Игорь спустился вниз, она пила кофе в маленькой кухоньке, примыкающей к веранде. Дорогой, головокружительно пахнущий бразильский кофе так и остался нетронутым с тех пор, как три месяца назад она купила его в магазине на Мясницкой и там же смолола. Игорь пил только тибетский травяной чай, от которого Полину мутило, и на ее запасы кофе не претендовал. Да он и вообще ни на что не претендовал. Почему она от него ушла, было загадкой для всех и даже для нее самой немножко.
Он надел пуловер, связанный из серых грубых ниток. Пуловер напоминал кольчугу, он сползал то с правого, то с левого плеча, и из-за этого в длинной, обвязанной желтой шерстяной буддистской ниточкой Игоревой шее было что-то такое же беспомощное, как и в его очках. И, как очки, пуловер тоже был дорогой, из какого-то элитного бутика, для которого Игорь делал сайт примерно полгода назад. Впрочем, для того, чтобы отличить этот элитный пуловер от обыкновенного самовяза, требовался очень наметанный глаз.
– Давно ты пришла? – Игорь улыбнулся, снял очки и протер их рукавом.
Не отвечая, Полина пожала плечами. Ничуть не смутившись ее молчанием – точнее, не заметив его, – он сказал:
– Что-то есть хочется. Ты ела?
– Я не ела. Но мне не хочется, – наконец ответила она и опять замолчала, ожидая продолжения.
– Может, в холодильнике посмотришь? – снова улыбнулся Игорь. – Кажется, капуста была…
– А ты что, в иудаизм перешел, шаббат справляешь? – не выдержала Полина. – Сам не можешь холодильник открыть?
Сколько угодно времени могло пройти – три дня, три месяца, три года, – Игорь оставался неизменным. Ничему не удивлялся, ничем не возмущался, ни на чьи посторонние желания-нежелания не реагировал. Сколько раз она давала себе зарок не заводиться, и вот пожалуйста, все равно завелась с пол-оборота!
Он послушно встал, открыл холодильник. На средней полке сиротливо лежал кочан капусты и стояла бутылка подсолнечного масла.
– Ладно, пожарю, – вздохнула Полина; что толку было на него злиться! – Зря, что ли, ты вещи мои оберегал? В камере хранения и то платить надо.
Готовить она умела не особенно, но имевшиеся в наличии продукты и не предполагали ничего изощренного. Как и Игорев непритязательный вкус.
– На Кузнецком Мосту новый ресторан открылся, – сообщил он, посыпая жареную капусту какой-то красно-желтой индийской приправой. Полина чихнула. – Вегетарианский. Я на открытии был – хорошо готовят. Морковные пирожные вкусные. Такие, знаешь, как будто в фольгу завернутые, но фольга тоже съедобная.
– Для буддистских кроликов? – поинтересовалась Полина.
– Зачем ты злишься? – пожал плечами Игорь. – Сама ведь пришла.
– Я за вещами пришла, – отрезала она. – Это ты меня в семейный ужин втравил.
Она смотрела на него, жующего жареную капусту, и пыталась вспомнить: с какого дня, с какого хотя бы месяца того года, который они прожили вместе, он стал ее так раздражать? И не могла вспомнить. А главное, не могла связать нынешнее свое раздражение с тем днем, когда увидела Игоря впервые.
Глава 2
На этюды Полина поехала этим летом как-то по инерции. Просто она лет с пятнадцати привыкла ездить на этюды, и даже родители давно смирились с тем, что их младшая дочь исчезает на месяц, а то и на дольше с какими-то никому не известными людьми. Да и, в конце концов, что могли возразить родители? Дочка училась в художественной школе, потом в Строгановское поступила, и вообще, хоть она и рисует как-то, на их простой вкус, странно, но ведь ее работы даже на взрослые выставки берут. А на этюды все художники ездят, ничего не поделаешь, приходится отпускать…
Примерно так рассуждала мама, и примерно это она говорила, когда Ева, старшая сестра, удивлялась родительской снисходительности.
Ева не столько удивлялась, сколько обижалась немножко. Ей было двадцать восемь лет, когда Полинке исполнилось пятнадцать, и ей действительно было непонятно, почему мама начинает нервничать, когда старшая дочь, взрослый человек, к тому же учительница, задерживается на час после работы и почему остается совершенно спокойной, когда младшая пропадает все лето где-нибудь на мысе Казантип, скитаясь по степям «как Велимир Хлебников».
Впрочем, этому только Ева могла удивляться, потому что не видела себя со стороны. А всякому другому человеку все становилось понятно, когда он заглядывал в Евины глаза. Невозможно было не заметить, какая трепетная, странная, беззащитная жизнь стоит в них, словно в глубокой воде. И за Еву сразу же становилось страшно: как жить на свете с такими глазами?..
Ну а Полинкины глаза – папины, чуть раскосые, похожие на черные виноградины, так и стреляющие из-под длинной рыжей челки то с веселым любопытством, то с ехидной насмешкой, – ни у кого никакой тревоги не вызывали. Наоборот, все Гриневы с самого ее детства знали: уж кто-кто, а Полинка и за словом в карман не полезет, и сумеет за себя постоять – за свое право рисовать так, как она хочет, и так, как хочет, жить.
В общем, на этюды она ездила каждое лето, поехала и после первого курса Строгановки. По инерции поехала, потому что все для себя она уже решила…
На этюдах, как всегда, было довольно весело. Все они были молоды, полны сил, честолюбивых планов и решимости что-то доказать миру в целом и каждому из десяти собравшихся вместе художников в частности. А деревня Махра, куда они приехали в самом начале июня, словно отделила их от окружающего мира, предоставив доказывать друг другу все, что угодно.
Поселились они, правда, не в самой деревне – длинной, пыльной и какой-то бестолковой, – а в заброшенном пансионате на противоположном от Махры берегу реки Молокчи. При советской власти пансионат принадлежал, как говорили, влиятельной газете, но теперь никому до него не было дела, и десять деревянных домиков тихо ветшали на просторном холме под соснами. Наверное, когда-нибудь нынешние владельцы пансионата должны были бы спохватиться и взяться за благоустройство своей собственности, но пока всей этой неразберихой, бесхозностью и живописной заброшенностью пользовались художники.
Крыльцо, широкое и высокое, как лестница барской усадьбы, угрожающе скрипело и покачивалось даже под невесомой Полиной, которая первая выбралась на него утром. Настроение у нее было отличное, несмотря на выпитое вечером неимоверное количество настойки с красивым названием «Рябина на коньяке». Рябина в настойке, приобретенной в махринском сельмаге, вроде бы присутствовала, а вот коньяк вызывал большие сомнения. Во всяком случае, голова наутро болела так, как ей положено болеть не от коньяка, а от нормальной бормотухи.
«Ну и наплевать, – весело подумала Полина, судорожно, впрочем, сглатывая и морщась от подступающей к горлу тошноты. – До родника бы только доползти, потом до речки…»
А чего ей было грустить? Все, что весь год вызывало у нее раздражение и недовольство собою – глубокомысленная пустота вперемежку с деловитой мастеровитостью, которая сплошь ее окружала, – осталось за чертой лета. И каждый долгий ленивый день целого месяца, прожитого в Махре, был исполнен свободой – именно той, которую она любила: свободой рисовать, что рисуется, не понимать, что не понимается, и, в конечном итоге, никому в своем непонимании не отчитываться. Она получала такое удовольствие – просто физическое удовольствие, аж в носу щипало – от своего непонимания, которое с полной бесцельностью переносила на кусок оргалита, что жизнь впервые за целый год казалась ей прекрасной.
Крыльцо снова закачалось и задрожало: проснулась Дашка, ее комната выходила на одно крыльцо с Полининой. В заброшенности махринских домиков одним из главных плюсов было то, что каждому из приехавших художников досталось по отдельной комнате. Правда, с текущими потолками, с незакрывающимися окнами и напрочь прогнившими полами, но обращать внимание на такие мелочи было бы просто смешно. Как и на то, что стены между комнатами даже не картонные, а словно бы бумажные, и интимная жизнь поэтому сразу же становится достоянием общественности. Стесняться интимной жизни у них вообще было не принято, даже наоборот, принято было обсуждать ее прилюдно и подробно, и стыдно было бы признаться в том, что тебя от этого слегка передергивает.
– Бли-ин!.. – простонала Дашка, чуть не на четвереньках выползая на крыльцо. – Какой же Лешик все-таки гад! Говорила ему, не бери ты это говно паленое, какая там, на фиг, может быть рябина? Она ж дешевле, чем бутылка пустая, настойка эта гребаная!
Все сорок две Дашкины русые афрокосички со вплетенными в них разноцветными тряпочками торчали в разные стороны, и вид у нее от этого был такой, что Полина засмеялась. Может быть, именно из-за этих косичек Дашку называли Глюком. А может, и не из-за косичек, а просто так, без видимой причины.
– Ну чего ты ржешь? – обиделась Глюк. – У самой, что ли, головка не бо-бо?
– Бо-бо, – кивнула Полина. – Просто ты на пьяного ежика похожа.
– Конечно, тебе хоть сколько пей, – проныла Глюк. – Тебе зачем голова? Цветуечки рисовать – вообще головы не надо.
Дашка относилась к натуралистической живописи с насмешкой, в этом они с Полиной были вполне солидарны, и именно поэтому она особенно издевалась над Полининым неожиданным летним увлечением: рисованием маслом на оргалите «лужайки под микроскопом» – так Дашка это называла.
Полина и сама не совсем хорошо понимала, почему ее вдруг потянуло изображать бесконечный луг с блеклыми цветами, названий которых она не знала. Ей нравилось то, что цветы здесь, на махринском лугу, вот именно блеклые, едва отличающиеся друг от друга, и что в них нет ничего такого живенько-веселенького, что у нормального человека связывается со словом «цветочки». И трава здесь была не ярко-зеленая, а какого-то очень приглушенного и потому прекрасного цвета.
Иногда Полина брала круглый кусок оргалита, и тогда пейзаж производил марсианское впечатление – цветы и травы расходились концентрическими кругами, при взгляде на которые начинала кружиться голова. Иногда оргалит выбирался узкий и длинный, метра на два, и пейзаж напоминал какую-то странную реку. Но в любом случае было в нем что-то завораживающее – легко узнаваемое и вместе с тем такое, чего не бывает в обычной жизни.
Но Глюка это все равно раздражало так, как будто Полина предавала какое-то их общее дело.
– Натура натурата! – фыркала она. – Осталось только продукты начать изображать. Знаешь, картинки такие увесистые, в золоте, которые «новые русские» для своих гостиных приобретают? То есть не для гостиных, а для за-алов… – насмешливо тянула Глюк. – А может, к Шилову в ученицы запишешься? – хихикала она, зная, чем можно поддеть Полину. – А что, будешь начальников рисовать, очень перспективно!
Полинка просто из себя выходила, слыша все это, аж лицо белым становилось.
Сама Глюк была увлечена сейчас видеоакциями. Перед самым отъездом в Махру у нее состоялась одна, в галерее «XXL»; Полина тоже ходила. В съемках акции был задействован Дашкин бойфренд, фотограф Дима, с которым она специально ради этого рассталась на месяц позже, чем планировала.
– Страдала ради искусства! – смеялась Глюк, и все ее косички весело прыгали над ушами.
На экране двух установленных в галерее телевизоров часами крутился короткий, в несколько кадров, фильм, персонажем которого был как раз Дима. Его задача заключалась в том, чтобы совершать простые движения – дергать себя за нос, чесать ухо. Эти движения повторялись на экране два, три, десять раз… К сотому разу Диму хотелось задушить. Хорошо, что Глюк с ним рассталась и он ни разу не появился на выставке! Вон, во время прошлого перформанса жильцы дома, в котором располагалась галерея, недолго думая, вылили на участников, семерых милейших и добродушнейших трансвеститов, ведро кипятка…