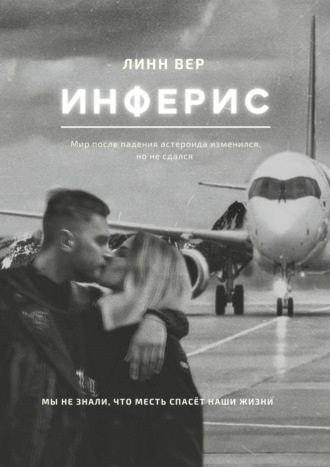
Линн Вер
Инферис
«Чем ближе к совершенству каждый станет,
Тем ярче в нём добро и злее зло».
Данте Алигьери, «Божественная комедия».
© Линн Вер, 2023
ISBN 978-5-0056-6500-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог
Побережье Франко-Бельгийской колонии,
9 сентября 2194 года.
Последнее, что я помнил после того, как поднялся в небо – резкая, изломанная береговая линия, петлявшая между известняковыми белоснежными скалами. Нашедшие под ними покой искорёженные морем и временем останки эсминца[1], на котором уже давно стёрты опознавательные знаки – ни номера вымпела, ни кодов, ни даже флага. Только чернильно-синие волны, с рёвом набрасывающиеся на берег. Взметнувшиеся потревоженные птицы, за вереницами которых в золотисто-алых лучах восходящего солнца блеснули линзы прицела…
Оглушительный хлопок. Нас подбрасывает в воздух. Мы пытаемся развернуть самолёт, но уже поздно. Резко теряем высоту. Ком в горле. Штурвал трясётся так, что невозможно его сдвинуть хоть на дюйм. Невозможно дотянуться до приборной панели, залитой мерцающим красным светом. Мой второй пилот Алеф начинает захлёбываться истошным криком. Видим, как словно из бездны вырастает густой лес – его тёмная гряда похожа на спину задремавшего дракона.
Нас резко бросает вперёд. Из моего сломанного носа льётся кровь. Перед глазами вспыхивают искры, и я ничего не вижу, кроме расплывающихся багряных клякс на рукаве. На нас сыплется битое стекло, смешанное с еловыми иголками, камнями и комьями земли. Металл рассыпается как карточный домик. Скрежет, визг, грохот. Сучья и ветви, царапающие обшивку. Безвольно лежащая на штурвале сломанная рука. Я не чувствую боли, продолжая тщетные попытки усмирить самолёт несмотря на красное марево перед глазами. Слышу рёв пламени, охватившего тюки с гуманитарным грузом. Я едва успеваю подумать о том, что кроме нас на борту ни одной живой души. Оба техника остались на базе, а погрузчики-контролёры ждут нас на аэродроме в Килкаде…
– Убирайся прочь! – кричит Алеф, и я вижу его исцарапанное стеклом лицо. По тёмной коже градом катится пот. – Дьявольское отродье! Убирайся!
Он отмахивается от летящих на него бумаг, осколков и камней. Я машинально выключаю топливо, двигатель и электричество. Через несколько мгновений всё кончено. Рёв, грохот, оглушительный звон и протяжный скрежет исчезают, оставляя за собой гул пламени и сухой царапающий звук, словно самолёт угодил в драконьи лапы. Мы уже на земле. Сели на склоне лесистого холма. Падать больше некуда…
Запах гари забивает нос. Я закрываю глаза. По-прежнему не чувствую боли, словно ничего не произошло. Под правой рукой что-то шуршит и перекатывается по приборной панели. Чувствую, как касаются щёк обрывки бумаги: чертежи, схемы, маршрутные листы, отчёты и описи перевезённого груза – каждый житель терпящих бедствие регионов получал воду, запасы съестного, медикаменты, тёплые вещи и одеяла. Наползающая после катастрофы зима беспощадна. Видя грязновато-белые верхушки ледников, я знал, что каждый день они отвоёвывают всё больше плодородной земли у осиротевших, изгнанных и отрезанных от континента людей.
Сегодня мы должны были приземлиться на аэродроме возле Килкада, от которого грузы повезут в два ближайших города – Грейстонс и Уиклоу. Меня всегда наполняла гордость за то, что мы делали. За светившуюся надежду на простых лицах людей. За детский смех, когда среди коробок и пакетов обнаруживались собранные сёстрами милосердия игрушки. За слёзы на лицах больных, которым небо даровало ещё несколько дней сытой жизни.
Теперь оно словно выплюнуло нас на земную твердь. Хватило всего лишь одного снаряда, расчертившего наши жизни на до и после. Лёжа в обломках фюзеляжа под креслом и слыша рёв пламени, сливавшегося с угасающими криками Алефа, я изо всех сил пытался удержать сознание. Боль начинала заволакивать разум. Захлёбываясь в приступах кашля, я не мог отдышаться. Не мог повернуться. Не мог уцепиться за выбитую дверь. Не мог стереть кровь с лица. Тело не слушалось! Оно казалось словно скованным вечными льдами – онемевшее и навеки застывшее…
Смутно помню, как меня вытаскивали из-под обломков. Голоса спасателей сливались с шипением пламени, когда его заливали пеной. Резкий химический запах, смешанный с удушливой гарью. Я видел уцелевшие остатки почерневших от копоти изодранных тюков в грузовом отсеке. Видел лицо Алефа цвета эбенового дерева. Спешащих к нему медиков в серых спецкостюмах похожих на пластиковые мешки.
– Не поворачивайте его на живот, – прохрипел я. – У него там было ранение, он может начать задыхаться.
– Марк де Верн? – над моим ухом послышался сухой официальный тон. Я дождался кивка одного из медиков и перевёл взгляд к задавшему вопрос.
– Чего надо, кэп? – я ненавидел штатских, и они отвечали мне холодной взаимностью. На нижнюю часть лица и шею мне надели фиксирующий воротник, и из-за него мой голос звучал глухо, словно из преисподней.
– Старший помощник председателя комиссии, капитан Бойль. Мы доставим вас обоих в военный госпиталь. И обязательно расследуем это дело.
– Уж постарайтесь, старпом, – я стиснул зубы, когда меня аккуратно приподняли и загрузили в герметичный бокс. Пока подключали к системам, я, не мигая, смотрел в полное лицо Бойля с крючковатым носом. – Благодарю за оказанную честь. А ваши эскулапы соберут меня по частям? А то ни рук ни ног не чувствую…
– Будьте уверены. В госпитале сохранилось ещё дореставрационное оборудование. Исправят всё. Каждую вашу косточку, – фыркнул капитан. В его заплывших глазках я прочитал обещание скорейшей расправы. Мог быть уверен в том, что мне припишут всю вину в произошедшем. Сделают всё, чтобы отправить меня в тюрьмы на Метеорах[2].
– Что с самолётом?
– Плачевное состояние. Восстановлению не подлежит. – Бойль выпрямился, давая понять, что разговор окончен. Я закрыл глаза. Хотел отомстить человеку, но в итоге сам разбился на его самолёте. Фортуна всегда заставляет платить по счетам.
Санитар переключил датчики подачи воздуха, и крышка бокса с лёгким шипением защёлкнулась. Я задержал дыхание, затем сделал глубокий вдох по инструкции и позволил тьме наконец-то принять меня.
Казалось, прошла вечность перед тем, как я открыл глаза в военном госпитале. Увидел сухонькую пожилую медсестру, качавшую головой. Тусклый светильник, работавший от генератора – видимо, опять перебои с электричеством. Тихий писк электронных датчиков. Арочные тройные окна как из старинных открыток. Белоснежные стены, ещё пахнувшие извёсткой. Изображение танцующего бога в развевающихся одеждах на полотняном гобелене – символ эпохи реставрации, начавшейся после мировой катастрофы. Я тщетно пытался разглядеть нарисованное умиротворённое лицо. Видел, как пламя светильника золотило гибкое тело, испещрённое витиеватыми письменами. Лёгкие ткани, словно запутавшиеся между взметнувшимися руками и согнутыми в танце коленями. Местные называли этого бога «Ma joje»[3], мечтая о лёгкости, которой им не хватало после крушения мира с его иллюзиями и мнимой стабильностью. Встретившись взглядом с пожилой медсестрой, я понял, что отныне лёгкость не скоро вернётся в мою жизнь.
– Есть одно поверье, – негромко произнесла она. – Когда тело человека оказывается во тьме, то его душа становится светлой.
Глава I. Инферис
«Гордыня, алчность, зависть —
Вот в сердце три жгучих искры, что во век не дремлют».
Данте Алигьери, «Божественная комедия».
Марк-ан-Барёль, 6 июня 2180 года
Я с детства любил запускать бумажного змея в свободное от занятий время. Белые крылья с красными стрелками. Пеньковая верёвка, зажатая в кулаке. Тёплый солоноватый ветер, пропитанный запахами морских водорослей. Золотистое сияние солнца, озарявшее узкую тропинку на спуске с холма. Ощущение пьянящей беззаботности, которую теперь уже невозможно воссоздать в настоящем. В тот день она исчезла вместе с равнинами, заполненными сверкающими платформами с солнечными батареями, трёхъярусными дорожными развязками, надземными заправочными станциями на бетонных опорах в виде колонн. На одной из них мой друг Фредерик нарисовал голубя с металлическими скрюченными лапами. Крылья птицы напоминали перистые облака – над ними красовалось гордое «Mort aux robots[4]!» и Фредерик растушевал на заднем плане очертания пятой точки. За такое можно получить запрет на въезд в страну, но юного хулигана так и не смогли найти.
Видя расписную колонну по дороге в Лилль, иностранцы часто останавливались и делали снимки. Гоготали и подстрекали друг друга на роспись остальных опор. Их быстро вычисляла полиция – тут же на трассу плавно приземлялся тёмно-синий патрульно-поисковый дюфф и увозил всю компанию в город. Я провожал взглядом незадачливых гостей, которые, опустив головы, по одному заходили в квадратную машину с мигалками. Далее на подступах к городу дюфф проходил контрольно-пропускной пункт, получал цифровое разрешение на въезд и исчезал в густом белёсом тумане, висевшем над речными каналами. Наблюдая за происходящим, Фредерик обычно дёргал меня за рукав и приговаривал: «Я знаменит! Я буду великим художником!»
Задумавшись, я чуть не выпустил змея. Отец, стоя за моей спиной, размотал катушку и дёрнул, отвлекая от размышлений.
– Марк! Не выпускай верёвку! Тяни к себе! – кричал он.
– Змей вырывается! – негодовал я и тут же, стиснув зубы, тянул верёвку к себе.
– А как ты хотел? – хохотал он, и я видел его невысокую фигуру, застывшую у буковой рощи. – Отпустишь вожжи и больше не сможешь их схватить! Тогда твоя колесница укатит без тебя! Так и во взрослой жизни. Учись управлять ею!
– Но это всего лишь змей! – заныл я, пытаясь справиться с ветром.
– Так начинай с него! – отец ещё отмотал верёвку и я чуть не споткнулся, когда моё бумажное испытание резко взмыло к безоблачному небу. – И всегда гляди под ноги! В небо смотрят все, кому не лень, а потом кубарем летят по склону!
– Спокуха, пап! – отмахнулся я. В двенадцать лет мир для меня казался крошечным, как скорлупа ореха. – Всё под контролем!
С этими словами я благополучно подворачиваю ногу и падаю в густую высокую траву. Всплеснув руками, отец бежит ко мне и на его лице тут же отражается облегчение: сын живой и кости целы! Начинает сматывать верёвку и змей кружит над моей головой как чайка. Расправив плечи, отец утирает пот со лба. Его умные серые глаза в окружении морщин светятся добротой. Кепка сдвинута на затылок, а высокий ворот рубашки расстёгнут. Некогда ярко-рыжие волосы сбриты, но на макушке остался хвост с медными колечками – фирменная причёска всех де Вернов до четвёртого поколения. Мне же по санитарным правилам оставляли всего полдюйма волос, как и другим воспитанникам центральной школы Вильнёва-д’Аска. Именно там нас готовили к Les Montgolfiades – знаменитому фестивалю воздухоплавания, после чего мы должны уже определяться с будущей профессией…
– Один раз удача улыбнётся тебе, – отец убрал выбившийся хвост под кепку, звякнув кольцами, – на второй раз призадумается, а на третий пошлёт тебя в чёрту. Тебе повезло родиться в удачное время, но это не значит, что нужно транжирить везение налево и направо.
– Каков человек, таков и спрос! – я цитирую одну из его любимых фраз.
– С мальца спрос невелик, – он рывком поднимает меня на ноги и отдаёт катушку. – Давай, начинай.
– И что мне делать?
– Управляй им. Учись чувствовать ветер: его направление, подъёмную и движущую силу, скорость и сопротивление. Высший пилотаж, когда твой змей выполняет трюки! И здесь нет подсказок! Пора взрослеть, Марк.
– Я не хочу связывать свою жизнь с небом! – выпалил я. – Провалюсь на первом же экзамене! Даже у Фредерика больше способностей, чем у меня! В лучшем случае стану диспетчером или стюардом.
– В роду де Вернов такие олухи ещё не рождались, – отец прищурил глаза и хлопнул меня по плечу. – Хватит ныть, принимайся за дело! Если тебя вытурят из школы, то пойдёшь на фабрику заклёпщиком деталей для самолётов, а не вольной птицей!
– А если я не справлюсь? – я чувствовал, как саднят расцарапанные коленки. – Что ты тогда сделаешь?
– Ничего, – отец хитро улыбается, и я вижу, как коварство буквально плещется в его прищуренных глазах. – Но советую тебе не испытывать моё терпение. Конечно, ты можешь стать техником, но без лётной практики грош тебе цена! Так что, вперёд! Воздушный змей подчиняется таким же законам природы, как и самолёт. Ищи закономерности. Наблюдай. Не дёргай верёвку, а следуй за ветром. Вперёд!
Я сжал катушку в кулаке. Отец думает, что лётная карьера – это то, что способно отвратить меня от драк и разбитых витрин! Но я не знал, как иначе выплеснуть свой гнев, который душил меня день ото дня.
Я злился на мать.
Она бросила отца и ушла к разбогатевшему на продаже античных статуй, тканей и украшений Бертольду Ринальди. Я навсегда запомнил его внешность: широкий лоб, светло-серые, почти прозрачные, колючие глаза, крупный длинный нос, тонкие губы и тяжёлый подбородок с впадиной. Пышные светлые и всегда уложенные волосы. Очень высокий, статный, одетый в неизменный чёрный костюм без воротника и с узкими рукавами.
Мать поселилась с ним в особняке недалеко от Марк-ан-Барёля, и в первое время звала меня в гости. Я нехотя приходил, испытывая странную неловкость при виде золочёных крылатых статуй в холле, расписных стен, стилизованных под средневековые фрески и вышколенной прислуги, готовой исполнить любое желание. Видел матово-белые электронные двери, веер из огромных павлиньих перьев на подставке в гостиной и холодный пол, застеленный узорчатыми коврами. На настенных полках стояли расписные тарелки, которые мать делала из глины, уйдя с головой в керамику.
Ко мне тут же спешила Магда – одна из служанок в безукоризненном сером платье и в перчатках. Я отдавал ей свою изорванную пыльную кепку, которую она быстро приводила в порядок. Ставил свою стоптанную обувь на полку рядом с роскошными туфлями матери из тюленьей кожи. Брал предложенный Магдой стакан лимонада и капсулу с микро-пирожными. Любой мальчишка на моём месте был бы в восторге от сладостей, но я, привыкший к пище простых работяг, оставлял лакомства нетронутыми.
Мы с матерью выходили на террасу, с которой открывался вид на белоснежную церковь Святого Викентия, стоявшую в нашем городе ещё с шестнадцатого века. Садились на лёгкие ротанговые кресла и некоторое время молчали, не зная, о чём поговорить. Вдалеке в клубах пыли и смога таяли высотки из модифицированного камня с мерцающей подсветкой. Над ними кружило вороньё, привлекаемое загородными свалками на месте вырубленного леса. Рядом только начали строиться компрессионные заводы по переработке мусора. Я поёжился, подумав о том, что каждый день мать видела картину упадка и борьбы за выживание.
– Как отец? – наконец спрашивала она, стараясь придать своему дрожащему голосу безразличный тон. Тёмно-русые волосы кольцами спускались к плечам, обрамляя всегда задумчивое лицо с полными губами и острым подбородком. На шее поблёскивала простая золотая цепочка.
– В порядке. Ему некогда скучать по тебе, – небрежно бросал я, ощущая внутри растущее чувство неловкости. Светлые, почти невесомые, шторы колыхались между тонкими ажурными колоннами, вселяя смутную тревогу. Пасмурное небо заметно темнело над высотками, обещая грозу.
– Главное, что он здоров, – на глазах матери неизменно наворачивались слёзы. – И он будет счастливым. Обязательно будет.
– В этом уже нет твоей заслуги, – ворчал я, подавляя желание развернуться и уйти. Вот-вот должен прийти Ринальди, и мне не хотелось встретиться с этим напыщенным индюком в безукоризненном костюме.
– Когда-нибудь ты поймёшь меня, Марк, – мать судорожно вздохнула, и обхватила себя за хрупкие плечи, на которые был наброшен цветастый шёлковый халат поверх лёгкого длинного платья. Вдалеке загрохотал гром, и резкий порыв ветра бросил в лицо клубы пыли. На мгновение я зажмурился.
– Отец работает за двоих, лишь бы не думать о тебе, – выпалил я и утёрся краем рукава. – А когда заканчивается смена, то он накачивается дешёвым пойлом, чтобы скорее забыться сном. Но даже во сне порой бормочет твоё имя! И всё ради чего? Чтобы ты стала игрушкой в руках этого ублюдка?
– Марк! – мать в ужасе отшатнулась. – Не смей так называть Бертольда! Он хочет помочь тебе с образованием. Он так переживает за тебя! Боится, что ты попадёшь в дурную компанию…
– Не нужно мне никакое образование, – отмахнулся я. – Пусть твой Бертольд катится к дьяволу. Боится, что я попаду в дурную компанию? Да я сам – дурная компания! И нам с отцом ничего не надо. Сами справимся!
Я не мог больше оставаться в этом стерильном роскошном доме. Не мог дышать одним воздухом с женщиной, бросившей моего отца. С женщиной, выбравшей богатство, а не верность. С женщиной, боготворившей этого скупщика краденого. Ведь все знали, чем на самом деле занимался Ринальди! Все знали о его тёмных связях, включая чёрных археологов, мародёров, бандитские группировки и даже военных.
Фредерик даже как-то рассказывал, что и полиция получает свою долю от махинаций моего отчима. Поэтому я был решительно настроен и, слушая все эти истории, вымещал свой гнев в потасовках с другими мальчишками. Во мне закипала ярость, тем более что имя Ринальди было на слуху у каждого более-менее обеспеченного жителя нашего городка. Благодаря его контрабанде во многих домах и церквях появлялись чаши, инкрустированные драгоценными камнями, роскошные восточные ткани, масла, ковры и одежда. Он вытеснял моду на аскетизм, когда люди десятилетиями обходились малым и жили в компактных домах по японскому типу. До его появления женщины носили глухие длинные платья и грубые башмаки, но затем стали появляться в летящих тканях, расписанных алыми, золотистыми, пурпурными и графитовыми красками. Они чаще смеялись, чаще веселились и флиртовали с мужчинами, что вызывало раздражение у поклонников старого порядка.
Я вспоминал, как родители ругались, когда мать начала встречаться с Ринальди. Слышал звенящие ноты в беспокойном голосе отца и чувствовал, как что-то внутри сжимается в кулак. Его лицо, подсвеченное голубыми неоновыми светильниками, казалось высеченным изо льда.
Тогда мы ещё не знали, что такое лёд.
Не представляли, какой длинной может оказаться зима.
Не верили, что близок день, перевернувший мир с ног на голову, ведь нам говорили, что не о чем беспокоиться. Мы даже не заметим! Увидим очередной выпуск вечерних новостей и посмеёмся над своими страхами. Что и говорить – человек покорил космос! Человек знает, как усмирить любую стихию! Все эти разговоры о могуществе природы – лишь досужие обсуждения…
– Нет поводов для беспокойства, Эд, – мать хотела казаться невозмутимой, но ей это как всегда плохо удавалось. – У Бертольда прекрасные ткани и на каждую есть маркировка. Всё законно! Он обещал мне показать свои склады, чтобы я выбрала всё, что захочу!
– Зачем тебе это тряпьё? Или это всего лишь повод?!
– Эд, остынь, – умоляюще произнесла она. – Я не хочу, чтобы Марк слышал всё это.
– Марк рано или поздно всё поймёт! И я не слепой, Юна.
– У меня с ним ничего нет! Твоя ревность просто глупа!
Раздался звук бьющегося стекла. Видимо, отец запустил в стену стакан. Я отшатнулся от двери и замер. Видел, как на каменном полу скользнули две тени, подсвеченные голубоватым сиянием неоновых светильников. Вжался в стену и затаил дыхание. По спине пробежал холод, вызвав волну мурашек.
Мамины цветы в подвесных стеклянных колбах покачивались на сквозняке от вытяжек. Над ними на сером бетонном потолке мерцала голограмма с указателями аварийных выходов. На домашней сетевой станции горела красная кнопка: включен звукоизолирующий экран, способный заглушить любой скандал от любопытных соседей.
– Он свободный человек? – допытывался отец.
– Он вдовец. В Париже у него осталась семилетняя дочь.
– Это тебе на руку, Юна. Богатый вдовец! Осталось только получить развод, – в голосе отца слышались зловещие нотки.
– Эд, я тебя умоляю, прекрати! У нас нет причин для ссоры. Бертольд скоро уедет к греческим археологам и уже не вернётся!
– В самом деле?
– Да. И больше не останется никакого повода для праздника! Никаких тканей, музыки, смеха! Он подарил столько радости женщинам, уставшим от рутинной работы! И вы, мужчины, судите его за то, что не способны дать сами! – мать громко и безудержно плакала.
Этого я не мог вынести. Не мог слышать рыданий матери и злого, враждебного голоса отца. Они никогда не ругались! Никогда моя тихая и робкая мать не плакала навзрыд. Никогда мой сдержанный и умный отец не сыпал проклятиями и оскорблениями. Никогда в нашей квартире не раздавалось ни единого крика – живя в тридцати четырёхэтажном кондоминиуме, мы ценили покой среди более шумных и бойких соседей. Ценили верность и честность. Ценили наш уютный семейный мир, который на глазах разбивался вдребезги.
Я убегал на пустырь. Обычно там собирались ребята на кулачные бои. Я дрался, как мог. Под утро возвращался домой, еле волоча ноги. Глядя на меня, отец наскоро обрабатывал ссадины и синяки репараторным раствором и когда в полдень начинались занятия, от моих травм практически ничего не оставалось.
После того вечера мать словно подменили. Она стала реже приходить домой, и чаще всего была выпившей. В её тёмных глазах ещё оставались отблески былого веселья, но они тут же гасли, едва она сталкивалась с осуждающим и угрюмым взглядом отца. Он едва скрывал свою боль, но ничего уже не мог с этим поделать. Между ними росло показное равнодушие, скрывавшее чудовищные раны. Я продолжал вымещать свою боль в драках. Матери было плевать, где я и чем занимаюсь. Она разлюбила меня. Возможно, никогда не любила, но мой детский ум не смог этого понять. Или не захотел.
Однажды, вернувшись с занятий, я застал её, собирающей вещи. Вокруг неё кругами ходил отец и его голос звенел от едва сдерживаемого гнева:
– Ты никчёмная мать! И ещё более никчёмная жена! Убирайся к нему!
– Просто оставь меня в покое, – мать складывала вещи в чемодан и не поднимала головы. – Я уйду. Не могу больше жить с тобой под одной крышей!
– Ты забыла, как мы жили раньше. Ты на самом деле готова предать нашу семью?
– Ты тоже приложил свою руку к этому, – она демонстративно подошла к сетевой станции дома и удалила себя из базы жильцов. – Мы виноваты оба! Надеюсь, ты не станешь настраивать Марка против меня?
– О-о, нет. Это без меня сделает ублюдочный торгаш, твоя новая любовь, Юна.
– Бог тебе судья, Эд. Он не бросит меня, как ты. Он будет до конца бороться за меня в любой ситуации! А ты просто слабак!
Я помнил её слова тогда, когда стоял на вершине холма, сжимая в руках верёвку от воздушного змея. Когда видел, как к земле летят огненные капли. Они с лёгким шипением входили в море и взметали волны. Те, поднимаясь, грозили перевернуть идущие в сторону Британии суда из Германо-Австрийского альянса. Я слышал протяжные сигналы тревоги – они эхом разносились над водой, заставляя замереть всё живое в округе. У меня мелькнула мысль: война! Настоящая война началась!
– Неужели такой фейерверк устроили наши бравые франко-бельгийские ВВС? – отец недоверчиво огляделся. – Вот только пиротехники перестарались!
– Разве учения бывают такими? – я чувствовал вспыхнувшую тревогу внутри.
– Нет, не бывают! – отец схватил меня за руку и рванул, увлекая за собой. – Если это не война, то почему нас об этом не предупредили?!
Мы побежали вниз, не разбирая дороги. Я порывался обернуться и посмотреть на расцвеченное пламенем небо, но рисковал снова свалиться в траву. В сторону порта уже летели военные самолёты. Рёв двигателей. Резко притихшие трассы. Высыпавшие из машин люди. Вой сигнализации. Сыплющиеся удары с неба. Где-то вспыхнула сухая трава. Сзади доносился оглушительный треск и гул пламени. Где-то там остался гореть бумажный змей, запутавшийся в кустах…
В тот день мы ещё не знали, что огненные всполохи – это отголосок упавшего в Сибири астероида. Слишком поздно мир узнал о нём. Слишком поздно спохватились военные, обещая сбить его прежде, чем он разгонится до пятидесяти тысяч миль в час. Однако эта задача оказалась им не по силам. Их удары ничуть не изменили траекторию движения и не раскололи его.
Самонадеянность. Тщетность. Фатальность.
Эти слова стали девизом на долгие годы, и человечеству уже не отмыться от этого клейма.
Спустя полгода учёные в деталях расскажут в телеконференциях о том, что радиус пришельца составил одиннадцать целых и семь десятых километра, а мощность – сотни тератонн в тротиловом эквиваленте. Это образовало кратер диаметром сто семьдесят четыре километра и повлекло за собой землетрясения, наводнения и последующее похолодание, которое не прекращается уже больше десяти лет…
Астероид назвали латинским словом Инферис, посчитав, что оно наиболее полно отражает суть преисподней, воспетой в книге Данте Алигьери «Божественная комедия». На телевидение приглашали пророков всех сортов и мастей, делали развлекательные шоу, на которых гадали, сколько кругов ада уже прошла Земля, а сколько ещё осталось. Отовсюду летели злобные предсказания, по которым нам всем была уготована роль удобрения для последующих обитателей планеты. Священники собирали вокруг себя толпы людей, обращали их в новые религии, множили богов, называя Господа «многоликим создателем» и придумывали изощрённые схемы, чтобы их умилостивить – от многоступенчатых ритуалов до замысловатых церемоний, поражавших своей роскошью. «У них одно имя – легион, – приговаривал отец, озадаченно почёсывая затылок во время очередной трансляции богослужения во имя новых двенадцати богов, – а суть одна: продажны все во все времена».
Когда мы с ним, запыхавшиеся и запылённые, вбежали в свою квартиру, я не знал, что моей матери уже нет в живых. Бертольд Ринальди, потомок итальянских священников и аристократов, бежал из города, бросив её в пылающей равнине. Исчез незадолго до падения горящих обломков, словно зная о том, что произойдёт!
«Бог тебе судья, Эд. Он не бросит меня, как ты. Он будет до конца бороться за меня в любой ситуации!»
Уже в бомбоубежище мы столкнулись с уцелевшей Магдой, которая по чистой случайности оказалась в центре города в тот день, и успела спуститься под землю через старую станцию метро. Размазывая по чумазому лицу слёзы, бывшая служанка контрабандиста призналась в том, что подслушала разговор Ринальди с женой:
– Я съезжу на склад и проверю, как там дела. Приготовь на ужин что-нибудь лёгкое, – велел он, когда его водитель уже выносил набитый вещами чемодан и ларец с драгоценностями.
– Как насчёт индейки под вишнёво-базиликовым соусом? – спросила тогда моя мать, боясь отвести взгляд от его лица.
– Будет замечательно, – Ринальди поцеловал её в щёку. – Я люблю тебя, моя лилия. Ты – самое дорогое в моей беспокойной жизни!
С этими словами он был таков. Мне понадобилось много лет, чтобы перестать винить себя в том, что в день катастрофы я даже не вспомнил о матери. Возможно, мы с отцом успели бы спасти её. Но помня о том, как полыхала равнина, как огонь уничтожил десять гектаров поля с солнечными батареями, я сомневался в этом. Оставалась лишь одна причина её смерти – Бертольд Ринальди, бесцеремонно вторгшийся в нашу жизнь и толкнувший её в объятия огня. Только его стоило винить в произошедшем.
«Бог тебе судья, Эд. Он не бросит меня, как ты. Он будет до конца бороться за меня в любой ситуации!»
В моём кафо[5] ещё оставались её снимки. Спешно собираясь в бомбоубежище, я захватил с собой этот узкий мини-планшет, так как на этом настоял отец из опасения, что я запущу учёбу. Впоследствии я не раз просматривал семейный архив и чувствовал, как внутри крепла ненависть. Она холодной змеёй сворачивалась в душе и жалила меня всякий раз, когда я готов был простить мать и этого Ринальди. Видел её счастливое лицо. Отца, обнимавшего её за плечи. Меня с первым воздушным змеем с изумрудно-зелёными кляксами…
Торгаш со своим тряпьём и старыми картинами всё уничтожил.
Расколол нашу семью.
Никогда не будет всё как прежде!
Застыв над своим чемоданом, я смотрел в узкий экран кафо. Перевёл взгляд на панорамное окно, за которым светлела соседняя высотка с арочными окнами. Мимо неё пронеслось три дюффа. Они поднялись до плоских крыш с террасами. Красно-синие мигалки, выставленные на полную яркость, отражались на витых колоннах, мелководных бассейнах и хвойных рощицах, за которыми раскинулись мини-детсады, сувенирные лавки и общественные сетевые станции. Покружив в воздухе, дюффы исчезли в густом дыме от горящей травы и солнечных батарей.
– Походу дело серьёзное, – отец стоял на пороге моей комнаты и качал головой. – Давай-ка спустимся вниз, в ангар. Узнаем у соседей, может, они в курсе, что происходит-то? Мракобесие какое! Ей-богу…
– Может, это всё-таки учения? – мне не хотелось собирать сумку для того, чтобы через пять минут оказалось, что это ложная тревога и «всем спасибо, всем до свидания!»
– Чует моё сердце, что это другое. Давай, пошевеливайся.
Наскоро собрав вещи, мы с отцом вышли в коридор. Множество лестниц, переходов и галерей нашего дома заполнились гулом голосов, топотом ног и истошными криками. Голограммы с указателями погасли, погрузив коридоры в полумрак. Горели только аварийные красные лампы, разрезая пространство пульсирующим светом. Внизу, в насквозь продуваемом ангаре, нас рассаживали в аэробусы и отправляли в Лилль. Зажатый между отцом и дородной пожилой соседкой Рауной, я тщетно пытался отыскать Фредерика, но друг, видимо, отправился со своими родителями другим рейсом.
– Ничего, – шепнул отец, – скоро всё вернётся на круги своя. Так всегда было.
Я смотрел на него и качал головой. В двенадцать лет знал, что это пустые слова. Нас предупреждали. Нам советовали заранее подумать о бомбоубежище и сделать запасы еды.
Никто не услышал этих слов.
Никто не задумался над тем, что в двадцать втором веке мы до сих пор уязвимы перед стихией.
В бомбоубежище над моей головой находилась платформа Гар Лилль Фландрез, от которой просачивались струйки воды. Люди испуганно перешёптывались, понимая, что море хлынуло на берег и вряд ли отступит в ближайшее время. Наблюдали за тем, как рабочие спешно заделывают все щели – любая трещина могла принести смерть. Когда, наконец, через пару недель спустились военные и начали выводить нас группами, то мы увидели, как море способно истерзать землю. Увидели, как оно способно в одночасье уничтожить всё, что составляло нашу жизнь. Всё, что делало её предсказуемой, простой и понятной.
Кале, Гравлин и Дюнкерк оказались навсегда стёрты с лица Земли.
Лилль уцелел, но больше напоминал мусорную свалку с обломками плотин, вырванными деревьями и разрушенными до фундамента домами.







