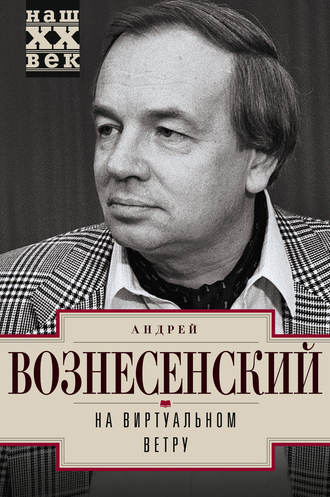
Андрей Вознесенский
На виртуальном ветру
Помню, как в тумане прослушал его доклад, где он уже хвалил Сталина и приводил нам в пример какие-то беспомощные вирши, помню, как прошел я через оживленную, вкусно покушавшую толпу. Около меня сразу образовывалось пустое место, недавние приятели отводили глаза, испарялись.
Помню, как вышел на темную мартовскую площадь Кремля. Бил промозглый ветер. Играли скользкие блики фонарей на мокрых булыжниках, уложенных плотно, один к одному, подобно скользким ухмылкам на лицах зала. Куда идти?
Кто-то положил мне лапищу на плечо. Оглянувшись, я узнал Солоухина. Мы не были с ним близки, да и потом редко встречались, но он подошел: «Пойдем ко мне. Чайку попьем. Зальем беду». Он почти силой увлек меня, не оставляя одного, всю ночь занимал своим собранием икон, пытаясь заговорить нервы. Дома у него были только маслины. Наливая стопки, приговаривал: «Ведь это вся мощь страны стояла за ним – все ракеты, космос, армия. Все это на тебя обрушилось. А ты, былиночка, выстоял. Ну, ничего…»
Я год скитался по стране. Где только не скрывался. До меня доносились гулы собраний, на которых меня прорабатывали, требования покаяться, разносные статьи. Один из поэтов, клеймивший с трибуны собрания в Союзе писателей, требовал для меня и моего подельника… высшей меры, как для изменников Родины.
На латвийском вокзале я натолкнулся на плакат, выпущенный «Агитплакатом», где разгневанные мухинские Рабочий и Колхозница выметали железной метлой из нашей страны всякую нечисть и книжку с названием «Треугольная груша». Под плакатом стояла подпись: «Художник Фомичев, текст Жарова». В. Войнович рассказывал, что такой плакат, увеличенный до гигантских размеров, стоит при въезде в Ялту. Но простые люди и на Владимирщине, и в Прибалтике, да и в Москве, не одобряя власть, конечно, очень по-доброму тогда ко мне относились.
По стране искали и клеймили «своих Вознесенских». Худо пришлось тогда И. Драчу и О. Сулейменову.
Сознание отупело. Пришла депрессия. Впрочем, я был молод тогда – оклемался. Остались стихи. Тогда написались «Сквозь строй», «М. Монро». Боясь прослушки, я не звонил домой, наивно полагая, что власти не знают, где я. Приставкин вспоминает, как я загнанно сторонился всех, опасался читать стихи. По Москве пошел слух, что я покончил с собой. Матери моей, полгода не знавшей, где я и что со мной, позвонил Генри Шапиро, журналист «ЮП»: «Правда, что ваш сын покончил с собой?» Мама с трубкой в руках сползла на пол без чувств.
Через год, будучи на пенсии, Н.С. Хрущев передал мне, что сожалеет о случившемся и о травле, что потом последовала, что его дезинформировали. Я ответил, что не держу на него зла. Ведь главное, что после 56-го года были освобождены люди.
Странно, что, несмотря на пережитое, я не испытывал обиды на него. Не испытываю и сейчас. Я долго не мог уразуметь, как в одном человеке сочетались и добрые надежды 60-х годов, мощный замах преобразований, и тормоза старого мышления, и купецкое самодурство. Да, правда, я отказался подписать поздравление к его 70-летию, когда он, Глава Державы, был в могучей силе, и редакции «Юности» пришлось разбросать подписи в виде автографов не в алфавитном порядке, чтобы не было видно, что не все подписали. Но это относилось к моему пониманию достоинства. Я никогда не забывал того, что Хрущев сделал для страны – освободил людей.
Да, мемуаристы правы: пройдя школу лицедейства, владения собой, когда, затаив ненависть к тирану, он вынужден был плясать перед ним «гопачок» при гостях, он, видимо, как бы мстя за свои былые унижения, сам, придя на престол, завел манеру публично унижать людей, растаптывать их достоинство – топал на тоненькую Алигер, на старушку Шагинян, кричал художникам в Манеже «господа педерасы!». Он не доверял интеллигенции, страшился гласности. Но он ли виноват? Виновата Система, воспитавшая его. Ныне опубликовано, как он, придя к власти, первым делом уничтожил документы о своем соучастии в кровавых расправах. Кровь тяготила его, и тем мужественнее подвиг его доклада на XX съезде.
Не он виноват, черное затмение виновато. Льстецам он лично подписывал Ленинские премии по литературе за описания своих поездок. Его помощник Лебедев, никак не будучи писателем, не постеснялся устроить себе Ленинскую премию по литературе, такую же, которую имели А. Твардовский и М. Шолохов и не имел, скажем, К. Паустовский.
Фото Хрущева с кулаком надо мной висело в витрине «Известий» на Пушкинской площади. Фото сразу украли, разбив витрину.
Потом только я понял, что напоминает жест Премьера. Именно так спускали воду, дергая за туалетную ручку, из бачка старой конструкции. Очень трудно было отыскать такую ручку для моего видеома.
Одна высокопоставленная американка рассказала мне, что во время хрущевской поездки в США их спецслужбы похитили у Никиты Сергеевича его дерьмо. На анализ. Для этого специальный уловитель был вмонтирован в трубу унитаза. По анализу хотели спрогнозировать характер Премьера: количество желчи, вспыльчивость, способность к гневу и т. д. Это, вероятно, помогло во время Карибского кризиса. Правда, они не учли, что коварные русские спецслужбы могли подставить двойника и подсунуть дезу вместо подлинника.
Историкам еще предстоит написать портрет Хрущева, его великих дел, я лишь рассказал об одном эпизоде, рассказал, что видел и пережил сам.
Что я «пробормотал» в ответ на самодержавное «вы – ничто»? Я тупо повторял: «Я – поэт».
В. Каверин, сидевший близко, расслышал другие мои слова. Он вспоминает в статье «Солженицын»: «Смертельно бледный Вознесенский говорил: „Я – ученик Пастернака“».
Я прочитал воспоминания Ромма уже в журнале и поражен точностью его памяти, даже некоторые эпитеты сходны с моими записями, например «холодный Козлов», хотя я не был даже знаком с Роммом, о чем очень жалею.
Повлияла ли встреча с царем на мою психику? Наверное. Душа была отбита стрессом. Из стихов пропали беспечность и легкость. Назло им, вопящим: «В Кремль? Без галстука?! Битник!..» – я перестал с тех пор носить галстуки вообще, перешел на шейные платки, завязанные в форме кукиша. Это была наивная форма протеста.
Тяжелей всего было видеть не торжествующие рожи врагов в зале, а ускользающие улыбки приятелей в фойе во время перерыва, прячущих глаза, будто не узнающих тебя.
В центре фойе, в кругу литклассиков, среди серых пиджаков врезалось в память весеннее салатно-зеленое платье Зои Богуславской, молодого критика и начинающего прозаика. Рядом что-то вещал Лебедев. Заметив меня, она развернулась и демонстративно на весь зал поздоровалась. Подошла. Заговорила. Номенклатура обиженно выделяла адреналин. В этом поступке, рискованном для ее судьбы, озонно проступила чистота и красота ее характера. Странно, вроде гонимым был я, но именно ее хотелось спасти, вытащить из круга вурдалаков.
Орет судилища орда.
Я прокаженным был, казалось.
И только женщина одна
подошла, не отказалась.
Живу меж темени и луж,
и черепов, как Верещагин.
И женщина, как желтый луч,
мою дорогу освещает.
Необъяснимая вещь психология – даже теперь, зная, что вся истерика Хрущева была отрепетирована, чтобы напугать интеллигенцию, испробовать угрозу высылки из страны, в душе моей остался светлый, даже святочный образ Никиты Сергеевича, он остался для меня царем-освободителем. Я не держу на него зла за себя.
Как в анекдоте о вожде: «А мог бы и бритвой полоснуть!..»
Так душа моя приобретала экзистенциальный опыт, общий со страной и в чем-то индивидуальный, что, согласно Бердяеву, и способствует созданию личности.
Многое позабылось, но подушечки пальцев помнят ледяной кремлевский стаканчик, покатившийся по трибуне, помнят четкие хрустальные крестики граней на нем. Глядишь, не останови я этот стаканчик, упади он, разбейся на весь зал – очнулся бы Премьер от припадка, обстановка бы разрядилась, прибежали бы прислужники осколки заметать, кампания сорвалась бы, не было бы ни проработочных собраний, ни всесоюзного ора, процесс развития культуры пошел бы по-иному…
Но стаканчик уцелел. Случай?
«Чем случайней – тем вернее».
Усы «землемер»
Имя Джанджакобо Фельтринелли мало что говорит сегодняшнему читателю. Миллиардер, член Итальянской компартии, впоследствии организатор «Красных бригад» и демон терроризма, в России он был известен как издатель «Доктора Живаго».
Впервые я и услышал его имя, еще будучи студентом, из уст Пастернака. Советский официоз проклинал это имя хуже Троцкого. Он считался дирижером мирового антисоветизма, наподобие издателя оруэлловской Книги.
И вот несколько лет спустя после скандала с «Доктором Живаго» в моем парижском номере раздался звонок и приглушенный голос сообщает мне, что синьор Фельтринелли прибыл для встречи со мной. Согласен ли я?
Надо сказать, что это была моя первая поездка с выступлениями, я одурел от посвященных мне полос «Фигаро», «Франс суар», «Монд» – моча ударила мне в голову, я сразу же представил грозящую в Москве расплату, торжествующие рожи номенклатуры – «Этот мерзавец еще тайно встречался с самим Фельтринелли». Я согласился.
Черный лимузин с занавешенными стеклами ждал меня за углом. Молчаливый сопровождающий итальянец таил змеиную улыбку. Пахло режиссурой триллера. Не помню, куда меня привезли – на загородную виллу или конспиративную квартиру. Ожидаю в гостиной.
Он вошел стремительно. Долговязый, фигура теннисиста, слегка сутулящийся, в сером костюме. В глазах угрюмый огонек азарта. Но главное были усы. Они свисали вниз, как у украинских террористов. Есть такие лесные темные гусеницы – дети зовут их «землемерами». Они сулят удачу. Что они отмерят мне?
Усы эти жили отдельной жизнью. Они парили под потолком, пошевеливая кончиками.
Позже, узнав в Австралии о его гибели, – он самолично пошел взрывать линию электропередачи под Миланом и не то подорвался, не то его взорвали дистанционно, – так вот, я, полетев без визы в Италию, напишу в самолете:
Фельтринелли, гробанули Фельтринелли —
как наивен террорист-миллиардер!..
Как загадочно усы его темнели,
словно гусеница-землемер.
Называли ррреволюционной корью,
но бывает вечный возраст как талант.
Это право – добываемое кровью.
Кровь мальчишек оттирать и оттирать.
Но это потом. А сейчас я разглядываю его, пытаюсь понять под решительностью скрытый наив мальчишества. Тогда я почувствовал в нем некий близкий мне авантюризм азарта – или это мне показалось, но, наверное, этим мы понравились друг другу.
Он азартно играл взрывателем мировых устоев, я играл кумира московских стадионов.
Его брюки были с манжетами, мои тоже. У молчаливого сопровождающего, как у всего Парижа, – безманжетные. Я, смеясь, сказал ему об этом.
Фельтринелли предложил мне пожизненный контракт на мировые права. Я никогда не подписывал еще договоров. Советские законы запрещали прямые контакты с издателями. А тут денежный договор! Почти вербовка!
Я согласился. Но лишь на Италию. Я вел себя, как опытный волк, невозмутимо потягивая виски.
Аванс мне предложили баснословный. Не помню сейчас цифру, но для меня, не имевшего еще ни цента от издателей, – это было сказочно. Я похолодел от восторга.
Я отказался.
Молчаливый спутник еще более онемел от моей наглости.
– А сколько бы вы хотели?
Я назвал сумму в десять раз большую. Так, по моему разумению, надо себя вести с издателями.
Фельтринелли побледнел и стремительно вышел из комнаты. Спутник пучил глаза из-под очков на сумасшедшего русского.
Ну все, ты сгорел, Андрюша!
Через три минуты дверь отворилась. Фельтринелли вошел спокойно и властно: «Я согласен».
– Как вы хотите? В чеках? Перевод на ваш счет в банке?
– Нет. Все сразу. Наличными. Кэш.
(О чеках я тогда и не подозревал, а счет в банке для советских властей звучал почти как «связь с ЦРУ».)
– Хорошо, – усы вздохнули, измеряя что-то под потолком, – но вам для этого придется приехать в Италию.
Так я совершил второе преступление (советские граждане не имели права сами обращаться в посольства за визой. Только через Москву, через Выездную комиссию.) Я пошел в итальянское консульство. Через три дня я был в Риме.
Таксисту я бросил с американским акцентом: «В лучший отель». Самый роскошный отель «Ля Виль» на площади Испании вульгарно кишел американцами и богатыми кардиналами. Я знал, что все деньги нужно потратить за неделю. Через неделю кончалась советская виза. Я был уверен, что путь в Европу для меня закрыт навсегда. Я дарил знакомым шубы и драгоценности.
Хозяин мой жил в Милане. Высокий затененный палаццо на виа Андегари – под его потолками было где попорхать усам! Они были и здесь, и витали в мировых пространствах. Дома усы были проще, домашнее.
На камине стояло ленточное фото моего чтения на стадионе, наверное специально поставленное к приходу гостя. Хозяин поделился со мной идеей организовать остров интеллектуалов, где бы мировая интеллектуальная элита мыслила, купалась, дискутировала. Ну, месяц или два. «Так меня и отпустят туда», – думал я, но восхищался. Гордостью Фельтринелли был архив революционной мысли с письмами Маркса и Бакунина. Потом я туда добавил кусок деревянного переплета окна, на который глядела царская семья во время расстрела в екатеринбургском подвале. Я выломал этот переплет, перед тем как подвал взорвали.
О «Живаго» он много не говорил. Только раз удивленно и брезгливо усы поморщились, рассказав, как Сурков, «эта гиена в сиропе», приезжал якобы от Пастернака и требовал от его имени остановить печатание. Подозревал ли он, романтично влюбленный в социализм, что «Доктор Живаго» станет главной идейной пробоиной, от которой потонет Советская Империя?
Под давлением Хрущева он перестал быть членом Итальянской компартии, пошел левее, стал субсидировать европейский терроризм и «Красные бригады». Вот чем обернулись близорукие антилитературные интриги наших властей.
Из десятка моих предложенных названий для книги он выбрал «Скриво коме амо» (пишу, как люблю).
Ангел палаццо, Инга, тогда носила оранжевые одежды, шикарно скроенные из дешевых тканей. Как сумасшедший световой зайчик поставангарда, она озаряла дом. Ее энергетика электризовала интерьеры. Дверные ручки искрило при прикосновении к ней… На подушечках ее пальцев остались скользкие шрамы – следы детства, обмороженного в Альпах.
Голова моя шла кругом. Сегодня я со стыдом вспоминаю купеческие безумства тех дней, когда я сжигал фельтринеллиевский гонорар. У меня была только неделя. Эренбург, боясь прослушки телефона, вывел меня из отеля на улицу: «Что вы, с ума сошли? Ведь вам придется возвращаться! Вы знаете, что в Москве вам готовится?!» Меня вусмерть поили. Уезжая из отеля, я забыл в беспамятстве работу Пикассо, подаренную им мне. Я вспомнил о ней в самолете.
В Москве мне было не до Пикассо.
Расплата потрясала надо мной кулаками сбесившегося Хрущева.
Читал ли вождь в моем досье о преступных отношениях с Фельтринелли? Не знаю. В погромных статьях это не упоминалось. Может быть, именно потому, что это могло быть одной из главных причин. Хотя кто их поймет?
Спасаясь от травли, я скрылся в Прибалтике, на берегу речушки Лиелупе, наивно полагая, что меня там не найдут. Больше часа я лежал в лесу, глядя в небо, закинув руки за голову.
Когда очнулся, я увидел над собой сухую ветку, по ней на фоне синего неба медленно передвигался крохотный темный силуэтик. Я узнал его. Это был «гусеница-землемер». Он шел по небу, выгибая спину. Помедлил.
Потом скрылся за горизонтом.
Апельсины, апельсины…
Нью-йоркский отель «Челси» – антибуржуазный, наверное, самый несуразный отель в мире. Он похож на огромный вокзал десятых годов, с чугунными решетками галерей – даже, кажется, угольной гарью попахивает. Впрочем, может, это тянет сладковатым запретным дымком из комнат.
Здесь умер от белой горячки Дилан Томас. Лидер рок-группы «Секс пистолс» здесь зарезал свою любовницу. Здесь вечно ломаются лифты, здесь мало челяди и бытовых удобств, но именно за это здесь платят деньги. Это стиль жизни целого общественного слоя людей, озабоченных социальным переустройством мира, носящих полувоенные сумки через плечо и швейцарские офицерские крестовые красные перочинные ножи. Здесь квартирует Вива, модель Энди Уорхола, подарившая мне, испугавшемуся СПИДа, спрей, чтобы обрызгать унитазы и ванную.
За телефонным коммутатором сидит хозяин Стенли Барт, похожий на затурканного дилетанта-скрипача не от мира сего. Он по рассеянности вечно подключает вас к неземным цивилизациям.
В лифте поднимаются к себе режиссеры подпольного кино, звезды протеста, бритый под ноль бакунинец в мотоциклетной куртке, мулатки в брюках из золотого позумента и пиджаках, надетых на голое тело. На их пальцах зажигаются изумруды, будто незанятые такси.
Обитатели отеля помнили мою историю.
Для них это была история поэта, его мгновенной славы. Он приехал из медвежьей снежной страны, разоренной войной и строительством социализма.
Сюда приехал он на выступления. Известный драматург, уехав на месяц, поселил его в своем трехкомнатном номере в «Челси». Крохотная прихожая вела в огромную гостиную с полом, застеленным серым войлоком. Далее следовала спальня.
Началась мода на него. Международный город закатывал ему приемы, первая дама страны приглашала на чай, посещала его концерты. Звезда андеграунда, режиссер Ширли Кларк, затеяла документальный фильм о его жизни. У него кружилась голова.
Эта европейка была одним из доказательств его головокружения.
Она была фоторепортером. Порвав с буржуазной средой отца, кажется австрийского лесовика, она стала люмпеном левой элиты, круга Кастро и Кортасара. Магниевая вспышка подчеркивала ее близость к иным стихиям. Она была звездна, стройна, иронична, остра на язык, по-западному одновременно энергична и беззаботна. Она влетала в судьбы, как маленький солнечный смерч восторженной и восторгающей энергии, заряжая напряжением не нашего поля. «Бабочка-буря», – мог бы повторить про нее поэт.
Едва она вбежала в мое повествование, как по страницам закружились солнечные зайчики, слова заволновались, замелькали. Быстрые и маленькие пальчики, забежав сзади, зажали мне глаза.
– Бабочка-буря! – безошибочно завопил я.
Это был небесный роман.
Взяв командировку в журнале, она прилетала на его выступления в любой край света. Хотя он и подозревал, что она не всегда пользуется услугами самолетов. Когда в сентябре из-за гроз аэропорт был закрыт, она как-то ухитрилась прилететь и полдня сушилась.
Ее черная беспечная стрижка была удобна для аэродромов, раскосый взгляд вечно щурился от непостижимого света, скулы лукаво напоминали, что гунны действительно доходили до Европы. Ее тонкий нос и нервные, как бусинки, раздутые ноздри говорили о таланте капризном и безрассудном, а чуть припухлые губы придавали лицу озадаченное выражение. Она носила шикарно скроенные одежды из дешевых тканей. Ей шел оранжевый. Он звал ее подпольной кличкой Апельсин.
Для его суровой снежной страны апельсины были ввозной диковиной. Кроме того, в апельсинном горьком запахе ему чудилась какая-то катастрофа, срыв в ее жизни, о котором она не говорила и от которого забывалась с ним. Он не давал ей расплачиваться, комплексуя со всей валютой.
Не зная языка, что она понимала в его славянских стихах? Но она чуяла за исступленностью исполнения прорывы судьбы, за его романтическими эскападами, провинциальной неотесанностью и развязностью поп-звезды ей чудилась птица иного полета.
В тот день он получил первый аванс за книгу. «Прибарахлюсь, – тоскливо думал он, возвращаясь в отель. – Куплю тачку. Домой гостинцев привезу».
В отеле его ждала телеграмма: «Прилетаю ночью тчк апельсин». У него бешено заколотилось сердце. Он лег на диван, дремал. Потом пошел во фруктовую лавку, которых много вокруг «Челси». Там при вас выжимали соки из моркови, репы, апельсинов, манго – новая блажь большого города. Буйволо-глазый бармен прессовал апельсины.
– Мне надо с собой апельсинов.
– Сколько? – презрительно промычал буйвол.
– Четыре тыщи.
На Западе продающие ничему не удивляются. В лавке оказалось полторы тысячи. Он зашел еще в две.
Плавные негры в ковбойках, отдуваясь, возили в тележках тяжкие картонные ящики к лифту. Подымали на десятый этаж. Постояльцы «Челси», вздохнув, невозмутимо смекнули, что совершается выгодная фруктовая сделка. Он отключил телефон и заперся.
Она приехала в десять вечера. С мокрой от дождя головой, в черном клеенчатом проливном плаще. Она жмурилась.
Он открыл ей со спутанной прической, в расстегнутой, полузаправленной рубахе. По его растерянному виду она поняла, что она не вовремя. Ее лицо сразу осунулось. Сразу стала видна паутинка усталости после полета. У него кто-то есть! Она сейчас же развернется и уйдет.
Его сердце колотилось. Сдерживаясь изо всех сил, он глухо и безразлично сказал:
– Проходи в комнату. Я сейчас. Не зажигай света – замыкание.
И замешкался с ее вещами в полутемном предбаннике.
Ах так! Она еще не знала, что сейчас сделает, но чувствовала, что это будет что-то страшное. Она сейчас сразу все обнаружит. Она с размаху отворила дверь в комнату. Она споткнулась. Она остолбенела.
Пол пылал.
Темная пустынная комната была снизу озарена сплошным раскаленным булыжником пола.
Пол горел у нее под ногами. Она решила, что рехнулась. Она поплыла.
Четыре тысячи апельсинов были плотно уложены один к одному, как огненная мостовая. Из некоторых вырывались язычки пламени. В центре подпрыгивал одинокий стул, будто ему поджаривали зад и жгли ноги. Потолок плыл алыми кругами.
С перехваченным дыханием он глядел из-за ее плеча. Он сам не ожидал такого. Он и сам словно забыл, как четыре часа на карачках укладывал эти чертовы скользкие апельсины, как через каждые двадцать укладывал шаровую свечку из оранжевого воска, как на одной ноге, теряя равновесие, длинной лучиной, чтобы не раздавить их, зажигал свечи. Пламя озаряло пупырчатые верхушки, будто они и вправду раскалились. А может, это уже горели апельсины? И все они оранжево орали о тебе.
Они плясали в твоем обалденном черном проливном плаще, пощечинами горели на щеках, отражались в слезах ужаса и раскаянья, в твоей пошатнувшейся жизни. Ты горишь с головы до ног. Тебя надо тушить из шланга!
Мы горим, милая, мы горим! У тебя в жизни не было и не будет такого. Через пять, десять, через пятнадцать лет ты так же зажмуришь глаза – и под тобой поплывет пылающий твой единственный неугасимый пол. Когда ты побежишь в другую ванную, он будет жечь тебе босые ступни. Мы горим, милая, мы горим. Мы дорвались до священного пламени. Уймись, мелочное тщеславие Нерона, пылай, гусарский розыгрыш в стиле поп-арта!
Это отмщение ограбленного эвакуационного детства, пылайте, напрасные годы запоздавшей жизни. Лети над метелями и парижами, наш пламенный плот! Сейчас будут давить их, кувыркаться, хохотать в их скользком, сочном, резко пахучем месиве, чтоб дальние свечки зашипели от сока…
В комнате стоял горький чадный зной нагретой кожуры.
Она покосилась, стала оседать. Он едва успел подхватить ее.
– Клинический тип, – успела сказать она. – Что ты творишь! Обожаю тебя…
Через пару дней невозмутимые рабочие перестилали войлок пола, похожий на абстрактный шедевр Поллока и Кандинского, беспечные обитатели «Челси» уплетали оставшиеся апельсины, а Ширли Кларк крутила камеру и сообщала с уважением к обычаям других народов: «Русский дизайн».







