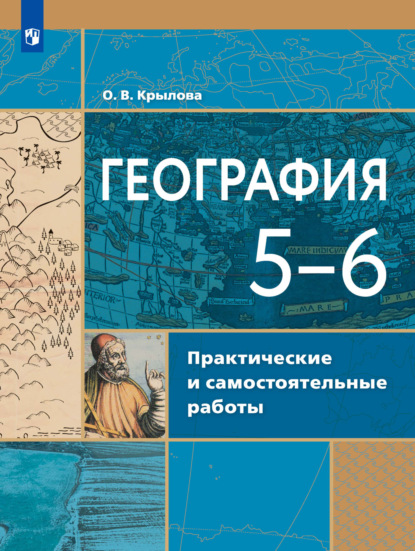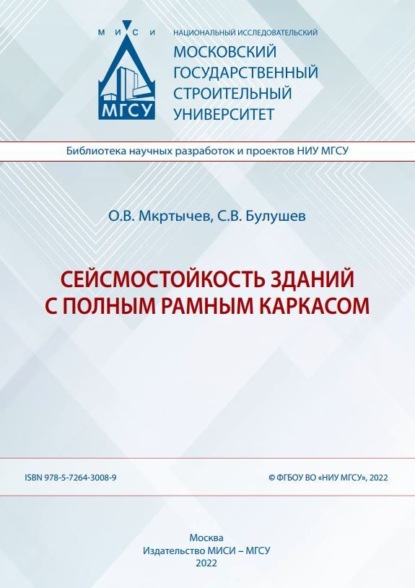Проблемы коммуникации у Чехова
Автор: Андрей Дмитриевич Степанов
Жанры:
Серия: Studia philologica
Язык: Русский
Тип: Текст
Опубликовано здесь:
Файл подготовлен:
Монография представляет собой попытку применения бахтинской теории речевых жанров к изучению поэтики художественного текста. На материале всего чеховского творчества исследуется специфика функционирования информативных, риторических, императивных, экспрессивных и фатических жанров, в том числе спора, проповеди, просьбы, приказа, жалобы, исповеди и др. Описание особенностей изображения Чеховым речевых жанров сочетается с исследованием стоящих за ними интерсубъективных и социальных категорий. Автор демонстрирует имплицитное понимание Чеховым пределов возможностей человеческого языка, самовыражения и понимания другого.
Полная версия:
Серия "Studia philologica"
Другие книги автора
Лучшие рецензии на LiveLib
От книги у меня осталось впечатление более, вероятно, радикальное, чем выводы, сделанные автором. Вот некоторые из них.Автор пишет: "Нами будет руководить гипотеза о том, что чеховский текст, ... порождается смешением / смещением жанров".Сначала - смешение. То… Далее